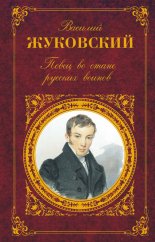Лев Толстой Шкловский Виктор

«Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Л. Н-ч. И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают вас как хотят и от чего хотят фарисеи, первосвященники. Русские люди всегда будут гордиться, считая вас своим великим, дорогим, любимым».
Подарок рабочих стекольного завода и теперь находится в яснополянском кабинете Толстого.
На передвижной выставке был портрет Толстого. Портрет сперва украсили цветами; когда портрет убрали, то цветы клали на то место, где он висел. На улицах Льва Николаевича встречали овациями; извозчика, на котором он ехал, окружала молодежь, останавливали.
В. И. Ленин писал в 1910 году: «Святейший Синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки».
Шли годы. Толстой старел, работая больше всех и видя больше всех, работая по-новому. Старое существует в новом, оно не только себя доживает, но и освещается новым, смотря на него и строя его.
Пустел дом. Ушли из дому Татьяна Львовна и Марья Львовна. Была у родителей такая сердечная боль, которую старики Толстые не переживали со времени смерти Ванечки. Уехала из дому Таня – надела серое платье, серую шляпу и уехала с совсем обыкновенным старым состоятельным мужем. Лев Николаевич записал в дневнике, что он двадцать лет все снижает свое мнение о женщинах, а теперь, после замужества Тани, еще снизил.
А когда Таня возвратилась на время домой, Лев Николаевич смеялся, радовался и повторял: «Приехала! Приехала!»
Шла сырая осень. В Ясную Поляну приходили приветствия и ругательства. Лев Николаевич продолжал работать над «Хаджи Муратом». Ему казалось, что кончить легко, если только перестанут мешать.
7 мая 1901 года Лев Николаевич записывает подряд: «Смерть, казавшаяся невероятной, становится все более и более вероятной, и не только вероятной, но несомненной». И сразу же: «Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был там особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз ясно понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи Мурате и Марье Дмитриевне».
Мысль о новом мастерстве, еще не достигнутом, все время приходит Толстому.
Лев Николаевич зимой заболел; зима теплая, сырая, все ходили вялыми, грустными, даже Андрей Львович, приехавший с собачьей выставки, не шумел и не хвастался. Льва Николаевича трясла малярия: его знобило, он тяготился жизнью, которую никак не мог вырвать из колеи размякшей, а потом замерзшей дороги.
В конце января Софья Андреевна справляла свадьбу младшего сына Миши: свадьба пышная, великосветская, пели певчие Чудовского монастыря, среди цветов и дам в нарядных платьях красовался великий князь Сергей Александрович, специально приезжавший на свадьбу, вероятно, с мыслью увидеть великого старика.
Великий князь был особенно любезен с Софьей Андреевной, в толпе восхищались моложавостью матери жениха.
Молодые поехали в Ясную Поляну.
Весной поехал туда сам Лев Николаевич и начал болеть; прописали ему хину и кофеин.
Врач П. С. Усов посоветовал везти Толстого на юг, создать вокруг него старческий образ жизни, чтобы не было ни волнений, ни работы. Все это было сделать трудно.
Льву Николаевичу уже минуло семьдесят три года. Он знал, что две жизни не прожить: утром писал, потом ходил по саду, выезжал верхом в лес. Вечером сидел с близкими.
Быстрая, решительная и энергичная Софья Андреевна решала все сама, но не знала еще, где снять дачу для больного. Вспомнили о графине Паниной, у которой было имение под Ялтой, и решили обратиться к ней – не отдаст ли она внаймы дом. Скоро получили ответ от графини Паниной, что она с величайшей радостью предоставит свое имение в распоряжение семьи Льва Николаевича и что приказание об этом уже послано управляющему. Из министерства путей сообщения получено было разрешение взять удобный вагон и прицепить его к любому поезду, чтобы доехать до Севастополя, или в случае надобности отцеплять вагон от поезда и жить в нем на железнодорожных путях.
Здоровье Льва Николаевича ухудшалось. Но по-прежнему он был аккуратен в ответах на письма, и люди, которые получали от него ответы, вероятно, не представляли себе, каково состояние их корреспондента.
Уже существовало тайное распоряжение министерства внутренних дел в случае кончины Толстого не допускать никаких демонстративных речей, действий и манифестаций.
5 сентября решили ехать. Льва Николаевича одели в шубу, посадили в коляску и отправились в Тулу. Дорога осенняя, ночная; от усадьбы до шоссе ехали, освещая березовую аллею факелами. Часов в десять вечера приехали в Тулу и сейчас же посадили Льва Николаевича в ожидающий его вагон. Толстой задыхался: у него был жар; собрался консилиум; врачи решили, что лучше везти больного на юг в удобном вагоне, чем опять возвращаться в Ясную Поляну по бездорожью. Никто не спал; к ночному поезду прицепили вагон Толстого.
В Курске утром погода была теплая, сухая. Отправили телеграмму в Харьков, чтобы приготовили на станции три бутылки молока.
Приехали в Харьков, оказалось, что станция забита людьми; по телеграмма о молоке догадались, что едет Толстой: о болезни его уже писали в газетах. Толпа не шумела, но просила, чтобы Лев Николаевич показался в окне. Он сделал это с трудом.
Поехали дальше. Утром стало совсем тепло, даже жарко; по обеим сторонам железнодорожного полотна синел Сиваш. Лев Николаевич просил открыть окна, достал записную книжку, начал работать.
В Симферополе купили виноград и поехали дальше.
Лев Николаевич узнавал места, в которых побывал во время осады Севастополя.
В самом Севастополе Льва Николаевича встретила небольшая толпа и много полиции.
Оказалось, что Толстого ждут давно и уже изверились в приезде.
Посмотрели город, бухты. Толстой вспоминал, как переправлялись под огнем по этим бухтам, как переезжали по наплавным мостам, поросшим длинными лохмами водорослей.
Полицмейстер построил колонну экипажей, сам сел на передний экипаж и понесся впереди к гостинице, показывая усердие и готовясь разогнать незаконные сборища. Ночевали в Севастополе.
Из города выехали рано.
Было тепло, пахло полынью, степь медленно подымалась. Следы великой осады были почти сглажены и поглощены сухой травой и невысоким лесом.
Лев Николаевич волновался; выходил на шоссе, смотрел на расположение редутов.
Дорога не спеша изгибалась в желтеющих лесах. Крымское небо было сине изо всех сил. Поднялись к Байдарам, и здесь за воротами распахнулся вид на Южный берег, обрыв, море, которое стояло, как будто подымаясь вверх. Спокойные орлы медленно летали над обрывом, не обращая внимания на полицмейстера. Желтизна степного Крыма сменилась синевато-багровым цветом осенних буковых лесов; внизу зеленело.
Ехали по могуче изгибающейся дороге долго. Обгоняли линейки с господами и дамами, ахающими на красоту Крыма.
Дом графини Паниной в Гаспре находится на верхней дороге, почти под самым Ай-Петри. Горы за домом поднимаются стеной. Рядом небольшая татарская деревня в пятьсот жителей и развалины старинного укрепления Гаспра Исар. Дом – шотландский замок, сложенный из дикого камня, у него две башни. Такой замок изображался на иллюстрациях к «Детям капитана Гранта» Жюля Верна. Огромный дом весь оплетен глицинией, которая вросла в камни и поднималась уже к крыше дома.
В письме к брату Лев Николаевич восторженно и несколько иронично так все это описывает: «Гаспра, именье Паниной, и дом, в котором мы живем, есть верх удобства и роскоши, в которых я никогда не жил в жизни. Вот те и простота, в которой я хотел жить. Ну, как тебе сказать: въезд через парк по аллее, окаймленной цветами, розаны и другие, все в цвету, и бордюрами к дому, с двумя башнями и домовой церковью. Перед домом круглая площадка с гирляндами из розанов и самых странных красивых растений. В середине мраморный фонтан с рыбками и статуей, из которой течет вода. В доме высокие комнаты и две террасы: нижняя вся в цветах и растениях, с стеклянными раздвижными дверями и под ней фонтан. И сквозь деревья вид на море. Наверху терраса с колоннами, шагов 40 в длину, с изразцовым полом, и внизу овраги, деревья, дорожки, дома, дзорцы и огромный вид на море. В доме все первосортное: задвижки, нужники, кровати, проведенная вода, двери, мебель. Такой же флигель, такая же кухня, такой же парк с дорожками, удивительными растениями, такой же виноградник со всеми самыми вкусными, съедобными сортами».
Лев Николаевич изумлялся и на то, что газоны поливают, и на мраморные лестницы, и на то, что «со всех сторон богачи и разные великие князья, у которых роскошь еще в 10 раз больше».
Сам Толстой в Ясной Поляне и в Москве жил в комнатах с потертыми крашеными полами.
Здесь он удивлялся на все и просил Софью Андреевну, Таню и Буланже, который его сопровождал, чтобы они как-нибудь не задели большие вазы, красовавшиеся по углам дома.
Спуск от Гаспры вниз к морю долог и труден: он идет мимо могучих кедров с пологими ветками; они кажутся не выросшими из зерна, а вырезанными из драгоценных минералов.
Внизу проходит так называемая «горизонтальная дорожка», соединяющая дворцы великих князей с царской резиденцией в Ливадии. Управляющий графини выхлопотал Льву Николаевичу право ходить по этой высочайшей тропе: право это потом было отобрано. Дорога шла над виноградниками, огибала острые скалы и была украшена золотой пестротой осени.
Еще ниже было другое шоссе, обвалы камней и могучее, знакомое Толстому море.
В конце сентября 1901 года Чехов перед деловой поездкой в Москву был в Гаспре у Льва Николаевича. Об этом он пишет А. М. Пешкову: «Перед отъездом из Ялты я был у Льва Николаевича, виделся с ним; ему Крым нравится ужасно, возбуждает в нем радость, чисто детскую, но здоровье его мне не понравилось. Постарел очень, и главное, болезнь его – это старость, которая уже овладела им. В октябре я опять буду в Ялте, и если бы Вас отпустили туда (Горький в это время жил в ссылке в городе Арзамасе, болел, и друзья хлопотали о разрешении ему отправиться в Ялту. – В. Ш.), то это было бы прекрасно. В Ялте зимою мало людей, никто не надоедает, не мешают работать – это во-первых, а во-вторых, Лев Николаевич заметно скучает без людей, мы бы навещали его».
В ноябре Чехов вернулся в Ялту.
Лев Николаевич здесь начал хворать. Собирался писать письмо царю – новая бесполезная попытка. Начал он писать царю о том, что народу надо дать землю, что нельзя преследовать за веру, а кроме того, вообще один человек не может управлять большой страной, и в результате ею управляют очень плохо случайные люди.
Письмо брался передать великий князь Николай Михайлович – человек хорошо воспитанный.
Толстой потом сам сказал, что написал человеку, держащемуся за свое место зубами, чтобы тот помог поднять тяжелое бревно.
Солнечные дни чудной крымской осени великолепны. Лев Николаевич поместился в нижнем этаже, в комнате, прилегающей к залу, окна выходили на запад и на юг, с юга окна были защищены от солнца крытой верандой.
Лев Николаевич гулял однажды в имении Воронцовых. Прекрасный дом Воронцовых представляет собой своеобразный архитектурный кентавр: сторона, обращенная к горам, сделана как английский замок, сторона, обращенная к морю, построена как мусульманская мечеть, и на мраморном портале по мрамору написано золотом по-арабски: «Богатство – от бога».
Мраморные львы спокойно лежали на уступах лестницы, идущей в морю, как будто охраняя дорогу к богатству, обеспеченному богом.
Лев Николаевич ходил по темным комнатам дворца, смотрел портреты Воронцовых, портреты тех людей, которых в молодости он знал, но издали.
Он писал «Хаджи Мурата».
Здоровье Толстого всех тревожило.
Чехов писал 17 ноября 1901 года:
«Милая моя супружница, слухи о Толстом, дошедшие до вас насчет его болезни и даже смерти, ни на чем не основаны. В его здоровье особенных перемен нет и не было, а до смерти, по-видимому, еще далеко. Он, правда, слаб, на вид хил, но нет ни одного симптома, который угрожал бы, ни одного, кроме старости… Ты ничему не верь. Если не дай бог случится что, то я извещу тебя телеграммой. Назову его в телеграмме „дедушкой“, иначе, пожалуй, не дойдет».
Письма распечатывались и просматривались, и Чехов о Толстом писал осторожно и скупо.
Но болезнь старика еще не определилась.
Внезапно по каким-то важным соображениям закрыли для него под Гаспрой царскую тропу. Лев Николаевич на смирной татарской лошадке начал ездить по нижнему шоссе. Шоссе это окружено толстыми каменными стенами, увитыми ломоносом, за стенами кипарисы, дворцы, минареты, цветы. Однажды Лев Николаевич ехал по нижней тропе. Горький рассказывает это так:
«В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская, спокойная лошадка. Серый, мягкий, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома».
Толстой ехал тихо. Горький, разговаривая со стариком, шел у стремени. Разговор был обыкновенный для Толстого: о боге, о семье.
«У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, – кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, – все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.
Проехав минуты две молча, он сказал:
– Узнали, дураки.
И еще через минуту:
– Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому».
Он спокойно презирал Романовых, и в то же время в какой-то степени ему был близок великий князь Николай Михайлович со спокойными и привычно широкими движениями гвардейца. Он даже называл в письмах к Черткову Николая Михайловича «вашим приятелем»: В. Чертков и Николай Михайлович в юности встречались. Но он давно уже пережил близость к этим людям, которые так нравились ему в молодости, когда он тянулся за Горчаковыми. Теперь для него лсшадь стала почтеннее царских родственников.
Толстому Горький и Чехов были бесконечно понятнее аристократии.
Чехова Толстой любил нежно, ревниво и требовательно. Антон Павлович не укладывался в толстовское представление об искусстве.
Год тому назад Толстой записал (13 марта 1900 года): «Искусство, поэзия: „Для берегов отчизны дальной“ и т. п., живопись, в особенности музыка, дают представление о том, что в том, откуда оно исходит, есть что-то необыкновенно хорошее, доброе. А там ничего нет. Это только царская одежда, которая хороша только тогда, когда она на царе жизни – добре». В скобках приписано: («что-то нехорошо, но так записано»).
Лев Николаевич требует от поэзии прямого добра. Пушкинская верность любви для него еще не добро, потому что эта любовь для себя, для мира. В черновике (записная книжка) записано яснее: «Искусство [музыка], поэзия – Чехов, живопись в особенности [поэзия] музыка [цыганская] дают представление о том, что что-то прекрасное, поэтическое, доброе в том, откуда оно исходит. А там ничего нет. Это только царская одежда, которая прелестна на царе жизни – добре».
Чехов оказался не только рядом с музыкой, но и с цыганским пением. В то же время он рядом с Пушкиным, он рядом с жизнью, которая сама для себя царь.
Искусство Толстого и Чехова не одевает жизнь, а поясняет, доказывает, что сама по себе неизвращенная жизнь и есть добро и есть красота. Это понимал Толстой, когда он писал «Хаджи Мурата», это понимает народная песня, но Лев Николаевич в противоречивости своей хотел облечь в царские одежды искусства догму, и это даже ему – могучему человеку – мешало.
В Гаспре он много говорил о Чехове. Горький записывает: «Вот вы, – он обратился к Чехову, – вы русский! Да, очень, очень русский!»
И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.
Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в ту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:
– Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто – чудесный!»
Вокруг Толстого собралась его семья и толстовцы. Было шумно и суетливо,
Чехов про Толстого говорил, что он, Чехов, не верит в то, что Толстой несчастлив.
О Льве Николаевиче в Крыму сохранились записки Горького, из которых я приведу еще несколько отрывков. Записки эти очень хороши, и всякий человек, который хочет понять Толстого, должен их прочесть полностью.
«Он любит ставить трудные и коварные вопросы.
– Что вы думаете о себе?
– Вы любите вашу жену?
– Как, по-вашему, сын мой Лев – талантливый?
– Вам нравится Софья Андреевна?»
Софья Андреевна Горькому внушала уважение. Он писал: «Если не ошибаюсь, в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших „мелочей жизни“ кружилась Толстая-мать, пытаясь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость „искренне сочувствующих“ посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, напоить… В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищурив умные глаза, изумляя своей неутомимостью, умением всюду поспеть вовремя, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом».
Задыхался и хрипел Сухотин – муж Татьяны Львовны, уныло и безуспешно искал партнеров для преферанса Сергей Толстой.
Здоровье Льва Николаевича ухудшалось.
Все требовали внимания и забот Софьи Андреевны. Что касается Льва Львовича, то он был очень похож на своего отца в молодости, но имел до удивительности маленькую голову.
Лев Львович сам писал все время, споря с отцом, поправляя его; в противовес «Крейцеровой сонате» он написал повесть «Ноктюрн Шопена»: в этой повести женщина, которую пытался убить муж, оставалась живой: вместо нее хоронили куклу, а она уходила в монастырь. Он писал самые невероятные вещи и всегда антитолстовские, с разоблачениями; печатался он в «Новом времени»; фельетонист Буренин тут же высмеивал Льва Львовича, называя его «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев». Льву Львовичу было, однако, уже 32 года.
Выздоровев, Лев Николаевич написал сыну письмо, он тяготился его ничтожеством, обижался и все же хотел примириться с ним. Получив письмо, Лев Львович вышел в соседнюю комнату, разорвал конверт, прочел письмо, недовольно качая маленькой головой, потом сложил все вместе, изорвал мелко-намелко и бросил в сорную корзину.
Судьба жестоко покарала Льва Львовича. После революции он уехал в Америку и на старости в картинах играл роль Льва Толстого. Гримироваться ему почти не приходилось, а голозу увеличивали подкладкой под парик.
22 ноября 1901 года Чехов писал жене: «Толстой здоров, температура у него нормальная и пока нет ничего такого, что особенно бы пугало, кроме старости, конечно».
9 декабря Чехов говорил с Толстым «в телефон».
В декабре Толстой зашел к Горькому: было тепло. Лев Николаевич принес розово-лиловый крупный полевой цветок и рассказал, что миндаль собирается зацвести.
Новый, 1902 год встречали в Гаспре. Управляющий графини Паниной, немец Классен, пришел с фиалками. Лев Николаевич играл с ним, Гольдзнвейзером и сыном Сережей в винт.
Вскоре Толстой заболел серьезно.
Погода в Крыму испортилась: выпал снег и лежал долго.
Настроение в доме было выжидательное и тяжелое. Ухаживала за Львом Николаевичем жена – умело и внимательно. Приходил Горький, Сулержицкий, приехал врач Бертенсон; стали бояться, что Толстой умирает. Он спрашивал о Соне, беспокоился, спала ли она, ела ли, засыпал опять.
Впрыскивали камфару.
Он бредил: «Севастополь горит». Раз, когда дежурил Буланжо, Толстой, проснувшись, спросил его:
– Граф или князь?
Потом объяснил, что наместник на Кавказе Воронцов был графом, а потом получил княжеское звание, он боится, что в рукописи неверно назвал его князем; попросил навести справку.
К февралю положение стало совершенно безнадежное. Толстой был спокоен и просил: «…не загадывайте вперед, я сам не загадываю».
Вокруг Толстого было несколько врачей: Альтшуллер, земский врач Волков, Савицкий и Амазасп Органджаньян.
Лев Николаевич тосковал. Софья Андреевна настойчиво требовала, чтобы он ел рыбу и курицу, а не морковь. Она была убеждена, что вся беда от вегетарианства. Толстого лихорадило, но он дописал и отправил Николаю II смягченное, хотя для царя все же жестковатое, письмо.
Из Петербурга в конце января приезжали доктора Бертенсон и Щуровский. Софья Андреевна смягчилась; она записывает 26 января: «Мой Левочка умирает… И я поняла, что и моя жизнь не может остаться во мне без него… Сколько любви, нежности я отдала ему, но сколько слабостей моих огорчали его! Прости, господи!.. На днях он где-то прочел: „Кряхтит старинушка, кашляет старинушка, пора старинушке под холстинушку“. Потом Толстой заплакал и прибавил: „Я плачу не от того, что мне умирать, а от красоты художественной…“
Впрыскивали морфий, давали шампанское. Потом воспаление начало разрешаться со всех сторон. Температура начала спадать.
Софья Андреевна записывает 10 февраля о том, что Лев Николаевич послал Льву Львовичу примирительное письмо. Дальше Софья Андреевна пишет: «Взволновали мою маленькую душу разные объявления о концертах, об исполнении вещей сочинения С. И., и я, как голодный хочет пищи, вдруг страстно захотела музыки и музыки Танеева, которая своей глубиной так сильно на меня действовала».
Потом опять произошло ухудшение; об этом узнали в столице. Софья Андреевна получила письмо от петербургского митрополита Антония, увещевающего убедить Льва Николаевича примириться с церковью. Софья Андреевна сказала мужу: «…если бог пошлет смерть, то надо умирать, примирившись со всем земным и с церковью тоже», – на это Л. Н. ей сказал: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?»
Толстой приказал жене ничего не отвечать. Потом узнали, что в домовой церкви находится в засаде священник со святыми дарами, который должен попытаться прорваться к умирающему Толстому или в крайнем случае выйти после смерти его с чашей и сказать, что великий грешник примирился с богом и умер прощенным.
Было туманно, под Гаспрой в море гудел пароход. Лев Николаевич балансировал между жизнью и смертью и то был бодр, то тосковал. Наконец здоровье начало поправляться.
Наступила весна 1902 года. Зазеленели деревья, зацвели и начали отцветать персики. Цвело иудино дерево и засыпало землю цветами, как красным снегом.
Голубой пеной цвела глициния на камнях панинского дома.
2 апреля 1902 года Чехов пишет академику Н. П. Кондакову: «Л. Н. Толстому лучше, это несомненно, болезнь (воспаление легких) миновала, но все же он слаб, очень слаб, только недавно стал сидеть в кресле, а то все лежал. Ходить будет еще не скоро. Я был у него третьего дня, и он показался мне выздоравливающим, но очень старым, почти дряхлым. Много читает, голова ясная, глаза необыкновенно умные».
В апреле Софья Андреевна поехала в Ясную Поляну проверить, как яблоневые сады и хозяйство. Вернулась она в Гаспру, и оказалось, что здоровье Толстого ухудшилось: началась новая болезнь, которую через некоторое время определили как брюшной тиф. Состояние духа Льва Николаевича угнетенное. Он сам сказал жепе: «Устал, устал ужасно и желаю смерти».
В начале июня Лев Николаевич стал поправляться, ходил по саду с палочкой. Он был покорно-кроток, начал опять писать.
Стали собираться обратно в Ясную Поляну.
Лев Николаевич выздоравливал медленно. Софье Андреевне казалось, что жизнь Толстого кончена; настанет другая жизнь – старца. Она чувствовала усталость, перебиваемую нежностью воспоминаний, думала, что теперь Лев Николаевич будет жить стариковской жизнью, – завернутый в теплое, переходя с дивана на кресло для того, чтобы поесть кашку. Внимательно следил за болезнью Толстого Чехов, который сам был врачом, и хорошим. Он не верил в полное выздоровление.
Толстой, по словам Чехова, мог еще прожить несколько лет и мог умереть внезапно. Прожил Лев Николаевич еще восемь лет, пережив Чехова.
25 июня Лев Николаевич решил возвращаться в Ясную Поляну. До Севастополя ехал он пароходом для того, чтобы избежать тряски. На пароходе «Святой Николай» встретил его Куприн. Утро было веселое, море беспокойное. Лев Николаевич приехал на двуконном экипаже с поднятым верхом. Из коляски показалась нога в высоком болотном сапоге. Она по-старчески искала подножки, потом медленно вышел Толстой, В коротковатом драповом пальто, в подержанной шляпе котелком на иззелена-седых волосах.
Куприна, как писателя, Толстой любил. Куприн подошел к нему. Толстой пожал ему руку своей большой, холодной, негнущейся старческой рукой и заговорил утомленным, старческим голосом.
За Толстым шел Максим Горький; люди – все снимали шляпы.
Толстой шел спокойно, веселея от моря, ветра, от людей, от подъема лебедки. Прозвонили второй и третий звонки. От ялтинской пристани отвалил неуклюжий, приземистый грузовой пароход «Святой Николай». Лев Николаевич сидел на палубе в кресле. С парохода его приняли в Севастополе на лодку и подвезли к вокзалу. До отхода поезда оставалось часа четыре.
Лев Николаевич хотел отдохнуть в маленьком садике вокзала. Он очень устал. Но вышла дама и сказала ему:
– Это сад начальника дистанции.
П. А. Буланже, несколько мистифицируя, ответил:
– Позвольте больному немного отдохнуть.
– Проходите, проходите, – ответила дама, – иначе позову сторожа.
– Оставьте, – сказал Лев Николаевич, – не будем ей делать неудовольствие, я могу уйти.
Прошли в вагон. Вокруг вагона начали скопляться люди, потом образовалась давка. Минут за пять до отхода поезда две дамы подошли к вагону и вызвали проводника. Старшая дама сказала:
– Я хочу просить прощенья. Он был у нас сегодня в саду. Я сказала, что в саду нельзя быть. Но я же не могла думать, что это сам Толстой.
Пробил второй звонок.
– Мы приготовили букет из нашего сада. Передайте и попросите от меня прощенья.
Поезд поехал. Ехал Лев Николаевич усталый. Ехали цветы.
Осенью в Ясную Поляну приехал писатель С. Я. Елпатьевский, который в Ялте ухаживал, как доктор, за Толстым. Толстого он в доме не застал. Лев Николаевич был на своей обычной прогулке. Спустились сумерки, зажгли огни в доме, когда внизу хлопнула дверь.
Елпатьевский сидел на втором этаже в большой гостиной. Толстому сказали, что у него гости. Он взбежал по лестнице через ступеньки, еще с лестницы сказал доктору:
– Здравствуйте!
Потом показалась знакомая фигура Толстого, его седые волосы, раздвоенная борода.
– А ну-ка, присядьте! – сказал Толстой, поднявшись в зал.
Елпатьевский не сразу понял, что хочет Лев Николаевич.
– Вот так! – сказал Толстой и присел сам быстро и умело, почти до пола, потом легко и эластично вскочил.
– Где за вами, Лев Николаевич, угоняться? – сказал доктор.
Толстой был доволен и тем, что взбежал на лестницу, не задыхаясь, и тем, что доктор присел и подпрыгнул хуже его, и тем, что он сам в это время писал и кончал «Хаджи Мурата».
«Хаджи Мурат»
26 июля 1902 года Софья Андреевна записывает в дневнике: «Лев Николаевич здоров, несмотря на 12 градусов тепла, дождь, сырость. Играл весь вечер в винт, слушал с удовольствием музыку. Пишет по утрам свой роман „Хаджи Мурат“, и я радуюсь этому».
Начинаются записи о работе. 9 августа написано: «Он пишет повесть „Хаджи Мурат“, и сегодня, видно, плохо работалось, он долго раскладывал пасьянс, признак, что усиленно работает мысль и не уясняется то, что нужно».
Так идут записи – неделя за неделями. Лев Николаевич здоров, ездит верхом, пишет «Хаджи Мурата». Ничто в мире как будто не может поколебать его настроения, а между тем в доме неприятностей много. В доме не забывают о литературных правах. В Гаспру собрались огорченные родственники, но они же были и наследники. В Распре Марья Львовна – любимая дочка Толстого – по его просьбе сделала выписку из дневника. В этой бумаге написано было следующее:
«Мое завещание приблизительно было бы такое. Пока я не написал другого, оно вполне такое.
1) Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу – как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпеванья. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще.
2) В газетах о смерти не печатать и некрологов на писать.
3) Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову В. Г., Страхову и дочерям Тане и Маше (что замарано, то замарал сам. Дочерям не надо этим заниматься), тем из этих лиц, которые будут живы. Сыновей своих я исключаю из этого поручения не потому, что я не любил их (я, слава богу, в последнее время все больше и больше любил их), и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить. Дневники мои прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить, точно так же и в дневниках моей женатой жизни прошу уничтожить все то, обнародование чего могло бы быть неприятно кому-нибудь… Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь: жизнь моя была обычная дрянная, с мирской точки зрения, жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, производят ложно одностороннее впечатление и представляют…
А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить его.
Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не все, а то только, что может быть полезно людям.
Все это пишу я не потому, чтобы приписывал большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперед знаю, что в первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них и приписывать им важность. Если уже это так сделалось, то пускай мои писанья не будут служить во вред людям.
4) Право на издание моих сочинений прежних: десяти томов и «Азбуки» прошу моих наследников передать обществу, т. е. отказаться от авторского права. Но только прошу об этом и никак не завещаю. Сделаете это – хорошо. Хорошо будет это и для вас, не сделаете – это ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет, было самым тяжелым для меня делом в жизни…»
Софья Андреевна спокойно отнеслась к домашнему завещанию Льва Николаевича, потому что оно не имело формального характера и, в сущности, было не завещанием, а еще одним разговором о совести.
Софья Андреевна думала о своих детях, вела их дела и к этому времени, заключая договоры с типографиями, сталкиваясь с артельщиками, покупая и продавая земли, сама действуя по доверенности, хорошо знала, что такое формально составленная, обязательная для исполнения бумага. Поэтому она просто отодвинула от себя толстовское письмо, подписанное им во время смертельной болезни. Ей казалось, что опасность уже прошла; Толстой был занят: он писал «Хаджи Мурата».
Было даже какое-то удобство в том, что Толстой написал письмо. Грозное его решение как будто уже совершилось, но совершилось в форме не обязательной; на это милое чудачество можно было улыбнуться.
Лев Толстой подписал это завещание. Об этом Софья Андреевна, очевидно, узнала уже в Ясной Поляне и была возмущена. По ее мнению, Марья Львовна потому не имела права вмешиваться в дело наследования, что она в свое время отказалась от своей доли при разделе имений, а потом при замужестве все-таки взяла.
Произошла ссора. Марья Львовна и муж ее говорили, что она обнародовала бы бумагу после смерти Льва Николаевича.
Марья Львовна с мужем хотели уехать из Ясной Поляны. 23 октября Софья Андреевна записывает: «С Машей помирились, она осталась жить во флигеле Ясной Поляны, и я очень этому рада. Все опять мирно и хорошо».
Дальше идет запись о новой болезни Толстого и о «Хаджи Мурате». «Осень, невыносимо грязная, холодная и сырая. Сегодня шел снег.
Лев Николаевич кончил «Хаджи Мурата», сегодня мы его читали: строго-эпический характер, выдержан очень хорошо, много художественного, но мало трогает. Впрочем, прочли только половину, завтра дочитаем».
В следующие дни записи о том, как дочитывали книгу, нет.
Трудно распутывать историю рождения художественного произведения. Вероятно, и сам автор не до конца знает, как родилась, осмысливалась тема, как найден был и затем изменялся ее основной конфликт, как она перестраивалась, напитываясь реальными подробностями.
К 1905–1906 году относится сообщение П. И. Бирюкова: «Мне помнится, как уже в последние годы его жизни, когда я собирал биографический материал и обращался к нему за разъяснениями, я попросил его припомнить обстоятельства его последнего путешествия в Оптину пустынь. Я знал, что он тогда гостил у своей сестры в Шамординском монастыре, и я спросил его, чем он был тогда занят.
Совсем сконфузившись, шепотом, чтобы никто не слыхал, приблизившись ко мне и вместе с тем с заблестевшими глазами, он сказал: «Я писал „Хаджи Мурата“. Это было сказано тем тоном (простите за вульгарное выражение), каким школьник рассказывает своему товарищу, что он съел пирожное. Он вспоминает испытанное наслаждение и стыдится признаться в нем».
Семка, Пронька и Федька поняли бы Льва Николаевича потому, что тогда в лесу, говоря о страшном и героическом, они спросили своего великого друга, зачем песни.
Лев Николаевич запел Хаджи Мурата полным голосом, когда надвигалась в его стране непонятная, как бы спорящая с ним, первая русская революция. Он писал «Хаджи Мурата», узнав об англо-бурской войне, о новых войнах, которые мы теперь называем империалистическими. Он заново понял, для чего сражался Хаджи Мурат, он писал справедливую повесть о том, как невиноватые в войне, носящие на спинах рубцы от старых побоев, русские солдаты, среди которых есть люди, мечтающие о побеге в горы, идут занимать секрет, о том, как над ними горят звезды и те же звезды светят воину из мужиков, Хаджи Мурату, который мальчиком видал свое изображение только на дне вычищенного таза, а потом стал полководцем.
Три названия носила повесть: «Хаджи Мурат», «Репей» и «Хазават». «Репей» – это рассказ о том, как человек колюче отстаивает свою независимость, сражается до гибели. «Хазават» в толковании Толстого – это война крестьян за свою землю, за право не платить подати, за право есть то, что заработал. «Хазават» для Толстого не религиозная война, а война за крестьянское право. Хаджи Мурат так рассказывает о проповеди муллы Магомета: «…сначала был мулла Магомет. Я не видал его. Он был святой человек – мюршид. – Он говорил: „Народ! Мы ни магометане, ни христиане, ни идолопоклонники. Истинный магометанский закон – вот в нем: магометане не могут быть под властью неверных. Магометанин не может быть ничьим рабом и никому не должен платить подати, даже магометанину“.
Толстой 4 апреля 1897 года записал в дневнике: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи Мурате – о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман».
Хаджи Мурат в повести не магометанин, не христианин, не идолопоклонник – он воин за крестьянскую сзободу.
Ему нет пути. Путь его у Шамиля – это слава, почет, но не крестьянство, это другая тирания. Путь его у Николая – это деньги, почет, но русские топчут крестьянские поля. Шамиль становится таким же тираном, как и Николай, и от тирана Шамиля к тирану Николаю бежит Хаджи Мурат; навстречу ему бежит от тирана Николая русский солдат и радуется случайной пуле, которая избавила его от вины – измены на самой границе родины, радуется, что смертельная пуля была чеченской.
Обо всем этом Толстой несколько раз рассказывал в черновых редакциях вещи.
Трудно разгадать законы художественного творчества, потому что прикосновения действительности к искусству не локальны; это не удары шара о шар, это магнитное поле, которое изменяет линии, не соприкасаясь, это энергия, превращающаяся в материю, и это и есть действительность.
Лев Николаевич наслаждался тем, что он вернулся домой, в Ясную Поляну, к тем лесам, по которым когда-то бродил с ребятами, тогда учениками, рассказывая им про Хаджи Мурата. Ребята наслаждались страхом; они, как вы только что прочли об этом, говорили с ним о том, как убили тетку Льва Николаевича, и в то же время, жалея, переживали страх не тетки, а повара, который зарезал тетку барина, а потом шел по лесу, боясь.
Лев Николаевич писал книгу.
Он возвращался все время к одному и тому же, пересматривая старое, написанное, он умел не путаться в рукописях, в вариантах, что, вероятно является признаком гениальности.
22 июля 1902 года Лев Николаевич приступил к работе над «Хаджи Муратом», через два дня – 24 июля – записано в «Настольном календаре»: «Пересмотрел всего Хаджи Мурата». На другой день тут же отмечено: «Начал Хаджи Мурата с его рождения», – и в этот же день Лев Николаевич еще раз перечитал старые рукописи и записал: «Пересмотрел старое. Много годного».
В одном из вариантов он рассказал:
«В 1812 году в Аварском ханстве в ауле Хунзахе в одну и ту же ночь родили две женщины: одна была ханша Паху-Бике, а другая – жена одного горца красавица Фатима. Паху-Бике знала Фатиму и вперед подговорила ее в кормилицы. Фатима выкормила Омар-хана, а ее мальчик умер. Но зато с тех пор она стала приближенной к ханше, перестала нуждаться, и оба старших мальчика ее Осман и Хаджи Мурат выросли в доме ханов и росли, играли и джигитовали с ханскими сыновьями».
Это начало совпадает с началом книги, которая не была закончена, – «Труждающиеся и обремененные». Там это звучало так:
«Глава 1-я. Родится молодой князь и в то же время родится ему слуга».
Это было одно из начал романов о столкновении крестьянина с барином. Это столкновение переносилось то в самарские степи, то под Хиву, то в степи прикитайские.
Это вечная тема Толстого.
Хаджи Мурат родится мужиком, его мать отстаивает право выкормить своего сына, хан требует ее в кормилицы, но она не отдала младенца даже тогда, когда ее ударили кинжалом.
Толстой сам написал об этом песню, которая не сохранилась в последних вариантах:
«Одно солнце светит в небе, одна радость в сердце Патимат – это черноглазый Хаджи Мурат. Хотят тучи отнять у народа солнце. Но солнце разгоняет их и посылает дожди на землю. Хаджи Мурат обливается кровью на груди матери, но грудь эта кормит Хаджи Мурата, а не чужого щенка, и не заходит солнце за горы в сердце Патимат».
В «Хаджи Мурате» старая тема о том, что родился барин и родился ему слуга, изменилась. Родился мужичий сын, и мать не пошла из-за него в слуги к барину.
Вырос сын и начал сражаться; был он несчастлив, его рубили, арестовывали, ему приходилось прыгать в пропасти, но он не покорился.
Толстой, изображая, как сражается Хаджи Мурат, пишет: «Так и надо, так и надо».
Когда после десятилетий ссор, терпения, компромиссов Толстой ушел из Ясной Поляны, бежал на волю неизвестно куда в жестком ночном, дымном и полосатом от света свечей, заключенных в узкие фонари, вагоне, то, верно, он был доволен; он выходил на холодный тамбур подышать. Бежали знакомые места, с которыми он прощался, дуло ноябрьским ветром, стучали колеса – они стучат что хочешь.
Тогда они, по-моему, стучали:
«Так и надо. Так и надо».
Много было вариантов к великой повести Толстого, но ощущение правоты сражающегося все время сохранялось и увеличивалось. «Хаджи Мурат» – это и есть та крестьянская повесть, которую всю жизнь хотел написать Толстой.
В 1878 году он сталкивал крестьянина с барином, об этом есть заметка в тетради С. А. Толстой «Мои записи разные для справок».
Где-то в Сибири или в Самаре живут засланные мужики, к ним попадает декабрист; дается «простая жизнь в столкновении с высшей». Толстой прибавлял: «Вот, например, смотреть на историю 14-го декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать».
В «Хаджи Мурате» Лев Николаевич в столкновении простой жизни с высшей научился осуждать и разоблачать Николая Павловича; зло власти, тирании стало одной из главных тем повести. Для того чтобы развернуть ее, Толстой не жалел годов работы и читал для этого тысячи страниц.
В «Хажди Мурате» у Толстого есть враг: этот враг – враг крестьян. Он враг горцев, он мешает им собирать на своем поле кукурузу, он враг русских крестьян, которых он истязает, посылая на Кавказ.