Русский полицейский рассказ (сборник) Коллектив авторов
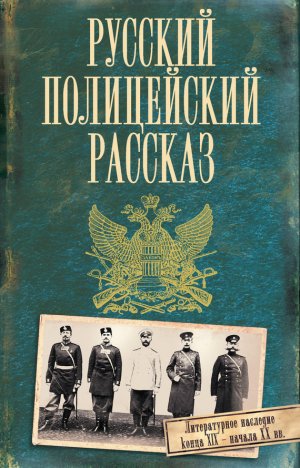
Однако прошел и день, и два. Боразова хотя и очень искали, но не находили.
Как раз в Страстную субботу шел Никитин с предместья, где жил, на пост, и так у него на душе тяжело и смутно. Только подходит к нему мальчик-пастушок, что коров смотрел в пригороде и Никитина корову гонял, и говорит:
– Дяденька Никитин. А я видел того рабочего, что людей побунтовал, а сам убег.
Так и встрепенулся Никитин:
– Где ты видел?
– К парому шли, возле Неменчина, я коров гнал, видел. Я его знаю и хозяйку его знаю. Идут оба, она ребенка несет, а он узел с вещами.
– Как, что!.. – засуетился Никитин.
Должно быть, скрывались где-нибудь эти несколько дней, а теперь вышли и пробираются к парому, чтобы перейти на ту сторону реки, а там до границ 7 верст, уйдут, и поминай как звали.
– Да какой же паром? – сказал мальчик. – Ведь река пошла.
– Да, они не перейдут. Вот теперь догнать и арестовать.
Едва дождался городовой конца своего дежурства, бросился в участок, переговорил, что надо, с приставом, отпустили его на 6 часов сверх 6 свободных, сбегал к товарищу, здесь же живущему, попросил не в очередь отдежурить, достал лошадь верховую, надел штатское платье и помчался. До парома 15 верст, те пешком идут, женщина больная, да еще и ребенок на руках, не скоро дойдут.
Погода стояла сырая, промозглая, не то дождь, не то туман. Едет Никитин, сердце стучит, а в ушах бум… бум… Колокола в монастыре к службе звонят. И время-то какое выбрали – Пасха на дворе!.. Но вот и Неменчин, деревенька, у которой паром ходит через реку. Только не видно парома: правду сказал пастушок, река идет, вон как льдины мчатся, всю середину реки заняли.
Подъехал Никитин к домику, где сторож жил, лошадь ввел во двор, привязал, сам пошел к дому. Тихо, пусто, никого не видать. Только когда обошел он весь двор, на лавочке у стены увидел старого-старого деда, сидит, голову опустил, точно дремлет. Поздоровался с ним Никитин, присел, заговорил.
Стал расспрашивать, кто живет в домике, отчего тихо так. Старик ему и рассказал, что пришли какие-то люди, мужик с бабой, и просят перевезти в лодке на ту сторону, но сын его, который сторожем при этом домике, не хочет, отказывается везти, боится, чтобы лодку не перевернуло льдиной, так вот пошли они с мужиком по соседям просить, не согласится ли кто на своей лодке перевезти, а баба с младенцем в избе сидит.
Встал Никитин, подошел к окошечку, прильнул лицом к стеклу. Видит: одна баба у печки возится, хозяйка, должно быть, а другая, сейчас – узнал он Дашу – сидит на лавке, кормит ребенка, лицо осунулось, потемнело, глазами уставилась в угол избы, а слезы так и бегут, так и бегут по щекам… У Никитина все в голове завертелось, жалость такая острая вдруг схватила за сердце, что сам, кажется, заплакал бы, если бы мог. Чем она виновата?
Отошел от окна, стоял-стоял, опустив голову, потом медленно подошел к лошади. Отвязал дрожащими руками, сел и отъехал немного за избу, на бугре стал и смотрит.
А мысли в голове мчатся, мчатся. То кто-то как будто говорит: городовой, в чем же твоя служба? Где твоя присяга, долг, обязанность!.. А в ушах – бум-бум – в монастыре колокола звонят, и перед глазами лицо женщины, измученное, залитое слезами. И видит он со своего бугра, как подъехала к берегу лодка, в ней три человека сидят, один выпрыгнул, вошел в избу, вывел закутанную женщину, узел с вещами вынес, сели все, двое по веслам ударили, а третий с шестом в руках стоит, управляется, едут через реку, медленно, тихо, между льдинами скользят, то вперед, то в сторону проедут, но, однако ж, до другого берега добрались. Вышли муж с женой, на гору стали подыматься, прошли немного берегом и скрылись в лесу. А городовой медленно повернул и поехал к городу.
Одна дума: завтра, да еще сегодня к вечеру через реку больше не пройдешь, лед сильно идет… А до границы 7 верст. И как будто вымерло все в душе.
Вернулся Никитин домой; мрачнее тучи, лицо у самого такое, точно болело неделю, прилег было, а потом встал, вышел. Жена что-то стала спрашивать, говорила о том, в какую церковь к заутрене пойти, он ничего не ответил, отвернулся от нее.
Стоял на посту своем 6 часов, как раз до 12, когда колокола радостно зазвонили, что он передумал за эти 6 часов, исполняя свою обязанность по привычке, машинально, почти бессознательно, он и сам сказать бы не мог.
Пошел он на другой день в участок, доложил, что преступника нигде не видел. А когда пристав стал кричать:
– Как не видал, такой-сякой?.. Как же ты сам говорил, что он к парому шел к Неменчину, видели люди!
Никитин довольно смело поглядел в глаза приставу и опять сказал:
– Виноват, пропустил, должно быть, только никак нет, не видал!
Вс. Попов
Взятка
Рассказ
I
В N-ском участке города X шли обычные утренние занятия; был двенадцатый час; человек двадцать публики терпеливо ждали очереди в канцелярии у стола двух писцов, заверявших пенсионные книжки, почтовые повестки, отписывавших донесения на выезд за границу.
В соседнюю с канцелярией комнату, на дверях которой была надпись «кабинет помощника пристава», публика беспрерывно входила и выходила. Прием проводил один из двух помощников Всеволожский – «очередной» сегодня – и едва успевал всех удовлетворять: был понедельник, день, в который участок посещает особенно много народа, а благодаря тому, что суббота был тоже день не присутственный, – посетителей было еще больше.
К двум часам дня публики стало меньше, выдалась минутка, когда Всеволожский мог взяться за газету. Едва успел он пробежать несколько строк, как в комнату вошел посетитель, с утра сидевший в канцелярии и ожидавший, по-видимому, момента, когда он останется один.
Всеволожский неохотно отложил газету в сторону, но все же любезным тоном проговорил:
– Что угодно?
– Вы меня не узнаете, господин Всеволожский? – заискивающим голосом произнес посетитель.
– Позвольте, позвольте, вы ведь Григорьев, у которого в пивной я обнаружил беспатентную продажу водки из кофейных чашек. Когда же вы укажете мне, наконец, свидетелей, могущих, как вы уверяете, удостоверить, что водка подавалась прислугой без вашего ведома? Прошел уже месяц: я держу протокол, о котором было даже забыл за массою дела, и не направляю в ожидании обещанных свидетелей.
– Бога ради, не губите меня и потрудитесь обождать еще неделю. Посетители моей пивной, как вам известно, преимущественно студенты, и трудно мне очень найти среди них таких, которые согласились бы фигурировать на суде. Но вы не беспокойтесь, еще неделя, и свидетели будут. Придержите протокол, я буду вам очень благодарен за это, – подчеркнул последнюю фразу Григорьев, скроив униженную и жалкую физиономию.
– Хотя это и не в моих правилах, ну да Бог с вами, неделю еще подожду, но не больше. Помните, что ровно через неделю протокол пойдет, и вы не избежите, вероятно, тюрьмы, – произнес Всеволожский, берясь за газету.
– У меня еще к вам дело, господин Всеволожский, хотел обратиться к приставу, да их нет сейчас в участке, все равно и вы разрешите мое сомнение.
– А что еще у вас там такое?
– Видите ли, я хочу у себя на бильярдах позволить посетителям игру «бикс» и не знаю, нужно ли иметь для этого особое разрешение губернатора или нет.
– По правде вам сказать, я игр на бильярде не знаю, так как на нем не играю. По логике, мне кажется, будет ли то «бикс», «пирамидка» или «три шара» – безразлично. И раз у вас на постановку бильярдов в пивной есть разрешение губернатора, на каждую игру в отдельности нет надобности иметь особое разрешение. Я помню, в городе N, где служил приставом, в местном чиновничьем клубе частенько сражались в «бикс», в бильярдной же там вывешено было разрешение губернатора на постановку бильярдов, и об играх в них ничего не говорилось. Да и никогда я не видел таких разрешений с перечислением допускаемых игр.
– А я законов-то не знаю и решил справиться в участке. Рад, что застал именно вас, так как моя пивная ведь в вашем районе. Теперь, значит, завтра и позволю посетителям играть в «бикс», а то уж очень они просят об этом; спрашивал и у местного надзирателя, так и он мне посоветовал обратиться лучше к приставу или к вам. А с протоколом не откажите обождать с недельку; если, храни Бог, присудят меня в тюрьму, закроют, конечно, пивную, и придется с семьей идти по миру. Свидетелей представлю, не беспокойтесь, – и, откланявшись, Григорьев вышел из кабинета.
Всеволожский взялся за газету и сейчас же забыл о посещении Григорьева и о его «биксе», как и о других многочисленных посетителях сегодняшнего дня с их делами.
II
Выйдя из участка, Григорьев направился к себе в пивную. Не раздеваясь, он прошел в так называемую «секретную» комнату, где за солидной выпивкой и закуской сидел толстый, неуклюжий околоточный надзиратель.
– Ну что, как дела, Семен Петрович? – проговорил с трудом надзиратель, пережевывая изрядный кусок балыка.
– Восхитительно, Иван Дмитриевич, лучшего и желать не нужно. С протоколом Всеволожский обещал обождать, а что такое «бикс», он, видно, и понятия не имеет; приравнял эту игру к «пирамидке» и решил, что может ее допустить. Я у двери кабинета, на всякий случай, поставил незаметно лакея Ивана, который и слышал наш разговор; лучше, знаете, иметь свидетеля на запасе. Вижу по всему, Всеволожский не помешает «биксу».
– Так-то оно так, а по-моему, следует вам завтра отправить пару четвертных Всеволожскому, хоть и строит он из себя не берущего, все же оно спокойнее будет. Второй год он у нас, и никак разобрать не могу, бестия ли он продувная или же действительно взяток не берет. По вашему пакетику узнаем. Ну-с, а теперь вынимайте, почтеннейший, сотенную для пристава да мне обещанных пятьдесят рубликов за месяц вперед. Не забывайте же, что ежемесячно за «бикс» я получаю с вас принципалу сто и для себя пятьдесят рублей. Наживайте себе капиталы да знайте нашу доброту, – улыбнулся во весь рот надзиратель.
– Сию минуточку, Иван Дмитриевич, вот, получите, – засуетился Григорьев, вынимая бумажник, отсчитывая деньги и вручая их околоточному.
Тот аккуратно пересчитал и сунул их в карман.
– Уж лучше я отошлю Всеволожскому деньги сегодня, – решил Григорьев и, отложив пятьдесят рублей, запечатал их в конверт вместе со своей визитной карточкой, написав на конверте адрес, и поручил явившемуся на зов человеку отнести на квартиру Всеволожскому.
– Сколько же вы рассчитываете, Семен Петрович, в день загребать на «биксе»? – поинтересовался надзиратель.
– Оставаться мне будет в вечер рублей двадцать – тридцать, не больше; румыны, что ставят эту игру, тоже около этого заработают. Разумная игра, доложу вам, и публика моя будет удовлетворена, ну и мы, конечно, не останемся в обиде: будут случаи, когда игрок на рубль ставки возьмет десять – двадцать пять рублей, конечно, это будет в расчете румын-банкометов, ну а больше, разумеется, отдавать будут или брать самые пустяки. Вот эта-то возможность на целковый взять четвертной билет и дает нам заработок; а азарт увеличится еще от присутствия пива да кофе в сорок градусов, что у меня подается в чашечках.
От последней остроты оба приятеля захихикали.
– Смотри только, как бы доноса кто не черкнул, – предупредил, вставая и одеваясь, надзиратель, – плохо тогда придется вам, мы-то с приставом выкрутимся, не впервой.
– Не извольте беспокоиться, Иван Дмитриевич, в «секретной» будем орудовать, после 12 часов ночи, когда публика только избранная да известная останется. В «семерку» не первый месяц перекидываются, и ничего, без доноса обходимся, и здесь без него обойдемся.
– А с местным агентом сыскного отделения сладили?
– Само собой, благо большой любитель «звонкой монеты», – улыбнулся Григорьев, пожимая руку уходившему надзирателю.
По уходе околоточного Григорьев потер от удовольствия руки, предвкушая хороший заработок, и принялся за текущие распоряжения по «Табельдоту», – так называлась его пивная со столовой, довольно популярная среди студентов и другой учащейся молодежи.
III
Возвратившись домой в четвертом часу дня, Всеволожский нашел у себя на письменном столе конверт с «приложением» от Григорьева.
«Видно, расчувствовался от моего согласия на отсрочку отправки протокола. Странный здесь народ, признательность свою выражает полиции только деньгами. Жаль Григорьева, если не найдет свидетелей; человек он, видимо, небогатый, живет только со своего „Табельдота“, и придется ему с ним распроститься. Однако деньги нужно будет ему отослать обратно; без них ждал месяц, по протекции почтенного Ивана Дмитриевича, обожду и еще неделю», – решил Всеволожский, спрятал деньги в портсигар, чтобы не забыть это сегодня же сделать, и отправился на зов жены обедать.
– Знаешь, Володя, – встретила его жена, – Иде сказали сегодня в гимназии, чтобы она не являлась завтра на уроки, если не внесем платы за право учения. Ребенок все плачет, никак не может помириться с мыслью остаться без гимназии, к которой успела привыкнуть за несколько месяцев.
– Вот беда, и что делать, ума не приложу! – взволнованно заговорил Всеволожский. – До двадцатого еще больше недели; расплатившись за квартиру, дрова, по лавочке и казначею, останутся самые пустяки. Не будь проклятых старых долгов, по которым производят удержания, сводили бы кое-как концы с концами, а теперь не знаю, что и делать, где перехватить пятьдесят рублей на уплату за право учения Иды.
– И когда, наконец, назначат тебя, Володичка, здесь приставом! При переводе в Х. обещали первую вакансию, а ее все нет как нет; тогда бы, при казенной квартире и увеличенном жалованье, расплатились бы с долгами и зажили бы спокойно.
– Не прогонять же для меня приставов! Авось кто-либо из них получит повышение, вот меня и назначат. Пока же нужно потерпеть, меньше осталось, больше ждали.
Наскоро пообедав, Всеволожский с озабоченным видом отправился в спальню, чтобы, по обыкновению, часок прикорнуть. На этот раз заснуть ему сразу, как всегда, не удалось; мешало предстоящее увольнение дочери. Всеволожский перебрал всех немногочисленных знакомых и не нашел среди них такого, у которого можно было бы перехватить пятьдесят рублей. Да и как их было сразу отдавать?! Ведь восемьдесят рублей предстоящего жалованья давно распределены на самое необходимое, не терпящее отлагательства. У сослуживцев по участку не хотелось занимать, можно было ожидать отказ под приличным предлогом, чувствовалось, что относятся они, почти все, чуть ли не враждебно.
Всеволожский открыл портсигар, чтобы взять папиросу, и увидел полученные сегодня от Григорьева две двадцатипятирублевки.
«Разве оставить у себя эти деньги, ведь я беззакония не делаю, обождать свидетелей я и нравственно имею право. За возможность реабилитировать себя Григорьев, как человек коммерческий, и выражает свою признательность деньгами. Нет, – остановил себя Всеволожский, – не стоит, это взятка, хоть и „безгрешная“, как бы сказали многие из моих сослуживцев, но все же незаконная. Однако, что же делать, как избежать увольнения Идочки?!»
Всеволожский опять стал перебирать знакомых для займа, но, как и в первый раз, подходящего не нашел.
«Ничего не поделаешь, придется придержать до двадцатого числа григорьевские деньги, завтра отнесу их в гимназию, а при получении жалованья попрошу казначея не удерживать взятых вперед, дровянику и лавочнику заплачу на этот раз только половину и, когда Григорьев явится со свидетелями, возвращу ему деньги. Другого выхода нет».
На таком решении беспокоившего его вопроса Всеволожский заснул.
Вечером он рассказал жене о выходе, к которому пришлось прибегнуть, и на другой день утром, скрепя сердце, отнес деньги в гимназию, к великой радости Идочки, девятилетней гимназистки.
IV
Дня через три после описанного Всеволожский, придя утром в участок, узнал от пристава, что накануне поздно вечером, по анонимному доносу губернатору, полицмейстер с нарядом полиции, явившись в пивную Григорьева, обнаружил там незаконную азартную игру «бикс» и беспатентную продажу водки.
– И знаете ли, Владимир Михайлович, – закончил свой рассказ пристав, – мерзавец Григорьев заявил полицмейстеру, что будто бы вы разрешили ему устроить в «Табельдоте» эту игру.
– Ничего подобного, – быстро проговорил побледневший Всеволожский, – Григорьев действительно оказывается негодяем, ведь и я у него как-то обнаружил продажу водки из кофейных чашек.
– Вот как?! Я доложу непременно об этом полицмейстеру. Ну, бегу на рапорт, а то запоздал, – и пристав, взглянув на часы, исчез.
По уходе пристава Всеволожский стал взволнованно ходить из угла в угол кабинета.
«Вот так история, оказывается, „бикс“ азартная и запрещенная игра! И как я не догадался раньше рассказать приставу о посещении Григорьева; я ему не придал никакого значения, успел даже забыть. Теперь, конечно, поздно. И здесь еще этот проклятый протокол, и чего я сказал о нем, теперь выходит, как будто я в приятельских отношениях с Григорьевым, умышленно не направил протокола и покровительствую сомнительным играм в его пивной. Счастье еще, что свидетелей моего разговора с Григорьевым не было».
Всеволожский вынул из стола протокол, приказал занести его в настольный и немедленно с нарочным отправил в акцизный округ. Через полчаса была доставлена обратно разносная книга с распиской в получении пакета с протоколом.
Возвратившись с рапорта, пристав первым делом потребовал справку о протоколе Григорьева и был очень удивлен, когда увидел, что, составленный месяц тому назад, он записан по настольному и разносной только сегодня. Всеволожский на вопрос пристава, путаясь и волнуясь, объяснил причину задержки.
– Я верю вам, Владимир Михайлович, – сказал пристав, – а вот полицмейстер, в связи с заявлением Григорьева о разрешении вами ему «бикса», наверное, посмотрит на все это иначе; как бы вам не нажить большой беды, – и, взяв справку, пристав ушел к полицмейстеру.
Всеволожский не выдержал и разразился сильнейшим нервным припадком, потребовавшим медицинской помощи. Вызванная в участок карета скорой помощи отвезла его домой.
V
Вечером в гостиной у пристава сидел с поникшей головой и печальным видом Григорьев.
– Я советую вам, господин Григорьев, – говорил стоявший перед ним пристав, – для некоторого улучшения вашего дела и для спасения вашего «Табельдота» от закрытия подать завтра же лично губернатору прошение, в котором и указать, как вы сами говорите, что не знали о «биксе» как игре запрещенной, допустили ее с разрешения Всеволожского; сошлитесь и на лакея Ивана, как свидетеля этого разрешения. Да кстати, доказывая чистосердечность своего заявления, упомяните обязательно и о том, что за задержку протокола о водке, подаваемой прислугой без вашего ведома, вы по требованию Всеволожского внесли пятьдесят рублей, которые и отослали ему на квартиру с вашим человеком. Думаю, что прошением этим вы спасете пивную от закрытия, и губернатор ограничится только штрафом, поняв, что вы были введены в заблуждение Всеволожским, который, нужно думать, был в сделке с румынами, поставившими у вас игру. Этого обстоятельства тоже не забудьте упомянуть в прошении; румыны, очень кстати, скрылись из города и не могут быть допрошены. Вот и все, что я могу вам посоветовать, обещав при этом и свою поддержку на случай запросов о вас.
– Я очень благодарен вам, господин пристав, и исполню все, что вы советуете. Понять не могу, что за негодяй написал аноним о «биксе», лишив, таким образом, нас некоторого заработка, а меня, быть может, и пивной; ее, впрочем, потом я могу открыть и на имя моей сожительницы. Еще раз спасибо за совет. До свидания, – и, положив на стол аккуратно сложенную сторублевку, Григорьев ушел.
– Ловко пронесло! – самодовольно улыбаясь, произнес пристав, пряча деньги. – И двести рубликов заработал, и невинность перед начальством не потерял; кстати, и от святоши Всеволожского освободился; не по участку он нам, очень не по участку.
Через неделю после дознания, произведенного по приказанию губернатора, чиновником особых поручений лежавшему еще в постели после нервного припадка Всеволожскому был объявлен приказ об увольнении его со службы с преданием суду.
В тот же день в местных газетах, в отделе хроники появилась заметка о закрытии «Табельдота» Григорьева за допущение в нем азартных игр.
Вс. Попов
Не достоял на посту
Набросок из полицейской жизни
Городовому Ковальчуку оставалось до смены с поста всего полчаса. Стоял он на одном из многочисленных перекрестков главной улицы большого города К. и считался одним из лучших городовых команды С-кого участка вообще, а в отношении постовой службы в особенности. Не говоря уже о том, что Ковальчук был очень представительный городовой, службист он был необыкновенный. За девять лет службы он ни разу не был оштрафован, не знал, что такое дисциплинарное взыскание, и всегда ставился в пример начальством другим городовым. Полицейскую службу Ковальчук любил, отлично знал, на посту прямо-таки священнодействовал, и не было случая, чтобы он сделал какой-либо промах или получил замечание за ту или другую неисправность. С публикой Ковальчук был всегда очень вежлив, в своих требованиях удивительно настойчив, уличные недоразумения всегда быстро и толково улаживал, а дворников и ночных сторожей держал, как говорится, в страхе Божьем.
Сегодня товарищ Ковальчука, сменявший его, запоздает на полчаса; он просил Ковальчука разрешить ему это, так как хотел проводить на поезд жену, приехавшую издалека его навестить.
На часах городской думы пробило двенадцать; на соседних постах заступили новые городовые. Ковальчук сделал взад и вперед несколько шагов и снова замер, поворачивая только беспрерывно голову то в одну, то в другую сторону. Движение было на улице, как и всегда, очень большое: беспрерывно проезжали вагоны трамвая, наполненные публикой, сновали взад и вперед автомобили, бесконечной вереницей проезжали извозчики, собственные экипажи, велосипедисты, верховые, на панелях двигались многочисленные прохожие; звонки вагоновожатых и велосипедистов, рев автомобилей и трескотня извозчичьих дрожек наполняли улицу и заглушали собой разговор публики.
Взглянув на карманные часы, Ковальчук увидал, что прошло всего десять минут, как он стоит на посту за товарища, а ему казалось, что прошло уже более получаса. Обыкновенно последние полчаса шестичасового напряженного пребывания на посту бывали особенно тяжелы, чувствовалось сильное утомление, какое-то одеревенение ног и потребность свободно пошагать хоть с четверть часа, а потом лечь и по крайней мере с час неподвижно лежать; это все обыкновенно и проделывал Ковальчук после каждой смены с поста; сегодня же приходилось простоять лишних полчаса, и они казались необыкновенно длинными, а постовая служба очень тяжелою, сказывалась привычка вовремя смениться после стойки навытяжку и напряженного внимания в течение шести часов.
Ковальчук повернулся по линии улицы, чтобы сделать обычные несколько шагов взад и вперед, и вдруг остановился; его зоркий глаз увидел на большом расстоянии, несмотря на сильное движение, какой-то необычный беспорядок в конце улицы: с панелей сбегали люди, махали зонтиками, палками и убегали назад; экипажи бросались врассыпную от какой-то массы, быстро продвигающейся вперед; ей бросился было навстречу соседний городовой, но потом почему-то отскочил в сторону. Ковальчук наконец увидал, что мчавшаяся масса – запряженная в дышло, взбесившаяся пара лошадей; был виден уже и кучер, безрезультатно пытавшийся сдержать их. В нескольких десятках шагов от Ковальчука одна из вожжей лопнула, кучер свалился с козел и, запутавшись ногами в конце вожжей, тянулся за экипажем, в котором сидела, или, вернее, лежала в обмороке богато одетая дама, около нее плакали в отчаянии две девочки лет 7 и 10.
Ковальчук смерил глазами расстояние между собой и несущимся навстречу экипажем и храбро стал ждать его приближения. Расстояние быстро уменьшалось, еще момент, и Ковальчук, перекрестившись, при крике ужаса, вырвавшегося у многочисленной публики, остановившейся на обеих панелях, повис на дышле между голов взбесившихся лошадей, последние взвились на дыбы, подмяли под себя сорвавшегося городового, протащили небольшое расстояние, стали уменьшать шаг и были, наконец, остановлены сбежавшимися городовыми из соседних постов с публикой. Кучер, который скоро после падения с козел умудрился освободить ноги, отделался легкими ушибами, дама и дети были невредимы. Ковальчука вытащили из-под экипажа без чувств, была вызвана карета скорой помощи, врач которой обнаружил сильные ушибы на теле и перелом левой руки и ноги.
На другой день во всех газетах и в приказе по полиции было отмечено о самоотверженном поступке городового Ковальчука. Через неделю полицмейстер вручил ему в больнице денежную награду, переданную мужем и отцом спасенных городовым; кроме того, Ковальчук получил поощрение от своего непосредственного начальства, отметившего геройский поступок незаметного исполнителя служебного долга.
Вс. Попов
На волосок от смерти
Из воспоминаний пристава
I
Это было в ужасные октябрьские дни 1905 года, насколько помню, 23 числа.
Около 12 час. дня начался погром, который дружным усилием чинов полиции и подоспевшими войсками удалось остановить. Пострадало сравнительно небольшое количество мелких лавок на базаре да несколько еврейских квартир.
Эти два-три часа, в течение которых продолжался погром, казались мне тогда целою вечностью, не хотелось верить, что происходит это наяву, и много раз, чтобы увериться, не сон ли видишь, приходилось щипать себя.
Я помню, и во время погрома, и после него, да и теперь приходится слышать от известной части населения о том, что погромы организовала полиция. Сколько наглой лжи в этом! Лгущие хорошо знают, что лгут, но продолжали, иногда продолжают и теперь делать это с известною целью.
Через полчаса-час после начала разгрома я с взводом терских казаков (их больше и не было тогда в Ч., где я служил приставом), оцепив большую толпу громил-крестьян соседних деревень, гнал ее с базара. Нам лежала на пути улица, заселенная преимущественно евреями. Едва мы показались на ней, как по нам была открыта стрельба из револьверов еврейской молодежью, предусмотрительно скрывавшейся за воротами усадеб этой улицы. Пули свистали около нас, все мы были верхом и представляли из себя прекрасную мишень, помню, казаку сзади меня была пробита папаха, другому – пола черкески. К счастью, еврейчики оказались плохими стрелками, из нас никто даже не был ранен, пострадал только оказавшийся на дороге русский извозчик, которому пуля угодила прямо в лоб.
II
В тот же день 23 октября около двенадцати часов ночи, когда базары в городе были оцеплены войсками, по улицам, в предупреждение могущего возникнуть вновь погрома, ходили патрули. Я с помощником пристава пошел проверить посты городовых. На базаре мы остановились поговорить с прапорщиком Д., занимавшим здесь с полуротой одну сторону оцепления. Темнота, помню, была ужасная, мы едва различали друг друга. Город как-то зловеще замер, не слышно было обычных прохожих, дребезжания извозчичьих дрожек. Едва мы успели перекинуться несколькими словами, как насторожились, нам показалось, что кто-то из-за угла подкрадывается. Вслед за этим прожужжала пуля, и около нас что-то грузно упало. Мы бросились туда – оказывается, человек. Раздобыли огня и с удивлением видим, что в двух шагах от нас убит молодой еврей, видный революционный деятель в городе. Пуля угодила ему в висок, около него валяется револьвер, заряженный на все патроны, и запас последних в карманах.
По-видимому, убитый, в лучшем случае, подходил послушать, что мы говорим, хотя для этого не нужно было держать в руках заряженный револьвер, и неожиданно был сражен пулей единомышленника, который направлял ее на нас, на свет папирос, которые мы курили.
III
16 декабря 1907 года меня экстренно вызвали в охранное отделение города К., где я тогда служил, и поручили произвести обыск в квартире местных анархистов-коммунистов.
Со мною отправился один из помощников охранного отделения У., интересующийся результатом обыска
Захватили мы с собою двух городовых и отправились. Дело было в пятом часу вечера, было уже темно. Пригласив дворника и швейцара, мы все вместе взобрались на третий этаж огромного дома, в квартиру, где от жильцов снимал комнату руководитель местных анархистов.
Квартиру, по-видимому, занимали мирные обыватели, не подозревавшие, кого они у себя приютили.
Мы поставили с черного хода городового, другого и дворника – в комнатах хозяев квартиры, а со швейцаром и хозяйкой отправились в комнату ее жильца, выходившую в парадную переднюю.
Первое, что бросилось в глаза, – записка на столе, как сейчас помню, такого содержания: «Просидели у вас с часу дня. Пошли обедать, сейчас придем. Не уходите никуда, ждите нас, теперь три часа, придем в четыре». Едва мы успели прочесть ее, как в передней раздался звонок. У. бросился туда и сейчас же стал звать меня на помощь. Я побежал к нему. Навстречу У. толкнул мне молодую еврейку, а сам схватил бывшего с ней в передней молодого еврея. Все это было делом нескольких секунд. Я с еврейкой, с силой вырывавшейся от меня, незаметно очутился уже в комнате обыскиваемого, причем обратил внимание на то, что еврейка усиленно возится с муфтой, прижатой ко мне. Не успел я еще ничего предпринять, как из передней раздались крики У. Я передал вырывавшуюся еврейку растерянно стоявшему здесь швейцару и бросился на помощь к У. Было как раз вовремя. У., одетый в тяжелую шубу, попал как-то в узкий проход между дверью и шкафом и едва сдерживал сильного еврея, который успел уже освободить одну руку и вытаскивал револьвер. Вдвоем мы обезоружили его и сдали прибежавшим на шум из внутренних комнат городовым. У еврейки в муфте оказался заряженный браунинг. Уже после того, как он был у нее отобран, она заявила, что искренно жалеет о своей растерянности: оказывается, забыв о предохранителе, она все время нажимала собачку для выстрела, рассчитывая выпустить все пули обоймы мне в живот, и только случайность спасла меня от смерти. Парочка эта – опасные анархисты, приехали для совершения террористических актов. В квартире у них был найден большой запас оружия и патронов. Еврей оказался уже осужденным за покушение на убийство полицейского чиновника к смертной казни, замененной бессрочною каторгой, и скрывшимся из тюрьмы. Все это были члены отряда анархистов, который в ту же ночь полицией был ликвидирован, к счастью, очень удачно, без кровопролития. Все эти «деятели» были приговорены военно-окружным судом к каторге на разные сроки.
Вс. Попов
Лукавый попутал
Набросок из жизни
– А что, генерал дома? – спросил околоточный надзиратель Кротов открывшую ему дверь бойкую горничную.
– Барин дома, сейчас доложу, – ответила та, насмешливо осматривая не первой свежести пальто надзирателя.
– Скажите генералу, что его желает видеть по делу местный околоточный надзиратель, – добавил Кротов, входя в просторную переднюю.
Минут двадцать надзирателю пришлось ждать в передней, и, не будучи уверен, что генерал примет его, он не снимал пальто.
Отставной генерал-майор Ржищев был домовладелец одной из центральный улиц большого университетского города, в довольно обширном околотке Кротова. Ржищев был старый холостяк, отличался скупостью и слыл среди соседей-домовладельцев за богатого и странного человека. Из экономии генерал не держал для своего огромного двора с многочисленными квартирами управляющего и вел все дела по усадьбе сам, с помощью одного дворника. Несмотря на аккуратность, по двору Ржищева оказались нарушения по прописке жильцов, и по этому вопросу, ввиду сообщения адресного стола, Кротов и явился сегодня к генералу.
Наконец в переднюю вошла горничная.
– Пожалуйте, барин вас ждут, – обратилась она к надзирателю.
Тот стал поспешно снимать пальто. Горничная с видимой иронией смотрела на старенький костюм Кротова и не пошевельнулась, чтобы помочь ему раздеться.
Пройдя через обширную гостиную, в сопровождении горничной, Кротов очутился в кабинете генерала. Последний сидел за письменным столом, заваленным книгами и бумагами, и не сразу оторвался от какого-то письма, которое читал, по-видимому, с большим вниманием.
– В чем дело? – спросил он Кротова, небрежно кивнув головой на его почтительный поклон.
– По дому вашего превосходительства имеются нарушения по прописке. Адресный стол сообщил об этом в участок, и мне поручены к исполнению по этому делу переписки.
– У меня нарушения?! – удивленно протянул генерал. – Это неправда, подворную книгу веду я сам, и нарушений быть не может.
– Извольте взглянуть, – протянул Кротов три бумаги.
Ржищев внимательно их прочел и вдруг, взволнованный, вскочил из-за стола.
– Скажите-ка вашему приставу, или кто там вас прислал, что полиции следовало бы внимательнее следить за кражами, которые у нас в городе не редкость, а не заниматься такими глупостями, как это, – швырнул он по направлению Кротова бумаги.
– Во всяком случае, ваше превосходительство, я покорнейше прошу дать объяснения на переписках, – проговорил Кротов, подбирая с полу переписки.
– Объяснений я никаких не дам. Можете уходить. До свидания.
– Как будет угодно вашему превосходительству, а об отказе дать объяснения я отмечу на бумагах, – заявил Кротов и, откланявшись, повернулся к двери.
– Обождите, а во сколько могут меня оштрафовать? – спросил Ржищев.
– Думаю, не больше как по 25–50 рублей за нарушение, ведь у нас в городе военное положение.
– Однако… За такую ерунду и такой крупный штраф, это возмутительно.
– Это еще не крупный – по обязательному постановлению высший штраф в 3000 руб., но к вашему превосходительству его, вероятно, не применят, так как это нарушение только случайность, и, быть может, вам придется уплатить только рублей двадцать пять, не больше.
– Слушай, дорогой мой, – вдруг сразу переменил свой тон генерал, – нельзя ли это пустое дело как-нибудь похерить. Да что вы стоите – присядьте. Вы курите? Вот папиросы.
Кротов остался стоять, поблагодарив за любезное предложение.
– Видите ли, голубчик, мне жаль бросать деньги за такое пустячное дело, которое по существу и выеденного яйца не стоит. Сплавьте куда-либо эти бумаги, а вместо штрафа я охотно вас поблагодарю.
– Простите, ваше превосходительство, – смутился Кротов, – но это никак нельзя, да и взяток я не беру.
– Помилуйте, какая же это взятка – просто благодарность за вашу любезность. Теми десятью рублями, что предлагаю, и я буду наказан, и вы получите некоторое удовлетворение. Я ведь знаю, мой дорогой, что не сладко живется на ваше мизерное жалованье, – убеждал генерал, посматривая на сильно потертый мундир Кротова и сапоги в заплатах, – а предлагаемая сумма будет просто моей субсидией вам, ведь я, как крупный домовладелец, задаю вам много хлопот.
– Нет, нет, ваше превосходительство, – нерешительно запротестовал Кротов, – все это никак невозможно.
В это время в передней зазвонил телефон, и Ржищев, извинившись, вышел туда.
– А ведь десятка-то вот как пригодилась бы мне, – подумал Кротов, – у Кольки тиф, не знаю, чем сегодня буду платить доктору за лекарство. Дрова на исходе, а тут еще Маня и Сережа босиком бегают – никак не соберусь ботиночки, хоть на толкучке, купить.
И Кротову живо представилась его убогая квартира из двух комнат в полуподвале, болезненная жена за швейной машиной, купленной в рассрочку, и пятеро ребят.
Прослужив долгое время писцом в участке на 30 руб. в месяц, Кротов третий год как выбрался в околоточные надзиратели и отличался своим трудолюбием и осторожностью по отношению к «безгрешным доходам». Плохо и тяжело ему приходилось, но он все же держался. Во время службы в участке ему кроме жалованья перепадало кое-что от публики за справки и т. п., таким образом, заработок его и швеи-жены для них с пятью ребятами хватал на жизнь. За три года Бог послал ему еще трех потомков, жена стала хворать и жаловалась на слабость глаз, мешавшую ей работать как прежде, – и вот теперь круто приходилось и с пятидесятирублевым жалованьем околоточного надзирателя.
– Рискнуть разве, и взять деньги от генерала, а с переписками как-либо улажу в адресном столе, благо на это там мастера есть, – колебался Кротов, услыхав, что Ржищев разговор кончил и дал отбой.
– Ну, получите же и похерьте эти глупые переписки, – проговорил генерал, входя в кабинет и протягивая десять рублей. В то же время вошла и горничная.
Кротов нерешительно взял деньги, но вдруг замялся, заметив горничную, смотревшую на него с презрительной улыбкой. Ржищев это заметил.
– Иди пока, Настя, я тебя потом позову, – приказал он и поспешил успокоить смущенного Кротова: – Она ничего не поняла, не беспокойтесь. Кроме нас, никто не узнает об этой нашей маленькой миролюбивой сделке. До свидания, благодарю вас, – добавил генерал, протягивая милостиво Кротову два пальца.
Через полчаса после ухода околоточного надзирателя Ржищев начал уже жалеть о данных деньгах.
– И что за блажь у меня выбросить 10 руб., – волновался он, – ведь нарушение у меня не злонамеренное, заявить я забыл людей вполне благонадежных, стоило мне только съездить к губернатору, объясниться, и меня, если бы не избавили совсем от взыскания, то наложили бы штраф в 1–3 руб. Просто надзиратель нарочно меня напугал, чтобы вытянуть взятку, – рассуждал скупец, забывая, что деньги навязал он сам, – вот так не обдумаешь всего, попадешь наивно на удочку, и в результате – выброшенные на ветер деньги.
В тот же день дворник генерала передавал губернаторскому швейцару письмо, в котором Ржищев жаловался на околоточного надзирателя Кротова, получившего от него обманным образом взятку в 10 руб. в присутствии горничной Анастасии Клименко, под угрозой штрафа за какие-то нарушения по прописке.
* * *
У полицмейстера шел утренний рапорт приставов, которые видели, что полковник был сегодня не в духе, и ждали грозы. Выслушав по очереди всех приставов, полицмейстер взял со стола письмо, на котором была сделана пометка рукой губернатора: «Полицмейстеру доложить завтра на рапорте в чем дело», – и передал его приставу С-кого участка.
– Полюбуйтесь, чем занимается ваш хваленый Кротов: вымогательство денег у генерала – как вам это нравится?
Пристав пробежал письмо Ржищева губернатору с жалобой на околоточного надзирателя Кротова и доложил:
– Кротов сегодня на рапорте в участке представил мне деньги, насильно сунутые ему в карман пальто генералом Ржищевым. Он был очень огорошен неожиданною щедростью этого скупца. Генерал, как бы шутя, вытолкал надзирателя из квартиры, и тот не успел вернуть ему деньги. Я представляю их вам, г. полковник, при рапорте.
– Ах, вот в чем дело! – обрадовался полицмейстер. – Ржищев чудак со странностями и, по-видимому, рассчитывал отделаться таким образом от штрафа за нарушения. Потом, нужно думать, смекнул, что надзиратель ему здесь не в состоянии помочь, пожалел 10 руб. и, чтобы спасти их, решился на такую симпатичную комбинацию. И до чего только не доводит скупость!
– Конечно, г. полковник, – согласился пристав, – Кротов, безусловно, честный и трудолюбивый служащий и взяток не берет. Я его три года знаю и, кроме хорошего, ничего не могу сказать.
* * *
Вернувшись от рапорта, пристав С-кого участка прошел в кабинет и приказал вызвать к себе надзирателя Кротова.
Не прошло и получаса, как тот был уже в участке и застал пристава шагающим в волнении из угла в угол кабинета.
– Закройте двери, – отрывисто сказал он Кротову.
Тот исполнил и стал ожидать распоряжений.
– Вынимайте 10 руб., которые получили от генерала Ржищева, и давайте их сюда, – проговорил пристав.
Кротов сразу побледнел и взялся за карман.
– Я… виноват, г. пристав… почти все уже истратил… – залепетал он… – первый раз в жизни… крайность… ребенок больной… доктор… дети без ботинок… холод в квартире… – но слезы не дали ему продолжать.
Пристав подошел к Кротову, положил руку на плечо и стал его успокаивать.
– Видит Бог, – с трудом проговорил Кротов, – это в первый раз – прямо лукавый попутал, если бы не нужда. Не поддался бы… Простите – клянусь, больше этого не повторится, – и он зарыдал.
– Выпейте воды и успокойтесь, – сказал пристав, давая стакан воды – я верю и знаю, что взятку вы взяли в первый раз, и от души рад, что она так неудачна, иначе бы, может быть, за ней пошла вторая, третья, а там и без конца. Трудно замарать руку раз, а дальше это легко делается. Расскажите же, как все это случилось с вами.
Кротов подробно рассказал все то, что известно читателям.
– Счастливы же вы, что я нашелся, когда полицмейстер сегодня на рапорте преподнес мне письмо Ржищева губернатору, – и пристав передал испуганному Кротову все, что произошло у полицмейстера.
– Успокойтесь, теперь опасность миновала, но знайте, что, если лукавый попутает вас еще раз, я в защиту не стану.
Кротов со слезами на глазах благодарил отца-начальника, находчиво спасшего его от позора.
Нужно ли говорить, что эта взятка была у Кротова последней.
Лев Хорват
Инкогнито
I
Никогда еще не чувствовал себя так хорошо Лев Эразмович Прутиков, один из видных чиновников губернского города Энска, как в данную минуту, сидя в купе 2-го класса и мягко покачиваясь на пружинных подушках дивана. Он обманул всех и вот едет инкогнито в каком-то втором классе.
– А право, недурно – tout a fait comme il faut![19] – думает Прутиков, оглядывая чистенькую обстановку вагона.
Он с наслаждением растянулся на диване, подложив под голову свою лисью, крытую синем сукном поддевку.
– Совсем как какой-нибудь прасол или commis voyageur[20], – улыбнулся он.
Прутиков аппетитно затянулся дорогой папиросой и привычным красивым движением хотел было поправить галстук и вдруг вскочил как ужаленный:
– Ба-а-атюшки! Анну-то, Анну забыл снять! – Озираясь по сторонам, хотя в купе никого не было, он бережно снял орден и спрятал его в боковой карман.
– Фу, как это глупо: поддевка и орден на шее!
Но тут же сладкая мечта, мечта о том, как будет обрадована милая Элеонора Рувимовна, когда он исполнит проигранное пари a discretion[21] и лично привезет ей ее любимый крафтовский шоколад, – заставила его слегка улыбнуться.
Да спасибо Крафту – молодец! – думает он, поглядывая с довольной улыбкой на продолговатый сверток, в котором бережно была завернута дивная, ценная бонбоньерка, наполненная по его, Прутикова, указанию.
– Молодец, Крафт!
Но вдруг легкая гримаска искривила его безукоризненно выбритые губы:
– А что, если совсем не будет извозчиков на станции? Да нет, не может быть! – тотчас же успокаивает он себя.
Еще вспомнилось, как, приезжая погостить летом к очаровательной баронессе фон Кук, он видел возле станции много извозчиков. Положим, тогда обладательница 3000 десятин высылала за ним чудных рысаков, а теперь… и Лев Эразмович слегка вздохнул, предвкушая всю прелесть предстоящей поездки.
Уже совсем свечерело, когда Прутиков высадился на станции, бережно неся в руках свои вещи.






