Скажи волкам, что я дома Брант Кэрол
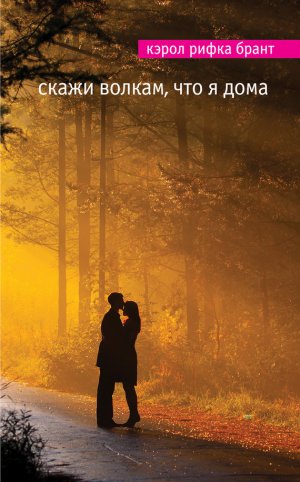
— Да, с рисованием у меня плохо. Это был просто такой курс занятий. Лучше ты мне расскажи, что там интересного в «Клойстерсе».
— А вы разве там не были?
Он покачал головой.
Я отвернулась, чтобы он не увидел моей улыбки. Мне не хотелось, чтобы он понял, как меня радует, что Финн показал это волшебное место только мне одной.
— Расскажи, — повторил Тоби. — Мне интересно.
— Правда?
Тоби кивнул, и я принялась мысленно представлять себе «Клойстерс».
— Ну, во-первых, снаружи он выглядит не особенно впечатляюще. Но когда входишь внутрь — там все другое. Как будто ты не в Нью-Йорке. Вообще не в Америке.
Я рассказала ему, что, как только ты входишь в «Клойстерс», попадаешь в другое время. Прямиком в Средневековье. Рассказала ему о широких каменных ступенях, ведущих на главный монастырский двор. О стенах, сложенных из больших каменных блоков, точно как в средневековом замке. Тоби сидел на ковре и слушал, как я рассказываю о внутренних двориках с травяными садами, где растет медуница, и адамов корень, и окопник аптечный, и тысячелистник.
Мысленно я была там — вместе с Финном. Он растирал между пальцами лист растения, чтобы лучше почувствовать запах, и рассказывал мне об учении о сигнатурах, согласно которому Бог отметил все лекарственные растения особыми знаками — сигнатурами, — чтобы люди знали, какое растение от чего лечит. Красные растения исцеляют болезни крови. Желтые помогают при разлитии желчи. Корни определенных растений, названий которых я не запомнила, имеют форму геморроидальных шишек, почек или сердца и, соответственно, лечат те органы, на которые похожи. Финн сказал, что с точки зрения медицины это, конечно же, полный бред. Но сама идея прекрасна. Начертать свое имя на целом мире — это действительно сильный образ. Я не стала рассказывать об этом Тоби. Не стала рассказывать про нас с Финном. Я говорила о выразительных, изящных изгибах каменных арок, о вымощенных булыжником переходах, о красочных гобеленах с невообразимым количеством мелких деталей. Я ни единым словом не упомянула о Финне, но все равно, когда я посмотрела на Тоби, он плакал.
— Что с вами?
Он вытер глаза и попробовал улыбнуться.
— Не знаю. — Он невесело рассмеялся. — Кажется, со мной все и сразу.
И вот тогда в моем сердце поселилась симпатия к Тоби, потому что я хорошо понимала, что он имеет в виду. Я знала, что это такое, когда практически все в этом мире напоминает тебе о Финне. Электрички, Нью-Йорк, растения, книги, мягкие черно-белые печенюшки и тот парень в Центральном парке, игравший польку одновременно на скрипке и губной гармошке. Даже то, чего ты не видела вместе с Финном, все равно напоминает о нем. Потому что тебе сразу хочется, чтобы он тоже это увидел. Хочется взять его за руку и сказать: «Смотри». Потому что ты знаешь: ему это понравится. Он обязательно это оценит и сделает так, что ты почувствуешь себя самым внимательным и наблюдательным человеком на свете — ведь ты углядела такое чудо!
Я села на пол рядом с Тоби. Так близко к нему, что едва не касалась его плечом. Даже не знаю, сколько мы так просидели в полном молчании. Мне показалось, что очень долго. Наконец Тоби сказал:
— Ты ведь знаешь, да? Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь мне позвонить. Все, что угодно.
Я кивнула:
— Да, вы уже говорили.
— Я хочу, чтобы ты знала: это не просто слова. Я говорю так не просто из вежливости. Ты можешь звонить мне в любое время. Как позвонила бы Финну. Просто поговорить, например. В любое время. Всегда.
Я сказала, что знаю, что это не просто слова. Но я слышала собственный голос, и это был голос, явственно говоривший, что я не буду звонить. Что Тоби — не Финн. И хотя слова Тоби звучали искренне, у меня все-таки было смутное ощущение, что он говорит это просто из вежливости.
— Мне, наверное, пора домой, — сказала я.
Тоби вызвался проводить меня до вокзала. Сказал, что можно пройтись пешком. Пока мы сидели в подвале, погода переменилась. Когда я выходила из школы, на небе виднелось лишь несколько облаков, а когда мы с Тоби вышли на улицу, все небо было затянуто серыми тучами. Мы прошли всего пару кварталов, и тут пошел дождь.
— Черт, — сказал Тоби. — А я не взял зонт.
Мы зашли в маленький продуктовый магазинчик, надеясь переждать дождь. Но когда мы давали уже третий круг по торговому залу, продавец, наблюдавший за нами из-за стойки с кассой, вышел к нам и спросил, чем он может помочь. Тоби сказал, что мы ищем мятные леденцы. Продавец поджал губы и указал на витрину с конфетами рядом с кассой.
Мы шли по городу под дождем и сосали эти ядрено-пряные мятные леденцы, которые вовсе не собирались покупать. Когда убойная пряная свежесть только еще начала проявляться, я чуть не выплюнула леденец. Но потом передумала. Иногда надо устраивать себе испытания, чтобы понять, сколько ты сможешь выдержать.
Тоби напомнил, что теперь моя очередь рассказывать историю о Финне. Я на секунду задумалась и решила, что расскажу, как однажды — в день Благодарения, когда все смотрели по телику футбольный матч, — мы с Финном потихоньку сбежали из дома, пошли в лес и там «потерялись».
— Только он и я, — сказала я. — Потому что мы оба ненавидели футбол.
Я рассказала о том, как замечательно пахло в лесу. О том, как Финн развел небольшой костерок только из тоненьких веток. Как мы сидели, смотрели на пламя, и Финн перевел мне с латинского всю «Лакримозу» из моцартовского «Реквиема», чтобы я понимала, о чем там речь, и мы с ним спели ее несколько раз — неумело, зато с душой, — пока я не выучила все слова наизусть. Финн сказал мне, что, будь его воля, он бы остался в лесу навсегда и не вернулся бы в город. Но он сам понимал, что это несбыточная мечта. А потом мы вернулись домой, и оказалось, что нас, в общем-то, и никто и не хватился. То есть дома, конечно, заметили, что нас нет, но никому и в голову не пришло нас искать. Мама оставила нам два куска тыквенного пирога со взбитыми сливками, мы их съели и никому не сказали, где были.
— Очень хорошая история, Джун.
— Ага.
Тоби начал рассказывать, как Финн однажды попытался замаскироваться, чтобы под видом обычного посетителя прийти на выставку собственных картин и послушать, что о них говорят люди. Я слушала Тоби вполуха, думая о своем, как вдруг мой рассеянный взгляд наткнулся на черную крышку канализационного люка. Я резко остановилась.
Тоби, поглощенный своим рассказом, шагал вперед, ничего не замечая вокруг.
— Эй! — крикнула я ему вслед. — А вы случайно не знаете, откуда взялись эти пуговицы? Черные пуговицы на портрете?
Тоби ушел достаточно далеко вперед, но услышал меня и остановился. Он обернулся ко мне не сразу. Сначала пару секунд постоял, а когда все-таки обернулся, вид у него был смущенный и виноватый. Сразу было понятно, что он знает, о чем я спросила.
Он подошел ко мне, взял под локоть и оттащил под козырек ближайшего подъезда, чтобы на нас не лил дождь. Потом долго и путано извинялся, но так ничего толком и не объяснил.
— Ну, хорошо, — сказал он, как будто принял какое-то непростое решение. — Но тут все сложно. — Он вышел под дождь, пару секунд постоял на краю тротуара и вернулся обратно.
— Можете не рассказывать, — сказала я, хотя не имела в виду ничего подобного.
Он ненадолго задумался и покачал головой. Потом снова вышел из-под козырька и тут же вернулся.
— Хорошо, ладно… Портрет получился хороший, да?
Я кивнула.
— А Финн так не думал. «Он еще далек от идеала. Нужно больше конкретики. Больше деталей». Вот что он говорил. И просил меня принести портрет. Я приносил его, ставил рядом с кроватью. Финн уже почти ничего не видел, с трудом отрывал голову от подушки. Если бы ты его видела… Он только об этом и говорил, Джун. Понимаешь? Только о вашем портрете. И я дал ему слово. Сказал, я сделаю все, что смогу. Что доведу его до совершенства. — Тоби склонил голову. — Ну, вот. Теперь ты знаешь.
Я представила себе эти корявые, неумело намалеванные пуговицы. Неужели Тоби и вправду считает, что они украшают картину? Лично мне в это не верилось. Наверное, Тоби заметил, какое у меня было лицо, потому что поспешно проговорил:
— Да. Я знаю. Я все испортил. Но ты просто не знаешь, как это было. В тот день. Мы с ним были вдвоем, а потом… я вдруг остался один. — Глядя на Тоби, я поняла по его лицу, что он мысленно перенесся в тот день. — Это было так тихо, так страшно. И я подумал, что надо сделать хоть что-то — и сделать правильно. Если бы я только смог… хоть раз в жизни… Но, как видишь, не смог. Не справился даже с простыми пуговицами.
Кровь стучала у меня в висках, потому что мне очень живо представилось, как это было. Финн вдруг затих — и его просто не стало. Тоби остался один, такой растерянный и беспомощный в своем безысходном отчаянии. Я закусила губу, потому что почувствовала, как напряглись уголки рта, — это означало, что я сейчас разревусь. А мне не хотелось расплакаться перед Тоби. У меня по лицу текли капли дождя, срывавшиеся с промокших волос. Тоби смотрел мне в глаза и ждал, что я отвечу. Я не хотела расплакаться перед ним. Не хотела. Но слезы хлынули градом, и их было уже не остановить.
Я рванулась бежать, но потом повернула назад. Решила, что не буду даже пытаться сдерживать слезы. Решила, что буду стоять здесь, на Мэдисон-авеню, под козырьком подъезда, и пусть Тоби смотрит. Пусть знает, что я тоскую по Финну не меньше его самого. Слезы текли и текли и никак не кончались. Все, что до этой минуты я подавляла в себе, слепив в тугой, жесткий комок, втиснутый глубоко в сердце, теперь прорывалось наружу. Я уже не стеснялась — ревела в голос, сотрясаясь от рыданий, и ждала, что Тоби сейчас сбежит или затолкает меня в такси, но он не сделал ни того, ни другого. Он шагнул ко мне, обнял, прижал к себе и положил голову мне на плечо. Так мы и стояли, обнявшись, у входа в какой-то подъезд на Мэдисон-авеню, и в какой-то момент я почувствовала, что Тоби тоже плачет. Щелканье мятного леденца Тоби о его зубы, пронзительный визг тормозов, шум дождя, бьющего по козырьку подъезда, — все это сливалось с нашими безудержными рыданиями, создавая особую музыку, наполнявшую собой все. Она превратила весь город в хор, выпевающий нашу печаль, и чуть погодя боль начала отступать. А на ее место пришло облегчение.
Когда мы отодвинулись друг от друга, я не смогла посмотреть Тоби в глаза.
И услышала, как он прошептал:
— Прости. — Услышала, как он сказал: — Я не художник, Джун. Прости меня… за все.
Я еле заметно пожала плечами. Потом выплюнула на ладонь леденец и швырнула его на землю.
— Какая все-таки гадость эти мятные леденцы.
Тоби улыбнулся.
— Ага.
Но он не выплюнул свою конфету. Оставил ее во рту, где она, вероятно, жгла ему язык, пока полностью не растворилась.
37
Это было уже поздно ночью. В тот же самый день. Дома уже все спали. Я сидела на кухне, держа на коленях раскрытую «Книгу дней», и шептала в телефонную трубку, прикрывая ее ладонью.
— Я позвонила сказать, что я все это выдумала.
— Да… ага. Что? — Голос у Тоби был сонный, как будто он крепко спал, а я разбудила его своим звонком.
— Эту историю. Мою историю про Финна. Я ее выдумала.
— А, это ты, Джун. Привет. А сейчас сколько времени?
— Да, уже поздно. Простите, что разбудила.
— Я не спал. Просто валялся тут с бренди. Тихий вечер дома.
Я рассмеялась с закрытым ртом, стараясь не шуметь. Дотянулась до дверцы кухонного шкафа рядом с посудомойкой. До узкого шкафчика, где родители хранили бутылки со спиртным. Бренди там тоже был. Я достала бутылку, поставила ее на пол рядом с собой и постучала пальцем по крышке.
— Но я все равно должна вам историю.
— А ты уверена, что та история была выдумкой? Я, например, поверил каждому слову.
Я улыбнулась, хотя понимала, что Тоби, скорее всего, надо мной насмехается.
— Да ладно!
— Нет, правда. Очень хорошая история. И содержание, и исполнение. Замечательная проработка деталей. Оценка «отлично». — Тоби тоже говорил шепотом, хотя был в квартире один.
Пару секунд мы помолчали, а потом Тоби сказал:
— Знаешь, Джун, ты ничего мне не должна. Если не хочешь рассказывать, то не надо. — Мне было слышно, как он глотнул бренди.
Я открыла свою бутылку, макнула туда палец и облизала его.
— Нет. Я хочу рассказать. В следующий раз.
Конечно, я не могла видеть Тоби. Но буквально почувствовала, как он улыбнулся.
— Приезжай когда хочешь. В любое время. Ты ведь знаешь, да? Если тебе что-то понадобится…
Мне вдруг подумалось, что, если бы я тонула в открытом море, Финн был бы как крепкий, сверкающий на солнце деревянный корабль, чьи паруса всегда ловят ветер. А Тоби? Тоби, скорее всего, был большим ярко-желтым надувным плотом, который может перевернуться в любой момент. Но, может быть, он был бы рядом. Я уже начинала об этом задумываться.
Я кивнула и поднесла бутылку ко рту. Бренди обожгло горло, и на мгновение мне показалось, что у меня внутри вспыхнул пожар. Или произошло извержение вулкана.
Я прошептала:
— Я знаю.
Мы опять замолчали.
— Ну, ладно… Спокойной ночи, — сказала я.
— Приятных снов, Джун.
Я легла на спину, прямо на холодный линолеум на полу и прижала телефонную трубку к груди. В тишине раздавалось лишь тиканье желтых часов, висевших на стене над раковиной. Так прошло две-три минуты, а потом в темной кухне прозвучал голос, назвавший меня по имени:
— Джун.
Я поднесла трубку к уху.
— Да?
— Иди спать.
— Хорошо, — прошептала я. — И вы тоже.
И повесила трубку, оставив Тоби совсем одного в квартире Финна.
Я не знала, как скрепить обещание с мертвым. С живым — все понятно. Надо взять острые ножницы и сделать крошечный разрез на одежде. Это должна быть не старая ненужная тряпка, а что-нибудь новое и красивое. Что-то такое, что ты носишь часто и за что тебе может влететь, если мама узнает, что ты испортила эту вещь. Разрез может быть где угодно. На изнанке подола или под мышкой. И он может быть очень маленьким, едва заметным. Тут нужна определенная сноровка: научиться делать совсем-совсем маленькие разрезы. Таковы правила, которые мы с Гретой придумали, когда были маленькими. Когда нам еще было страшно скреплять обещания кровью.
Я поднялась с пола и вытащила из домашней «доски объявлений» булавку, на которой держалась открытка с видом Майами-Бич. Саму открытку я положила на стол. Потом проколола себе указательный палец и надавила. Капелька крови была похожа на крошечный драгоценный камушек. Я еще раз прочла письмо Финна и прижала палец к странице — прямо посередине листа.
Финн был прав. Тоби остался совсем один. Но теперь все решено. Он больше не будет один. Теперь у него есть я.
38
Март уходил, словно кроткий ягненок. Точно как в поговорке. Деревья пока оставались голыми, и в самых дальних углах больших автостоянок еще сохранились остатки снега, но было уже понятно, что зима миновала.
В городе уже начали появляться афиши «Юга Тихого океана». Их решили развесить заранее: если билеты раскупят, еще будет время добавить в программу несколько дополнительных номеров. Конкурс дизайна для этой афиши выиграла Бинз. Она изобразила начальные буквы слов — Ю, Т и О — в виде изогнутых пальм, а общий контур плаката был сделан в форме традиционной полинезийской хижины. Получилось очень симпатично. Бинз здорово постаралась. Я решила, что непременно скажу ей об этом, когда мы увидимся в следующий раз.
Весна уже чувствовалась во всем, и только родители не разделяли всеобщего воодушевления. У них начался самый сложный и суматошный этап подачи налоговых деклараций. Седая прядь в маминых волосах становилась все толще, папа в какие-то дни вообще забывал бриться, а мы с Гретой шутили, что нам грозит крайне тяжелое отравление мультиварочным рагу — очень опасное состояние, когда концентрация бульона в крови достигает таких масштабов, что кровь превращается в мясную подливу.
Сразу после уроков я пошла в банк.
Поталь — настоящее листовое золото — стоит дорого, но хорошая золотая краска смотрится ничуть не хуже, зато стоит намного дешевле. Я заранее сходила в художественный салон и купила крошечный пузырек золотой краски и тонкую кисточку. Они лежали в боковом кармане рюкзака вместе с ключом от банковской ячейки.
На этот раз мистер Циммер не сказал ни слова о СПИДе. Он встретил меня, как нормальный служащий банка встречает клиента, и сразу отвел в хранилище.
— Через полчаса мы закрываемся, — сказал он, взглянув на часы у себя на руке. — Я постучусь и заранее предупрежу, чтобы ты успела убрать все на место.
— Спасибо, — ответила я.
Я положила картину на стол и притронулась пальцем к каждой из пяти пуговиц. Они уже не казались такими уродскими. Теперь, когда я знала историю этих пуговиц, они стали даже красивыми. Как сверкающие черные жемчужины. Потом я медленно провела пальцем по контуру черепа на руке Греты.
Я поставила картину, прислонив ее к стене, и улыбнулась девочкам на портрете. Финну бы точно понравилось то, что я собиралась делать. Я достала из рюкзака краску и кисточку. Крышка на пузырьке с краской была закручена очень плотно, и пришлось с ней повозиться. Как только я сняла крышку, по комнате разлился легкий запах свежей краски — запах, напоминавший о Финне. Я вдохнула поглубже, потом аккуратно опустила кисточку в краску, сняла излишки, прижав кисточку к ободку пузырька, и замерла перед портретом. Мне вдруг стало страшно прикасаться к картине кистью. Но я знала Финна. Я не уподоблялась тем людям, которые пытались закончить за Моцарта его «Реквием». Я знала, что Финн бы меня одобрил.
И я поднесла кисть к холсту. Провела тонкую, легкую линию вдоль одной пряди моих волос на портрете. Потом подкрасила одну прядку у Греты. Отступила на пару шагов, чтобы посмотреть, что получилось, — как всегда поступают художники. Наклонила голову набок, как непременно делал Финн, когда оценивал свою работу. Мне не хотелось, чтобы мои художества были слишком заметны. Я знала, как легко можно увлечься и переборщить. Я опять окунула кисточку в краску и попыталась представить, что Финн ведет мою руку, легонько касаясь ее и направляя. Кончик кисти медленно заскользил вниз, оттеняя позолотой прядь моих нарисованных волос — волос, созданных Финном. Насколько внимательно Финн смотрел на меня настоящую, создавая другую меня? Что он видел? Замечал ли он, что, приезжая к нему, я всегда красила губы ярко-розовым блеском? И как я рассматривала его босые ноги, пока он работал за мольбертом? Знал ли он, что творится у меня в душе? Мне хотелось бы думать, что нет. Мне хотелось бы думать, что я все же смогла это скрыть.
Я оттенила еще несколько своих прядей, потом — еще несколько прядей Греты. Вновь отступила на пару шагов. Я хотела добиться чего-то похожего на крылья ангелов с позолоченных миниатюр из старинных рукописных книг, хранившихся в «Клойстерсе». Я не пыталась скопировать те узоры, потому что у нас с Гретой не было крыльев, а были всего лишь обыкновенные волосы. Но мне хотелось добавить картине сияния. Хотелось, чтобы она излучала свет. Чтобы краски звучали, как песня о Финне. И о том, как сильно я его любила. Я хотела того же, чего хотел Тоби, когда рисовал свои пуговицы.
Я закрыла пузырек с краской, плотно завинтив крышку, завернула кисточку в лист бумаги и убрала все обратно в рюкзак. Теперь мы все были на этом портрете. Все трое. Грета, Тоби и я.
И еще волк. Убирая портрет в металлическую коробку, я разглядела его краем глаза. Волк никуда не исчез. Он по-прежнему здесь. Затаился в тени негативного пространства.
39
— А в чем ты пойдешь?
Я оглядела себя.
— Э… В бордовой юбке и сером свитере.
— Да нет, бестолочь. На вечеринку. В субботу.
— Не знаю. А что?
— Бен спрашивал, будешь ли ты в субботу.
Я закатила глаза.
Мы стояли на улице, ждали школьный автобус, который изрядно опаздывал. Грета выглядела усталой. В тот день она не накрасилась и даже толком не причесалась, просто собрала волосы в узел и кое-как заколола на затылке. Несколько дней назад у нее порвалась лямка рюкзака, с которым она обычно ходила в школу, и ей пришлось взять свою старую «детскую» сумку со Снупи и Вудстоком.
— А почему ты решила, что мне вообще интересен Бен Деллахант? Я его едва знаю.
Грета тяжело вздохнула:
— Ты безнадежна.
— Нисколько.
Она надула губы, уперла руки в бока и уставилась на меня.
— Может быть, я пытаюсь тебе помочь. Это тебе в голову не приходило?
— Нет.
Я заметила странное выражение, промелькнувшее в глазах Греты. Как будто она хотела что-то сказать, но не смогла.
— Ладно, как хочешь, Джун. Как. Хочешь. Ты… ты…
— Что?
— Ничего.
— Может, тебе самой стоит подумать о том, что надеть на вечеринку, — сказала я. — Ты, может быть, тоже выглядишь не очень-то.
Грета резко обернулась и прожгла меня убийственным взглядом.
— Я знаю, что тебя не было на репетиции в понедельник. Ты нас обманула, Джун! Наврала маме и мне! Думаешь, что никто никогда не узнает, куда ты ходишь? Ты правда считаешь, что твою страшную тайну никто никогда не раскроет?
Она буквально кричала на меня. Прямо на улице. Это было так неожиданно, так непонятно. Словно рядом взорвалась бомба. Я испуганно замерла. А потом Грета резко умолкла, повернулась ко мне спиной, отошла от меня и встала с другой стороны клена. Она прислонилась спиной к стволу, так что мне было ее не видно. Я видела только носок ее ботинка, раздраженно стучащий по земле. Мы прождали автобус еще минут пять, и все это время я смотрела, как Грета стучит ботинком по земле, словно передавая какое-то сообщение азбукой Морзе.
В тот вечер родители вернулись с работы пораньше. Грета сказала, что репетиции не будет, и мама с папой решили, что, раз такой случай, было бы здорово устроить настоящий семейный ужин. Хорошо, что в тот день я тоже была дома и не поехала в город. Я иногда забываю, как сильно скучаю по маме с папой в этот их затяжной период подачи налоговых деклараций. И только когда происходит «воссоединение семьи», я вспоминаю, как это здорово, когда родители дома и мы что-то делаем вместе. Если я ужинаю одна, то просто плюхаю в миску порцию мясного рагу из мультиварки, а когда мама дома, она жарит чесночный хлеб, делает салат и кладет каждому в тарелку сметану. И это уже больше похоже на настоящую еду, а не на тупую кормежку.
Когда родители пришли домой, мы с Гретой делали уроки на кухне, сидя на противоположных концах стола. Грета отгородилась стеной из учебников, чтобы вообще меня не видеть. Но когда вошел папа, она положила учебники на стол.
— Угадайте, что я принес, — сказал папа, радостно улыбаясь и поднимая над головой пакет из «Калдора».
— Что там? — спросила я.
— Угадай.
Грета прищурилась, глядя на пакет.
— «Тривиал Персьют», — сказала она.
— М-да… — протянул папа с разочарованным видом. — Ну, что же. Вы правильно угадали.
Он, похоже, и вправду слегка огорчился, что не получилось никакой интриги. Но как только открыл коробку, сразу повеселел. Я так думаю, мы оставались последним семейством во всей стране, у кого еще не было «Тривиал Персьют». Папа никогда не спешил покупать новинки. Он всегда говорил, что умные люди не хватают вещи сразу, а ждут, пока цены понизятся.
— Ну что, сыграем? — спросил он, высыпая на стол разноцветные дольки.
Хотя был будний день, и назавтра родителям нужно было идти на работу, а нам с Гретой — в школу, мы играли допоздна. Все вчетвером. Мама сделала попкорн и растворимый холодный чай — очень сладкий, с лимонным привкусом.
Мы уже очень давно не играли все вместе в настольные игры, и родители, кажется, по-настоящему увлеклись. И хотя за весь вечер Грета ни разу на меня не взглянула, мне все равно было весело.
— «Кто играл роль стареющего ковбоя родео Джуниора Боннера?» — прочла Грета вслух, и мама тут же ответила.
— Стив Маккуин, — сказала она, не задумавшись ни на секунду.
Я ответила на несколько вопросов по естественным наукам, типа «Какой химический элемент обозначается символом Fe?» или «Как по-научному называется Северное сияние?». Но в основном вопросы были действительно сложные. Самой забавной оказалась категория «Спорт», где на самом деле вопросы касались спиртных напитков. Грете достался вопрос «Что придает черноту „Черному русскому“»? Она ответила на него без труда. Ответ был: «Калуа» или «Тиа Мария», — и Грета знала названия обоих ликеров.
В итоге выиграл папа. На вопросе по истории.
— «В 1962 году Великобритания и Франция подписали соглашение о совместном строительстве чего?» — спросила Грета.
— Э… «Конкорда»? — сказал он.
Мы все застонали, а папа растерянно заморгал.
— Я что, выиграл? Я правда выиграл?
Мама пошла спать, Грета умчалась в гостиную — звонить подружке, а мы с папой остались сидеть на кухне. Зачитывали друг другу вопросы с игровых карточек и попивали холодный чай до тех пор, пока у обоих не начали слипаться глаза. Время от времени нам попадались вопросы типа «Кто такой престидижитатор», и я каждый раз вспоминала Тоби.
— Папа?
— Погоди, я возьму новую карточку.
— Нет. У меня настоящий вопрос. Не по игре.
Он кивнул.
— Ну, давай свой вопрос.
— А ты знал… близкого друга дяди Финна? — Я едва не поперхнулась на этом дурацком «близком друге», но все же сумела не выдать себя.
Папа оглянулся на дверь в коридор, словно чтобы удостовериться, что мама и в самом деле ушла спать. Потом повернулся обратно ко мне.
— Встречался с ним пару раз. Когда они только-только сюда переехали. Лет восемь назад, может, девять. А что ты хотела о нем узнать?
— Просто мама… Она, похоже, его ненавидит. А мне непонятно, как Финн мог быть с кем-то настолько плохим.
Папа взял свою круглую фишку и перевернул ее, стряхнув разноцветные дольки на стол. Потом подобрал их, снова поставил на фишку и тяжко вздохнул.
— Ну, хорошо. Я тебе кое-что расскажу, но ты, пожалуйста, не принимай это все близко к сердцу. И я тебя очень прошу, не пересказывай маме то, что сейчас от меня услышишь. Договорились? — Я кивнула, и он продолжал: — Я не хочу, чтобы ты думала, что твоя мама… Я хочу, чтобы ты поняла причины.
— Хорошо.
— Ты видела маму и Финна уже взрослыми, самостоятельными людьми. И они казались такими разными, что иногда даже не верилось, что они брат и сестра, так? Твоя мама — бухгалтер. А Финн — художник, богема и все такое. Но так было не всегда. В детстве и ранней юности они были практически неразлучны. Ты же знаешь, твой дед — военный. Они постоянно переезжали с базы на базу, и часто бывало, что там вообще не было других детей. Я не особенно разбираюсь в искусстве… Ну, ладно — я совершенно не разбираюсь в искусстве… но твоя мама здорово рисовала. У нее был настоящий талант. Она кое-что мне рассказывала. Как они с Финном уходили куда-нибудь на природу и весь день рисовали. Ты знала об этом? Она тебе говорила?
Я покачала головой.
— Я вообще первый раз слышу, что мама умеет рисовать.
— Вот именно.
Мне вспомнился альбом для набросков, который Финн подарил маме на день рождения. И какое у мамы было лицо, когда она развернула подарок.
— Знаешь, у нее до сих пор сохранилась жестяная коробка с акварельными красками. Еще с тех времен, когда они с Финном вместе рисовали. Она говорила, что у них были большие планы. Они собирались вместе уехать в Нью-Йорк и стать настоящими художниками. Они постоянно это обсуждали, как будто все это было по-настоящему. Как будто однажды это и вправду произойдет. Ты знаешь Финна. Когда он о чем-то говорил, ты просто не мог в это не верить. И твоя мама тоже поверила, что он обязательно придумает, как воплотить их мечты в жизнь. А потом он просто взял и уехал. Один. Да, он был очень молод… всего семнадцать… но маму это убило. Финн оставил записку, в которой писал, что вернется. Что обустроится в Нью-Йорке и сразу же выпишет туда маму. Но этого было мало. Мама никак не могла свыкнуться с мыслью, что Финн ее бросил. Он путешествовал по всему миру. Париж, Лондон, Берлин. Слал маме открытки, в которых рассказывал о своих выставках. Она говорила, что лучше бы он не писал ей вообще. А потом он вернулся. И действительно поселился в Нью-Йорке. Но к тому времени мы уже были женаты. У нас уже появились вы с Гретой, а твоя мама давно забросила рисование. Много лет не брала в руки кисти и карандаши. На первую встречу с Финном мы поехали вместе, и мама, я помню, была вся в таком радостном предвкушении… Я могу ошибаться, но мне кажется, втайне она надеялась, что теперь у нее наконец будет шанс по-настоящему заняться искусством. И мы переедем в Нью-Йорк, и они с Финном снова начнут рисовать. Вместе, как раньше.
Я могу ошибаться, но мне показалось, что папе больно об этом говорить. Он снова перевернул свою фишку, стряхнул дольки на стол, но на этот раз не стал их собирать.
— В тот день мы поехали в город и встретились с Финном в кафе. Но он был не один. С ним был Тоби. И как только Данни увидела их вдвоем, вся ее радость мигом сошла на нет. Тогда я не понял, в чем дело. Тоби казался вполне нормальным. Может быть, чуточку странным, но вполне милым. Но твоей маме он сразу не понравился. Потом она говорила мне, что Финн писал ей о Тоби. Рассказывал о его прошлом. Я не знаю подробностей, но, похоже, у Тоби были какие-то крупные неприятности. Она постоянно об этом твердила. Что Тоби — никчемный человек, совершенно не пара Финну. Что он использует Финна. А когда Финн заболел… Она сразу решила, что во всем виноват Тоби. Из-за него Финн стал ленивым, перестал рисовать и отдалился от своей семьи. И вдобавок ко всему Тоби заразил Финна СПИДом. Мне кажется, Данни вбила себе в голову, что, если бы не Тоби, у них с Финном все было бы по-другому. Она всегда говорила, что Финн заслуживает лучшего. Но я, честно говоря, не думаю, что ее неприязнь как-то связана с прошлым Тоби. Он мог бы быть лауреатом Нобелевской премии и все равно не понравился бы твоей маме. Я думаю… — Папа опустил голову и принялся передвигать по столу разноцветные пластмассовые треугольники. — Я думаю, ей было неловко и стыдно за то, как все обернулось. Что она стала бухгалтером, вышла замуж за скучного счетовода и живет в тихом унылом предместье. Вот Финн: яркая личность, именитый нью-йоркский художник, со своим шикарным английским бойфрендом. И она: скромный бухгалтер из пригорода, мать двоих детей со своим совершенно обыкновенным и отнюдь не шикарным мужем.
На этот раз в папином голосе явственно прозвучала обида.
— А ты видел мамины рисунки?
— Только раз. Мне показала их бабушка Уэйсс. Твоя мама об этом не знала. Бабушка Уэйсс говорила, что чувствует себя виноватой перед Данни — виноватой, что Данни не получила возможности заняться тем, чем хотела. Я бы сказал, что она рисовала не хуже Финна. Может быть… я, конечно, не специалист… но мне кажется, что даже лучше.
Я подошла к холодильнику, достала пакет молока и разлила по стаканам — себе и папе.
— Не думаю, что мама тебя стыдилась.
Он улыбнулся.
— Спасибо, Джуни. Может, ты и права.
Потом мы какое-то время сидели молча. Каждый пил молоко и думал о чем-то своем.
— Папа?
— Да?
— А как же Финн стал моим крестным? Если мама так на него сердилась?
— Нет, на Финна она не сердилась. Как можно сердиться на Финна?! Она злилась на Тоби. Только на Тоби. И Финн стал твоим крестным, когда тебе было уже пять лет. Ты не знала? Твоя мама постоянно думала о Финне. И продолжала надеяться. Потом Финн стал писать, что собирается поселиться в Нью-Йорке. Но ни разу не упомянул, что поселится там вместе с Тоби. Просто писал, что собирается возвращаться из Англии. Думает купить квартиру в Нью-Йорке. Вот тогда-то она и предложила ему стать твоим крестным, и он был на седьмом небе от счастья. Помню, мы еще посмеялись, потому что он написал, что постарается приехать как можно скорее. Как будто дело не терпело отлагательств. — Папа на миг умолк, словно погрузившись в воспоминания. — Может быть, твоей маме казалось, что, если устроить все так, чтобы Финн стал твоим крестным, это удержит его рядом с ней. Как-то привяжет к нашей семье. А самому Финну, мне кажется, все это виделось по-другому. Возможно, он думал, что они с Тоби оба станут твоими крестными. И Тоби тоже станет членом семьи, и все будут жить дружно и счастливо. А может быть, я говорю ерунду. Потому что уже очень поздно и я почти сплю.
Он широко зевнул, всем своим видом давая понять, что ему и правда хочется спать. Взял со стола наши стаканы из-под молока и отнес их в раковину. Потом посмотрел на меня и сказал:
— Ну что, открылись все тайны Вселенной?
Я улыбнулась:
— Если не все, то хотя бы часть.
40
На следующий день я сидела в автобусе в гордом одиночестве на заднем сиденье. Я нашла чистый лист в тетради по английскому, что было — вернее, даже особенно и не искала, потому что я мало пишу на английском. Если ты прочитала «О мышах и людях», зачем записывать в тетрадке, что Джордж и Ленни крепко дружили и что смерть Ленни была неизбежна? Ты и так это знаешь и помнишь. Такое не забывается.
Я взяла ручку и написала на чистом листе:
«Позаботиться о Тоби…
Этап 1: Звонить ему и приезжать в гости, когда будет возможность.
Этап 2: Придумать что-то прекрасное и необычное (в работе)».
В тот день я ушла из школы пораньше. Решила рискнуть и прогулять труд и самоподготовку, чтобы успеть на электричку в 13.43. Тоби встретил меня в пижаме и пушистом синем махровом халате, в котором напоминал Коржика из «Улицы Сезам». Мне показалось, что его огромные глаза стали еще больше.
— Прошу прощения, у меня тут холодрыга. Но ты заходи. Я всегда рад тебя видеть.
С моей точки зрения, в квартире было совсем не холодно, но я ничего не сказала. А вот за что точно следовало бы извиниться, так это за беспорядок в гостиной. Повсюду стояли грязные тарелки, стаканы и чашки, кассеты валялись отдельно, их коробки — отдельно, и я насчитала как минимум три пепельницы, переполненные окурками и использованными чайными пакетиками. Вообще-то я не особенно заморачиваюсь на таких вещах, но раньше у Финна всегда царил идеальный порядок, а теперь все здесь казалось другим. Как будто это была чья-то чужая квартира.
Я взяла пару тарелок и хотела отнести их в кухню.
— Не надо, — сказал Тоби. — Оставь. — Отобрал у меня тарелки и поставил обратно на журнальный столик.
— Да мне нетрудно. Могу помочь прибраться.
— Я знаю. Но это мой беспорядок. — Он вдруг резко умолк и оглядел комнату. Похоже, он что-то для себя понял и бросил на меня виноватый взгляд.
— Тебе неприятно, да? — спросил он тихо-тихо. — Неприятно на это смотреть?






