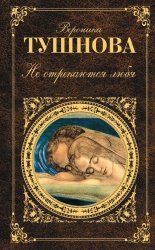Я отвечаю за все Герман Юрий
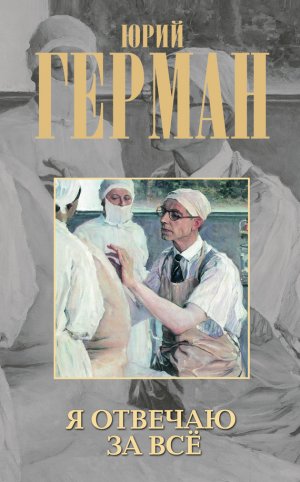
- Тореадор, тореадор…
— Ох, Женька, у тебя голосочек, — почти со стоном сказала Варя, — словно ножом по стеклу…
Евгений не ответил, опять засвистел. Павла внесла суповую миску, Степанов велел ей привести деда. Женька у буфета налил себе рюмку водки, выпил, поискал по столу вилкой и, поразмыслив, закусил маринованным грибочком. Адмирал со строгим выражением лица открыл дверь в переднюю, потом в коридор, потом в кабинет Евгения Родионовича. Ираида с Женькой быстро переглянулись.
— Не тесно вам здесь жить? — спросил Степанов резким голосом.
— Что? — не понял Евгений.
— Спрашиваю, не тесно тут вам — семейству? — крикнул Родион Мефодиевич. — Спрашиваю, вам здесь…
И смолк внезапно, потому что из передней, вытянув к нему руки, сияя всей измазанной чернилами мордочкой, бежал Юрка, обожающий деда человек, явившийся из своего первого «Б» класса с парой неоспоримых двоек и потому совершенно счастливый, что всегдашний его заступник дома.
Родион Мефодиевич смяк, поднял мальчика на руки, ударил его лбом в лоб, по старой их манере, и сказал:
— Здорово!
— Салют! — ответил Юрка. — А Павла Назаровна думала, что ты помрешь!
— Кукиш с маслом! — ответил дед (Ираида поморщилась — ей всегда казалось, что не кто другой, как Родион Мефодиевич, учит мальчика грубостям). — Фиги! Я, Юрец, еще поживу на свете, покуражусь…
— По морям, по волнам, — подсказал мальчик дедову присказку, — да?
Евгений и Ираида еще раз переглянулись: самодур-адмирал как будто был опять в хорошем расположении духа, гроза проходила стороною. Дело заключалось в том, что супруги знали, зачем приходили к Степанову пионеры, и ждали взрыва, который вполне мог произойти перед обедом. Важно было мирно отобедать, а там Евгений уже подготовил легкую беседу на тему о том, как все в самое ближайшее время рассосется с проклятым Домом пионеров и школьников Приреченского района. Впрочем, решиться заговорить об этой истории не представлялось Женечке безопасным шагом.
За щами Юрка рассказывал школьные новости, Варвара была весела, как бы помогая разрядить то угрюмое и даже угрожающее состояние, в котором перед обедом пребывал Родион Мефодиевич, Женька из кожи вон лез — сыпал анекдотами, Ираида нарочно громко хохотала, даже деду Мефодию никто не выговорил, когда он, зацепившись рукавом, вывалил на скатерть хрен со свеклой и ужасно переконфузился и залебезил. В общем, все шло к тому, что история с пионерами могла рассосаться, если бы не бокалы, которые Ираида, им всем на беду и горе, купила по знакомству в комиссионном магазине. Случилось так, что адмирал, мучимый изжогой от пирожков, встал после супа, чтобы попить боржому, и, как всегда, не замечая качества и ценности посуды, по дороге к буфету прихватил бокал, который стоял на радиоприемнике.
— Осторожнее, папочка, — крикнула издали Ираида, — это уникальная вещь!
— Уникальная? — еще совсем спокойно удивился адмирал. — А что в ней уникального?
— Шесть, — немножко даже задохнувшимся голосом, но негромко, а лишь крайне почтительно к тому предмету, который разглядывал адмирал, объяснила Ираида, — их всего шесть, этих фужеров. Вы взгляните на свет, там гравировка…
Степанов простодушно посмотрел.
— Корона? — осведомился он, дальнозорко отставляя от себя уникальную вещь. — Римское два и литера «Н»? Правильно?
Он все еще ни о чем не догадывался.
— Царь Николай из них пил, — пережевывая супное мясо, дал справку Женька, — на футляре написано, что эти бокалы «принадлежат к инвентарю яхты „Штандарт“!». А продолжение судьбы фужеров тоже занятное в своем роде. По слухам, они каким-то образом попали впоследствии в Унчанск и были здесь преподнесены военному коменданту майору СС, по фамилии цу Штакельберг унд Вальдек…
Вот тут-то все и случилось.
Уже по тому, как буро побагровел адмирал во время монолога Женьки, Варвара поняла, что сейчас произойдет, и не успела вскочить, как именно то, чего она ждала, произошло.
— Унд Вальдек! — крикнул адмирал таким хриплым и не похожим на свой голосом, что Женька вскочил. — СС? И Николай из них пил? Ваше величество, император?
Варвара рванулась к отцу, но было уже поздно. Под визг Ираиды и испуганный, заячий вопль Юрки адмирал ударил один фужер об стенку, другой — об пол, третий запустил в дверь. Варвара повисла на крутом плече отца, он не оттолкнул ее, он только все силился достать с приемника оставшиеся бокалы и быстро трясущимися губами шептал:
— Мы беляков… монархистов… гадов… на всех фронтах били… мы лучших, лучших наших товарищей… в войну с фашизмом… А он? Пионеров из дому? Царские плошки?
— Папа, папа, папочка, — уговаривала, припав к нему, Варвара, — папа, тебе же нельзя, милый, ну разве стоит…
Медленная, крупная дрожь пробежала по всему его еще сильному, даже могучему телу. Словно стряхивая с себя припадок тяжелого безумия, он потряс головой, прижал Варвару к себе и горько, с тоской сказал:
— Сволочи! Ах, сволочи! Свиньи! Какие свиньи!
Ираида, истерически повизгивая, уволокла ревущего и тем не менее рвущегося к деду Юрку. Разумеется, под предлогом защиты ребенка от самодура-деда она спасалась сама. И Евгению пришлось выслушать спокойный приказ адмирала — спокойный и угрожающий приказ на тему о том, в какие именно сроки Евгению Родионовичу Степанову надлежит убраться «к чертовой матери» из дома, украденного им у детей.
— Понял, негодяй? — осведомился Степанов-старший. — Или я до Центрального Комитета дойду, а из партии тебя, подлеца, выкачу. Ясно?
— Ясно! — вытянувшись в своей пижаме, слегка даже по-военному, ответил Степанов-младший.
Они были только втроем в столовой. Дед, от греха подальше, давно улепетнул в кухню, еще после первого бокала. Там он и пересказал все события потной от счастливого возбуждения Павле.
— Двадцать пятого я сюда приду, — предупредил Степанов.
— Ясно! — повторил Евгений.
Он расстегнул и вновь застегнул на себе пижаму. Челюсть у него дрожала. «Хорошо бы сейчас грохнуться с сердечным припадком», — меланхолически подумал младший Степанов.
Варвара и Родион Мефодиевич ушли. Женька кликнул Павлу, велел ей убрать за «рехнувшимся» стариком. Высунулся и дед — на разведку: чья взяла? Евгений, с задумчивым и бледным лицом, пережевывал бефстроганов. Дед наложил и себе в тарелку еды, поперчил, помазал горчицей, потом спросил, без всякого вызова в голосе:
— Может, помянем этот дом, Женечка, стопочкой? Все-таки жили в ем, не тужили, ну а пришло время, никуда не денешься, прости-прощай и не рыдай, как в песне поется.
Сосредоточенный на своих размышлениях Евгений Родионович промолчал. Дед налил ему и себе, чокнулся об его рюмку, выпил, крякнул и уставился на Варвару, которая, чему-то улыбаясь, шла через комнату в прихожую.
— Тебе на флоте не случалось бывать, Женюра? — спросила она весело.
— Нет! — поспешно и виновато ответил он. — А что?
— А то, что был нынче произведен «салют наций». Так что ты не сокрушайся. Ты только поопасайся, как бы он не ударил по тебе из главного калибра. Он ведь артиллерист блестящий, знаменитый. Понял?
Евгений Родионович вздохнул. А Варвара пронесла в комнату отца порожний чемодан, обтирая по дороге с него пыль своим чистым носовым платком. Даже пыльной тряпкой она гнушалась в этом доме.
ЭСКУЛАПОВЫ ДЕТИ
Утром, едва только закончилась летучка-пятиминутка, в кабинет главврача, тяжело стуча бурками, вошел Золотухин в профессорском халате, не сходившемся на его могучей груди, чуть сконфуженный своим нежданным появлением.
— Из Большого Гриднева к вам по пути завернул, — сказал он, словно извиняясь. — Чаем попотчуете? Дорога тяжелая, гололед, пришлось цепи на резину ставить.
И, всмотревшись в Устименку, осведомился:
— Чего худеешь, Афанасьевич?
Чай Зиновий Семенович обругал — некрепок, — а выпив два стакана, заторопился на строительную площадку к бывшему зданию Заготзерна.
— К бывшему? — обрадованно переспросил Устименко. — Значит, оно наше теперь? Удалось?
Золотухин промолчал, только сильно затянулся папиросой. Но тяжелое рубленое лицо его выражало удовлетворение, и Владимир Афанасьевич подумал, что такие усталые, но скрытно довольные лица видел он на флоте в военное время, когда возвращался, допустим, катер с лихо проведенной набеговой операции и командир ловко соскакивал на пирс, ничего еще не говоря, но всем своим обличьем выражая удачу и победу.
— И бес его разберет, для чего я сюда к вам повадился, — стягивая в вестибюле халат, недоуменно произнес Золотухин. — Уже и такие даже умники появились, что посмеиваются, только мне наплевать. Ехали ночь, а я все про вас размышлял…
— Что именно?
— А то именно, что вот вы мне где с вашей больницей!
И ребром ладони он крепко стукнул себя по могучему загривку — гладко, по-солдатски подбритому. Потом осведомился:
— Пузырев как?
— Нынче Николай Евгеньевич назначил его оперировать, — сказал Устименко. — Кстати, о Богословском. У него телефона нет, а под ним пивная — там есть. Думается, что Богословскому телефон куда более необходим, нежели заведующему пивной.
— А мне думается, товарищ главврач, что вовсе ты мне на закорки сел. Сел и погоняешь, и каблуками шпоришь, и нет мне от тебя никакого спасения. — И неожиданно заключил: — Лосому позвони про телефон, моим именем. А то забуду. Ясно?
Вышли втроем — за Зиновием Семеновичем, по-мальчишески раскатываясь на льду, следовал Вагаршак в своем куцем пальтишке, сзади хромал Устименко. Солнце светило ярко, но грело мало, весенняя капель едва-едва звякала перед погожим днем, но тепло и весна надвигались с веселой неотвратимостью, сильно и неудержимо, так что даже Золотухин вдруг приостановился и сказал, обернувшись к Устименке:
— Улыбнулся бы, доктор! Или неприятности какие? Так ты поделись — поможем. Зачем на весну хмуриться?
Устименко опять не ответил: в сущности, он и не хмурился, просто как-то приустал маленько от всех «перевертонов» в своей жизни и уж больно горько почувствовал себя нынче утром одиноким. Все-таки существовала Наталья, можно было, уходя на весь день от постылой семейной жизни, перекинуться с дочкой какими-никакими словами…
— Слышал я — хирургу сутулиться нельзя. Верно это? Будто во время операции ваш брат доктор непременно должен прямо стоять. Так это?
— Ну, так…
— Вот и стой прямо, — то ли велел, то ли посоветовал Зиновий Семенович и, пройдя еще несколько шагов, остановился, широко расставив ноги, против внушительного здания бывшего Заготзерна. Оглядел этажи, карнизы, дверные проемы, потом спросил со скрытым смешком: — Какие будут мнения?
— А не слишком простые, — упершись палкой в обледенелые кирпичи, сказал Устименко. — Делать так делать!
— Это ты к чему? — с опасливой нотой в голосе сказал Золотухин. — Ты, доктор, убедительно прошу, не бери меня за хрип своими требованиями. Отвалили вам под детскую хирургию эдакий домину, а он еще с ходу угрожает — делать так делать.
— Именно — делать так делать, — немножко набычившись и упрямо поблескивая глазами, ответил Владимир Афанасьевич. — Делать не так, как раньше делалось, и не так, как сегодня, и не с расчетом на завтра, а только лишь примериваясь к послезавтрему…
— Правильно! — сказал Вагаршак.
— Соляриев не будет, — равнодушно отрезал Золотухин.
— А не в соляриях дело, — без всякой вежливости отмахнулся Устименко. — Дело в том, что нашими стандартами мы назад смотрим. Конструкция здания с расчетом на завтрашний день уже не удовлетворяет сегодняшний. Расчет на послезавтра — и то едва-едва удовлетворит. Прогресс в науке столь грандиозен, Зиновий Семенович, что мы не можем не учитывать, например, кибернетические машины, которые непременно войдут — вот помяните тогда мое слово, — войдут в медицину через какое-то количество лет как необходимейший элемент…
— Значит, кибернетические машины тебе занадобились, — кивнул Золотухин и загнул один палец на левой руке. — Кредиты, все такое.
Лицо его дрожало от внутреннего, едва сдерживаемого добродушного смеха, но чем дальше слушал он Устименку, тем серьезнее и даже печальнее делался взгляд его маленьких глаз под нависшими веками.
— Детская больница — я говорю, конечно, не только о детской хирургии, — продолжал Владимир Афанасьевич ровным голосом, словно бы делая доклад, а вовсе не собеседуя с начальством, — хорошая, подлинная, настоящая больница должна состоять из четырех корпусов.
— Вот как? — уже без улыбки спросил Золотухин.
— Именно так. Первый — лечебный, с первоклассной поликлиникой. В этой поликлинике будет делаться все то, что можно сделать амбулаторно в таком здании. Рассчитана такая больница должна быть на пятьсот человек, половина — хирургия, другая — терапия.
— Никаких белых халатов, — гортанным голосом вмешался Вагаршак. — Сестры и няни в веселеньких платьях, цветочки на платьях, букетики…
— Помолчите, Вагаршачок, — попросил Устименко. — Дальше: второе здание — это гостиница для приезжающих из области или из других городов родителей, которые приехали с больными детьми, пусть тут живут, пока суд да дело, пусть не маются, снимая углы и комнаты у граждан, взимающих за сие в месяц по триста рублей. Гостиница — платная, скромная, но удобная. Кстати, приезжающие с детьми родители — мамы, тети, бодрые бабушки — могут работать в нашей же больнице, но, разумеется, не там, где лежат их дети. Разве это нам не выгодно?
Золотухин лишь взглянул на Устименку, но ничего не ответил.
А тот продолжал, обращаясь более к зданию Заготзерна, нежели к Зиновию Семеновичу:
— Третий корпус — самый далекий от всего этого хозяйства — на берегу Унчи, в лесу: он — санаторий нашей больницы. Там будут те ребятишки, которые не нуждаются в активном обследовании, которые, практически, излечены, но которым мы даем физиотерапию, которым назначена лечебная гимнастика, физкультура, ну — и вдруг еще какие-то доделки и переделки. Соотношение врачей такое: в санатории — один на сто пятьдесят больных, в больнице — один на пятерых больных.
— Что ж, это все чепуховские пустяки, — со вздохом сказал Золотухин, — это мы завтра сделаем. А еще что?
— Еще одно, — поворачиваясь к Зиновию Семеновичу, сказал Устименко, — жилкорпус для персонала, вместе с кинозалом, спортплощадкой, со всем тем, что удовлетворяет потребности культурного человека. Тогда мы абсолютно покончим с текучкой, тогда всегда мы найдем тут же, рядом, нужного доктора, если что случится, тогда…
— Все, — сказал Золотухин, — понятно. Молодцы ребята, действительно практически подошли к вопросу. Интересно было вас слушать. Красиво ты, Афанасьевич, рассказал. Только пока что придется вам примириться на одном здании. Как наш брат докладчик выражается — на сегодняшний день. Так что вы, дорогие товарищи, располагайте тем, что имеете. А погодя… со временем…
Он невесело усмехнулся и положил могучую ладонь на локоть Вагаршака.
— Доктор Саинян? Так? Вот доктор Саинян такую больницу уже наверное осуществит. Ты, товарищ Устименко, может, ее и увидишь, а я — навряд ли. Но Сашка мой, вполне даже возможно, внуков своих сюда доставит. С тем и будьте здоровы!
Кивнув, он пошел тропкой между сугробами почерневшего, ноздреватого снега и, обернувшись, крикнул издали:
— А санаторий — это вы славно придумали. Сами или кто умный научил?
— Сами! — звонко ответил Вагаршак.
И вдруг, сорвавшись с места, побежал догонять Золотухина. Тот, с некоторым даже испугом, покосился на побледневшее от возбуждения лицо Вагаршака и спросил:
— Еще что осенило?
— Осенило! — быстро сказал Саинян. — Пленных-то немцев отпускают? Отпускают! А там и крытый рынок, и еще здания, и…
— Погоди! — попросил Золотухин. — Помолчи.
И, отмахнувшись, заспешил к машине, приговаривая на ходу:
— Тут подумать надо, тут посоветоваться надо. Ах, разбойники, ах, молодцы! Подумаем, подумаем…
— Это вы здорово, Вагаршак, — даже присвистнул Устименко, когда Саинян рассказал ему, для чего бросился догонять Золотухина. — Замечательная мысль. Ежели кто нас не опередил. И главное, свободно там можно строить на свой лад. Неужели такое вдохновение внезапное?
— Просто из головы выскочило, — тихо ответил Саинян. — Это Люба придумала. Ночью меня как-то разбудила. Слушай, говорит, Вагаршак, пока никто лапу на этот городок не наложил — действуйте. У нее же всегда какие-то комбинации…
И засмеялся, довольный.
Потом напомнил:
— Нынче сабантуй у нас, придете?
— Что Щукин?
— Согласился, и даже с удовольствием.
— О чем говорить будет?
— Сказал: так, ничего особенного, расскажу всякие пустяки…
Едва Устименко вернулся в свой кабинет, пришел Богословский, попыхивая папироской, с торжественной миной, весьма самодовольный. В глазах Николая Евгеньевича, несмотря на значительное выражение лица, скакали отнюдь не солидные черти, что всегда означало какую-либо проделанную комбинацию.
— Чаю, Матвеевна! — попросил он в незакрытую дверь.
— Что это вы нынче вроде бы праздничный? — осведомился Устименко.
— Имею право.
— Рокировочку применили?
— И какую еще. Во время свершения сей акции самого меня пот прошиб — кабы, думаю, греха не приключилось. Но вышло, что я истинно непобедимец. В том смысле, что победить меня никому не дано. Ну — и разбойник с большой дороги. Это мне сейчас было сказано.
— Не понимаю, — улыбаясь значительной мине Богословского, так ему не свойственной, сказал Устименко. — Объясните.
— И объясню. Но начну с победы. Сегодня, выражаясь языком снабженцев, завезут нам цемент для детской хирургии. Раза в два больше, чем Саиняну нужно. Еще для труб нам останется.
Матвеевна принесла чай, Богословский, ввиду сугубой секретности своего сообщения, попросил ее немедленно удалиться.
— Я свои методы никому не намерен раскрывать, — объяснил он Устименке причину изгнания старухи. — Что тайна, то тайна.
Утром доставили с цементного завода на «скорой» некоего товарища Яшкина, который по причине тяжелого дня, понедельника, утром, по его личному заявлению, «дважды похмелялся — сначала пивком, а потом и белой». В результате некто Яшкин, зазря испугавшись падающей балки, прыгнул с высоты семи метров на щебень с лесов, где работал. Останься он на лесах, балка бы его не тронула, пролетела бы мимо, на что будто бы и был расчет. Но тут балка Яшкина догнала и раздробила ему ножку. Богословский положил Яшкина на вытяжение, сделал ему переливание крови, в общем «довел до кондиции». Тут, конечно, прилетает директорчик, не ума палата, само собой — испуганный до трясения всех конечностей. Оно и понятно — «охрана труда, где ты?»
— Ну? — еще не понимая, к чему ведет Богословский, но уже догадываясь, что осуществлена хитрая комбинация, поторопил Устименко.
Николай Евгеньевич ответил загадочно:
— Протопоп некий, отцов друг, любил хвастаться: «Воздоил я для тебя, отец Евгений, большое дело своим хребтом». Так и здесь: воздоил!
— Кого воздоили-то?
— Директорчика. Не тем концом у него нос пришит, чтобы думать, а тем, чтобы пугаться. Пуглив и никак не боек. Умственным взором видит лишь одну картину — как его ввергают в узилище за вредительское отношение к проблеме охраны труда. Я же таковую живую картину не отрицал.
— Зачем же так жестоко?
— А затем, свет мой Владимир Афанасьевич, что этот самый собачий сын директорчик — ежели не побиты вы старческим склерозом, то вспомните — напрочь нам в цементе отказывал. И не только нам, но и Золотухину.
— Неужто вам лично отпустил?
Огромной лапищей Богословский вынул из кармана халата бумагу и развернул ее перед Устименкой.
— Чти, ежели грамоте разумеешь!
В особо веселые минуты жизни Николай Евгеньевич обязательно переходил на эдакий язык. В веселые или язвительные.
Устименко прочитал и глазам не поверил: восемьдесят тонн. На бланке, в выражениях категорических и с хвостатой и рогатой подписью.
— Да как же это вам удалось! — воскликнул он. — Ведь это невозможный результат. Он мне ни единой тонны не дал, со всей решительностью заявил — ничем не располагаю лично, хоть зарежьте.
— Довлеет ему, яко ворону, знать лишь свое «кра»! — усмехнулся Богословский. — Сказал я директорчику, что надобно мне не гипс для лечения яшкинского увечья, а по новой системе — цемент. «Сколько?» — спрашивает. Я, глядя в бегающие его гляделки, с бесстрашием и ляпнул — сто, говорю, отец-благодетель, тонн. Он мне в ответ — в том смысле, что здесь неподобающее мздоимство. Совсем из себя директорчик вышел и всяко щунял меня. А мне что — не для себя же? Тут обижаться невместно, перенес все сие благопокорно, потому что понимал — понудит, но отпустит. Конечно, выслушал и разбойника с большой дороги, но со временем ворон этот в своей энергии ругательств остудился и на восемьдесят тонн написал. А я ему с умиленностью, что-де благодетель он наш и отец, а мы его дети, в общем такое козлогласие задал, что самому невтерпеж стало, не ко времени хохотнул…
— Ох, Николай Евгеньевич, — радуясь на смешные проделки своего учителя, сказал Устименко, — зададут когда-нибудь нам…
— Я им сам задам, — посулил Богословский, вставая. — Я им так сильнодержавно задам, пугливым мерзавцам, что долго чесаться будут. Ишь какой — он мне задаст…
И распорядился уже из двери:
— Вывозить надо незамедлительно. Пока дело горячо, а то еще и одумается ворон и похерит свое распоряжение. Главное я сделал — мой перелет соколиный, а ты, воробей, не робей! Кстати, Вагаршак пускай шурует, пора ему и этим делам обучаться, а то все за нашими спинами свою науку сотворяет…
— Нет, Вагаршак этими делами никогда заниматься не станет, — твердо ответил Устименко.
— Это еще почему?
— А потому, что его время мне любого цемента дороже.
Богословский даже обиделся, но ненадолго, Устименко пояснил:
— Вы сходите в прозекторскую, посмотрите, что они там с Гебейзеном колдуют.
— В Пироговы мальчик метит?
— Кстати, вы недавно мне сами сказали о безмерной емкости его таланта. И о том даже, что он «вовсе черт знает что такое!», а это на вашем языке, по-моему, похвала…
Богословский, уже сдаваясь, немножко возразил:
— Однако административная деятельность…
Посмотрел в упрямое, набычившееся лицо своего главврача, махнул рукой, нахмурился, взглянул на стенные часы и сказал раздраженно:
— Пойду Пузырева оперировать.
— С кем?
— Нечитайло там и Вагаршак. Думаю — труба дело.
Он всегда злился, когда не ждал добра от своих рук. И еще более злился, если надо было расхлебывать грехи своих слишком осторожных коллег. Коллег, которые уходили от ответственности. Тогда злая тоска появлялась в его старых глазах, и на расспросы он лишь раздраженно отмахивался да отмалчивался с короткими вздохами.
Проводив Богословского, Владимир Афанасьевич посидел немного, собираясь с мыслями, закрыв глаза, потом прислушался. Мимо повезли на тележке из раздаточной обед, первое — он заглянул в нынешнее меню — суп грибной. Вторую тележку он тоже перепустил, вышел только на перехват третьей. Так он всегда брал пробу — не из котла: оттуда умели носить соответственно, эти штуки он знал еще по войне. Здесь же была настоящая, подлинная проба.
Нянечка Нюша, приметив на своей трассе длинного, опирающегося на палку главврача, притормозила, улыбнулась, просияла.
— Пробу? — звонко спросила она.
Устименко кивнул, взял тарелку, унес к себе. И съел всю — это было неловко, но ведь нигде, кроме как в больнице, его не кормили. У него не было никакого своего дома. Впрочем, никто бы не стал доедать за ним. «Черт подери, как это глупо, — подумал он, — ну, почему, почему, зачем нас тут не кормят? Какой Женюрочка это придумал? Что хорошего в том, что дежурный врач сидит на сухоядении сутки?»
Закурив (он стал много курить последнее время), Устименко позвонил Лосому «в отношении транспорта» — так он, к своему удивлению, сам выразился, эдакий доставала!
Узнав, что надобно возить цемент, Лосой ужасно удивился и возмутился. Пришлось поведать Андрею Ивановичу всю правду со всеми подробностями.
— Ну, народец! — поразился Лосой. — Это — да! Под одну ногу восемьдесят тонн. А не восемь? Не морочишь мне голову?
— Восемь тоже на полу не валяются…
Положив трубку, Устименко вновь прислушался. И опять вышел на перехват тележки с супом. Это была его метода, им придуманная и разработанная до мелочей: не оставлять кухню в покое до конца обеда, или ужина, или завтрака. Чтобы там не успокаивались на достигнутом, на том, что главврач пробу снял. Чистой ложкой он хлебнул из тарелки и сказал звонкоголосой няне:
— Холодный, нянечка, супчик. Своему мужику такой не подашь! Вези обратно.
— Так ведь больные…
— Больные подождут немножко, а зато получат горячий суп. И сегодня, и завтра, и послезавтра.
Он не шутил. Глаза у него были злые.
— Сидит за своей дверью, как тот тигр в засаде, — пожаловалась Нюша в раздаточной, при суровом Митяшине, на свою беду.
— Я тебе, девушка, такого тигра покажу, — мягко посулил он, — что все перышки из тебя полетят.
Нюша звонко сообщила, что не намерена тут страдать, найдет себе место не хуже, здесь одно лишь беспросветное мучение…
— На земле — место? — осведомился Митяшин.
— А где же?
— Так я тебя, лапушку, отыщу. Хоть у водников, хоть у железнодорожников. И будет тебе, голубочка, такая создана неслыханно желтая жизнь по линии общественности и профсоюза, такой сплошной кошмар и нечеловеческий ужас, что ты к нам обратно на полусогнутых прибежишь и в ноги повалишься — простите за мою подлость и за мое хамство к такому человеку, как Владимир Афанасьевич. Понятно?
Нянька слушала, слушала да и заревела вдруг, пронзенная удручающим красноречием всегда молчаливого Митяшина. Старая Матвеевна, как обычно строго и наставительно, посоветовала:
— К нему сейчас со всей душой надо. Тебе, дуре, неизвестно, а мы знаем: его жена бросила, с ребеночком от него уехала, стерва, прости на черном слове, товарищ Митяшин.
Митяшин буркнул:
— Зря, Матвеевна, сплетни разводишь!
— За сплетни никто меня никогда попрекнуть не может, — твердо сказала старуха, — я такой пакостью ни в жизнь не промышляла, а про беду Владимира Афанасьевича эта вертихвостка знать обязана…
У «вертихвостки» задрожали губы, так ей жалко стало «тигра в засаде». Но она, для порядку, огрызнулась:
— А я тут непричастная, что у него супруга сбежала. Пускай на мне свою горячность не срывает.
— Уволимся? — вдруг не своим, петушиным голосом осведомился Митяшин. — Оформить?
В раздаточную усталой походкой вошла Нора, от ее халата резко и хлестко пахло операционной — наркозом, села, пожаловалась:
— От таких картин жить просто невозможно.
— А какие такие особенные картины? — осведомился Митяшин, не любивший жалостные разговоры на работе. «Больница есть больница, — утверждал он, — в ней, как на войне, случается, и умирают». — И что значит — жить невозможно? — рассердился вдруг фельдшер. — Этой, видите ли, тоже невозможно, потому что прищемил ей хвост главный…
И, налив себе кипятку из чайника, Митяшин вынул из кармана пакетик, оттуда наколотый пиленый сахар и, забросив кусочек за щеку, сильно хлебнул. В это мгновение Нора заплакала.
— Да ты что? — поразился он. — Какая беда случилась?
Но она ничего не отвечала, только плакала — Нора, которую за годы войны суровый Митяшин ни разу не видел не только плачущей, но даже печальной. Плакала и сердито повторяла:
— Невозможно, невозможно, невозможно…
— Да что невозможно-то? Что?
— А то, что этот Пузырев, герой этот, который… Все проросло, печень поражена, все, все. И Николай Евгеньевич… не выдержал, — уже рыдая, говорила Нора, — при всей своей выдержанности не выдержал. «Если бы, — сказал, — если бы не мытарили его, не гоняли, не тянули, вполне еще жил бы и жил, а теперь…» И выразился, как пошел умываться…
— Зашили? — угрюмо осведомился Митяшин.
Нора кивнула.
— Ну и все, — сказал фельдшер. — Теперь, Норушка, все. Только в дальнейшем мы, я тебе партийное слово даю, такого никогда не допустим. Да и вины тут нашей нету. Тут товарищ Степанов отвечает перед совестью за свой грязный приказ. Это ж надо выдумать — иногородних на стационарное лечение не принимать, это ж надо такой приказик подмахнуть…
Он сморщился, как от внезапной зубной боли, вышел в коридор, вернулся и спросил:
— Ты мне ответь, как такие гниды в нашу партию пролезают? Вот пойдет он, этот самый Евгений Родионович, по площади имени Пузырева, и что он? Перейдет эту самую площадь? Перенесут его ноги?
Отплакавшись, ушла и Нора, а Матвеевна сказала все еще похныкивающей Нюше своим старческим, но твердым голосом:
— А ты, девка, обижаешься! Знаешь, какая у них работа, у докторов? Я на деле на медицинском скоро полвека пекусь, все не привыкну. А разве моя ответственность такая, как ихняя? Недаром говорится, что хороший доктор умирает с каждым своим пациентом. И верно, точно…
На вечернем «сабантуе» они сидели все трое рядом — строгая Матвеевна, зареванная, в креп-жоржетовой блузке Нюша и суровый Митяшин — и внимательно, со значительным выражением, слушали профессора Щукина, который рассказывал, сидя во главе стола, такой ослепительно элегантный в своем твидовом пиджаке, в галстуке-бабочкой в белый горох, в серебристо накрахмаленной рубашке, что буквально все до одной молоденькие няни и сестры, докторши и лаборантки Унчанской больницы завидовали Ляле, у которой такой муж. Впрочем, и Ляля слушала Щукина, побледнев, потупясь, наверное, чтобы никто не видел ее восхищенных глаз, прячась от его взгляда, напряженно ищущего встречи с ее взглядом. Ведь он ей говорил! И оперировал хуже, если «случайно» не оказывалась она в операционной на очередном испытании его жизнеспасающего дара, когда, весь собранный, красиво напряженный, с мелкими бисеринками пота на высоком и чистом лбу, он не забывал произносить еще не привыкшим к нему сестрам: «Будьте так добры, дайте мне корнцанг», или: «Благодарю вас, Евгения Николаевна», или короткое: «Признателен», когда няня, священнодействуя, обтирала его жаркое, до синевы выбритое, крепкое лицо марлей. И с ней, с Лялей, он ходил на лыжах, в общем старый человек, утомляя ее до веселых слез, ей, почти девочке, никакому еще врачу, быстро и легко рисовал план новой, небывалой, фантастической операции, и ей подолгу читал из своих любимых древних — из Сенеки, Марциала, Лукреция, Цицерона, Горация, Овидия. Ничего этого она «не проходила», он не упрекал ее, он только радовался тому, как она, эта жена-девочка, понимает все, что дорого ему, как жадно слушает его и взрослеет не по дням, а по часам, оставаясь все-таки девчонкой, как он называл ее — дочкой.
И сейчас, слушая своего мужа и дивясь ему, как дивилась всегда, дивясь тому, что этот человек — ее муж, она одновременно видела перед собою того Мудрого, Старого, Великого и Одинокого, о котором он рассказывал, и вспоминала фразы древних — запоминать Ляля умела. «В беде следует принимать опасные решения», — сказал он как-то ей и тотчас же принял к исполнению совет Сенеки — бросил все, и они уехали в Унчанск. «Кто, кроме лжецов и негодяев, гордится ложной почестью?» — спросил Федор Федорович словами Горация и разом порвал со всем тем, с чем другой порвать бы не решился. И еще из Горация сказал Щукин: «Скрытая доблесть мало отличается от безвестной бездарности», — и выступил против Шилова на открытом партийном собрании, выступил один, вот в этом же костюме, в этой рубашке, с наглой, вызывающей бабочкой в горохах под сверкающим крахмалом воротничком. А когда его приканчивали, она получила записку: «Иной переживет и своего палача (Сенека. Письма, 13)».
— Федор Федорович, разрешите все-таки вопрос: кто он, этот Одинокий, Мудрый, Старый человек? — спросил Устименко, пока Щукин пил чай быстрыми глотками. — Всем хочется знать.
— Тот врач, который написал о нем, — красиво ставя стакан на блюдечко, ответил Щукин, — употребил, если мне память не изменяет, следующую формулировку, относящуюся до нравов и нравственности американского интеллигентного общества: «Цех врачей не настолько далеко ушел вперед от цеха цирюльников, чтобы погнушаться любым средством для того, чтоб оклеветать своего выдающегося собрата, если его выдвижение вперед может нанести цеху материальный ущерб. Поэтому никто не узнает подлинного имени Одинокого, Мудрого и Старого человека. Никто не узнает, пока наше общество не станет человеческим обществом, а не стаей волков, готовых пожрать слабейшего. Мудрому и Одинокому за восемьдесят, и он не искушен в подлостях…» Вот так примерно. Всем понятно?
— Какой ужас их жизнь! — горячо воскликнула Закадычная.
— Вам не скучно? — спросил Щукин как бы у всех, но на самом деле лишь у своей жены.
Все загудели, что им нисколько не скучно, а Ляля лишь повела угловатым мальчишеским плечиком, и он угадал в этом движении целую фразу, необходимую ему для того, чтобы и дальше всё и всем было интересно. «Говори! — прочитал Щукин. — Пожалуйста, говори! Разве можешь ты говорить скучно? Разве ты не видишь, как я слушаю тебя? И все слушают. Говори же!»
— Ну-с, тогда не обессудьте за дальнейшее, — сказал Федор Федорович и поднялся.
Рассказывая, он любил ходить.
И вновь Устименко, словно бы воочию, увидел Старого и Одинокого Доктора с его серебристыми кудряшками вокруг лысины, с его розовым, младенчески пухлым лицом, выражающим простоту и доступность, и опять как бы услышал его твердый, бесстрашный, уверенный голос, голос мудреца, наверное, похожий на тот, которым были произнесены слова многовековой давности: «Не трогайте мои чертежи».
— «Самые лучшие из врачей, — по памяти медленно говорил Щукин, — являются в нашем обществе наивысшим типом современного человека, в то время как самые худшие (к счастью, их немного даже в мире чистогана) суть легализованные и дипломированные убийцы — вспомните кошмары подкупов такого рода негодяев фармацевтическими фирмами… Кастовая этика в обществе, в котором еще существуют страшные законы чести цеха, — не этика порядочных людей, это нечто совсем иное, нечто такое, о чем говорить вслух опасно: ты будешь лишен хлеба и воды и пойдешь по миру со всеми чадами и домочадцами…»
Так рассказывал о Старом и Одиноком Федор Федорович Щукин, и работники Унчанской больницы слушали своего элегантного профессора затаив дыхание, потому что никто из них не ведал той цеховщины и той особой тайной этики врачей-гангстеров, которой убоялся даже Мудрый, Смелый и Одинокий, чьего имени никто не знал.