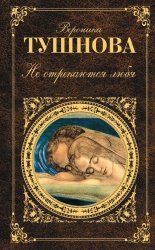Я отвечаю за все Герман Юрий
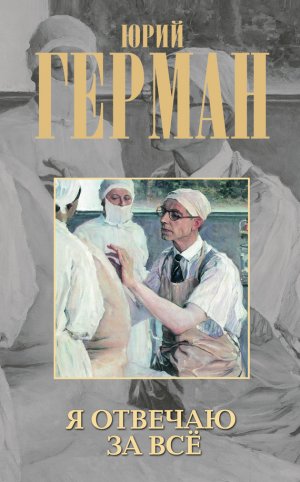
— Операция, — сказал он, — ампутация. Чтобы жить весь организм, надо вовремя ампутация. Конечно, немного неприятно, да… Но кто видел, как дымит труба, тот понимает. И еще больше для того, кто думал — всемирное братство всех. Палий не есть брат. И я много скажу на заседании суда.
— Дать вам машину? — спросил Штуб.
— Нет, большой благодарность, буду идти так. Воздух. Немного отдохнуть. Не думать, как дымит труба. И как я больше никогда не буду ученый доктор, потому что труба обжег меня тоже…
Гнетов и Колокольцев встали. Гебейзен подал им руку, потом, всмотревшись в Виктора, спросил:
— Лагерь?
— Просто война, — краснея, сказал Гнетов.
Сергей пояснил:
— Он летчик. Горел. В самолете.
— Тоже труба, — сказал Гебейзен. — Он каждому дымил по-своему, этот крематорий.
И ласково, своими тонкими пальцами, сжал плечо Гнетова. Сжал и заглянул ему в глаза своим жестким, требовательным, непримиримым взглядом. А потом быстро пошел к двери.
— Вот так, — со вздохом произнес Штуб, когда вернулись провожавшие старика Гнетов и Сергей. — Вот так, ребятки. А нам кажется, что и мы пахали.
— А разве не пахали? — спросил Колокольцев.
— Пахали-то пахали, да нам легче было. Мы соответственно в идейном смысле готовенькими войну начали. А вот эдакий гуманист? Прежде, чем он собственным опытом дошел до идеи ампутации… Впрочем, ладно. Давайте делами заниматься. Как там кадровичка эта — Горбанюк?
Дел было порядочно, и Штуб высвободился только к пяти часам: на углу Ленина и Прорезной состоялось у него свидание с собственной женой на предмет примерки костюма у портного, так как, по словам Зоси, Штуб совсем обносился и имел неприличный вид. В середине Прорезной был узенький сквер с новыми скамейками, и Зося тут читала, как всегда и везде. Август Янович сел рядом с ней, она его, разумеется, не заметила. Он заглянул в книжку и прочитал длинный абзац с описанием облаков, деревьев, трав и запахов.
— Интересно? — спросил Штуб.
— Очень пластично, — сказала Зося. — И хороши картины природы.
— «Он любил литературу, которая его не беспокоила, — щегольнул своей памятью Август Янович. — Шиллера, Гомера и так далее…»
— Это кто сказал?
— Чехов, — вздохнул Штуб, — и удивительно, между прочим, мудро. Огромное большинство, по моим наблюдениям, любит такое искусство, которое не беспокоит. А назначение изящной словесности — именно беспокоить, будоражить, иногда даже бить дубиной по башке.
Зося быстро взглянула на мужа своими близорукими глазами.
— Что-то ты сегодня злишься, — сказала она, беря его под руку и прижимаясь к нему худеньким плечом. — И усталый. Последнее время у тебя вообще измученный вид…
Он не ответил: если бы она знала…
Штатский и военный портной Выводцев-Кутейников был портач и халтурщик, которого Штуб мгновенно разоблачил. Что такое настоящий китель — старый негодяй понятия не имел, и Август Янович со своими глубокими и основательными знаниями предмета мгновенно вогнал его в пот.
— Разве так делается спинка? — спрашивал тенорком Штуб. — Разве так затягивают фасонные линии? Вы же стачать гривенку не умеете, вы папорку не подложили толком. А кант? Как вы делаете кант?
Выводцев-Кутейников прижал ладони к груди и обнаружил свою полную безграмотность. Он не слышал никогда о том, что вторая линия канта делается путем вдавливания проволоки очень горячим утюгом.
— Дайте утюг, — сказал Август Янович, — я вам покажу, что такое настоящая работа.
Он сбросил свой лоснящийся китель, поправил очки и взялся за работу, маленький, коротконогий, загадочный человек, который ко всему прочему был еще и портным.
— На вашем месте я бы занял пост директора мастерской, — говорил Штуб, сильно и ловко упираясь руками в тяжелый утюг. — Директор вправе ничего не уметь, а вы настолько ничего не знаете, что для вас посадить грудь на клей — проблема.
В это время в мастерскую пришли Аглая Петровна и Степанов. Выводцев-Кутейников, чрезвычайно огорченный и нравственно потрясенный всем происходящим, велел новым клиентам прийти завтра, но Штуб обернулся и, узнав в сумерках Устименко, прекратил свое портняжье занятие, натянул китель и познакомил Зосю с Аглаей Петровной и Родионом Мефодиевичем.
— А мне на минутку показалось, что я с ума сошла, — сказала Аглая Петровна. — Правда. Вы — и тут, с утюгом?..
Ее чуть раскосые глаза горячо и ласково смотрели на Штуба, а он застегивал пуговицы и посмеивался сконфуженно:
— Немножко портняжил когда-то, вот и не утерпел. Вы что, с заказом?
— Да ведь все надобно, — сказал Родион Мефодиевич, — все с самого начала. Не то что выйти не в чем, даже и дома надеть нечего. Пальто вчера приобрели в комиссионном — на улице ведь не показаться… А ей в Москву не терпится.
Светлые глаза адмирала светились счастливо и нежно, он словно помолодел лет не меньше, как на десять, открыл чемодан и стал выбрасывать на прилавок отрезы, из которых предполагалось построить Аглае Петровне весь ее гардероб на ближайшее время. Зося вступила в беседу, щупая мануфактуру и удивляясь ее добротности, Выводцев-Кутейников с осторожностью продемонстрировал «трофейный» журнал мод образца сорок пятого года (но Париж!). Однако Штуб что-то вдруг нахмурился и попросил Родиона Мефодиевича на минуту в сторонку.
Пока женщины со свойственной их полу горячей заинтересованностью решали, каким именно фасоном строить костюмчик и правильно или неправильно «видит» будущее пальто пройдоха и портач Кутейников, пока тот вдохновенно настаивал на формулировке: «я мыслю, мадам, исключительно в данной модели», — Штуб и Степанов отошли в дальний угол «приема заказов», сели на желтый деревянный полированный диванчик, и Август Янович без всяких околичностей сказал, что убедительно просит адмирала «ни в коем случае не отпускать Аглаю Петровну из Унчанска».
Степанов молча вопросительно взглянул на Штуба. Этот человек был теперь для него лучшим из людей, которых он когда-либо знал. Взглянул в очки, за которыми не видно было глаз.
— Вы поняли меня? — сухо осведомился Штуб.
— Нет.
— Постарайтесь понять. Ваша жена сактирована. Несмотря на ее резкие протесты, мы выпустили ее только по болезни. Не в нашей власти ее реабилитировать сейчас, как бы мы к этому ни стремились…
— Но она не может…
— Пусть подождет! — взорвался вдруг Штуб. — Пусть отдохнет, наберется сил, вернет себе утерянное здоровье. Мы достаточно с ней обсуждали эти проблемы. И конечно, ни до чего не договорились. Теперь я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Кустарным способом Аглая Петровна ничего не добьется, кроме разве беды не себе одной. Будем надеяться, что придет время и все встанет на место, но время это еще не пришло…
— Дело в том… — опять завел Степанов, но Штуб вновь резко оборвал его. Резко, нетерпеливо, даже гневно:
— Я запрещаю ей ехать в Москву, — не допускающим продолжения собеседования голосом сказал Штуб. — Я категорически запрещаю ей обращаться в какие-либо вышестоящие органы. Надеюсь, вы найдете возможным втолковать все это вашей жене…
И, кивнув издали Аглае Петровне, он натянул шинель, кликнул Зосю и с непроницаемым выражением бледного лица, закусив зубами незакуренную папиросу, первым вышел на улицу, на ветреную, весеннюю, веселую Прорезную, где с гомоном играли в «окружение» ребята и где капали теплые капли первого апрельского дождя.
— Что с тобой, Штубик? — спросила Зося. — Чего ты злишься?
— Я? — изумился он.
— То гладил, объяснял портняжьи слова, а сейчас вдруг… И вообще, что с тобой делается последнее время? Ты совсем сам не свой…
— Свой, — со слабой усмешкой ответил он, — свой, Зосенька. Кто свой — тот свой, не сомневайся, но характер портится, это я и сам замечаю. Давай посидим немножко на скамейке, а потом ты купишь мне чекушку водки, я напьюсь и буду истязать тебя с детьми.
Они посидели немножко молча, Зося больше ни о чем не спрашивала его. А когда поднялись, чтобы идти домой, Штуб вдруг произнес на память, как всегда неожиданно:
- Величие народа в том,
- Что носит в сердце он своем.
— Это из Пушкина? — тихо спросила Зося.
— Нет, из Майкова.
— А о чем ты думаешь?
— Так, ни о чем, — вяло ответил он, но это была неправда. Еще увидев Зосю на лавочке в Прорезном сквере с книжкой, он стал вспоминать слова из другой книжки, давно прочитанной, складывать их в фразы и сейчас вслушивался в строки, которые вдруг захватили его душу: «А ты разве не одинок? — вспоминалось Штубу. — Что ж в том, что у тебя есть жена добрая и тебя любит, а все же, чем ты болеешь, ей того не понять. И так всяк, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих».
Чекушку купить Штуб забыл.
ВОТ И ВСЕ!
Вечером, когда они ели оладьи из сырой картошки — последнее кулинарное достижение деда Мефодия, обзаведшегося засаленной книгой под наименованием «Как кормить семью и требовательного мужа», — позвонил Богословский — ему таки поставили телефон, лишив «такового» пивную, разумеется после долгих скандалов, склок и препирательств.
— А чего это вы будто не в духе? — осведомился Владимир Афанасьевич. — На кого сердитесь, Николай Евгеньевич?
— Сердце жмет, — пожаловался никогда ни на что не жалующийся Богословский. — Погода чертова, как возьмутся эти самые туманы-растуманы — места себе не нахожу…
— Передай ему привет, — сказала Аглая Петровна, — слышишь, длинношеее? А то пусть приедет…
Устименко отмахнулся. По голосу Богословского он понял, что тому в самом деле плохо, и решил навестить старика, чтобы в случае чего вызвать Воловик и предпринять необходимые меры. И не более как через тридцать минут его изуродованные пальцы сжимали запястье Николая Евгеньевича. Тот лежал толстый, живот горой вздымался под одеялом, глаза смотрели брюзгливо, отечное лицо густо поросло седой щетиной.
— Ничего не поделаешь, — сказал Устименко, — придется недельку полежать. Сейчас приедет Воловик, займется вами серьезно.
— Фигу с маком! — последовал краткий ответ.
— Не хулиганьте! — попросил Устименко.
— У меня завтра операционный день, — глядя в потолок, сухо объяснил Богословский. — И отменять его вы не вправе. Ну, а кроме того, я, как Овидий, которого так любит наш почтеннейший Федор Федорович, единственно чего хочу, чтобы смерть «застигла меня посреди трудов».
Несмотря на все ругательства Богословского, Воловик все-таки приехала, да еще в сопровождении Митяшина. Николай Евгеньевич с вызывающим видом закурил папиросу. Митяшин убрал комнату, заварил чай, поджарил, как на войне, несколько ломтиков хлеба. Решено было всеми завтра же забрать Богословского в больницу, поставить ему кровать в ординаторской, пусть там отлежится. Старый доктор слушал своих коллег с довольно-таки ядовитой улыбкой, и Устименко, догадавшись о причинах улыбки, тут же весь план перевозки Богословского отменил.
— Полежите дома, — сказал он круто. — Не выйдет ваш номер.
— Какой номер?
— А такой номер, что мы вас, как больного, уложим в больницу, а вы там оперировать приметесь…
Митяшин остался еще поболтать с Николаем Евгеньевичем, а Устименко на дребезжащей и чихающей больничной машине отвез докторшу Воловик домой и поехал к себе. На кухне по-прежнему чаевничали Аглая Петровна, Степанов и дед Мефодий. Когда Устименко подвинул себе стакан с чаем, зазвонил телефон — это говорила из Гриднева Варвара. Владимир Афанасьевич понял, что это она, по той особой бережной интонации, с которой адмирал сообщил ей, как и с кем они тут сидят за столом.
— Ты слушаешь? — осведомился он.
Варвара, видимо, молчала, потом вскрикнула, взвизгнула, заверещала. Аглая Петровна взяла трубку. Устименко, как будто нисколько это все его не касалось, подвинул к себе блюдечко с мелко наколотым сахаром, зашелестел непрочитанной газетой.
— Ну неделю-две, потом уеду в Москву, — сказала Аглая Петровна. — Нет, хоть на один вечерок вырвись…
Разговаривая с Варварой, она пристально смотрела на племянника, а тот, хоть и чувствовал на себе ее взгляд, делал вид, что читает и ничего решительно его не касается. Потом трубку схватил дед Мефодий — по его мнению, в Большом Гридневе дешев и добротен был лук, и Варваре следовало привезти хоть полмешка.
— Луку, — кричал он, тараща глаза, — что ты, понимаешь, чевокаешь? Крупный бери, белый, долгий. А чеснок в рынке-то у вас есть? Не знаешь? А что ты знаешь? Мясо почем — знаешь?
Повесил трубку и удивленно сказал:
— Ревет. Ей-ей. Так ничего и не втолковал. Отцепись ты, говорит, от меня, дед, со своим мясом…
Владимир Афанасьевич еще раз перегнул газету, будто и в самом деле интересовали его общие проблемы спорта в Казахстане. А тетка все поглядывала на него знакомым, изучающим взглядом.
— Так вот, — сказал он тем голосом, которым говорил на пятиминутках в своей больнице, — вот как будет, товарищи. Я в ближайшие дни перееду к себе в кабинет, в больницу. Так что вся квартира будет в полном вашем распоряжении. Гебейзену тоже скоро предоставят комнату, а эту отдадите деду Мефодию…
— Перестань, Владимир, — велел адмирал и, остановившись посреди комнаты, сказал: — Помнишь, Аглая?
Она кивнула с легкой улыбкой, словно догадываясь, что должна помнить, а он негромко запел, притоптывая ногой:
- Дан приказ был командирам
- Разместиться по квартирам,
- Дело близится к ночи,
- Зорьку трубят трубачи…
Глаза его повлажнели, он махнул рукой, прошелся по кухне и сказал с тоской и болью:
— Лучшие годы нашей жизни. Лучшие. Самые наилучшие.
— Не надо об этом, — попросила Аглая. — Для чего?
Дед Мефодий повалился спать за ширму, тетка Аглая взяла папироску, подула в мундштук и, закурив, прихлебывая маленькими глотками чай, рассказала вдруг про Алевтину-Валентину, про последние дни ее жизни и про то, как спасла она Аглаю Петровну, уведя за собой фашистюг.
— Хорошего куда больше, чем плохого, — заключила она задумчиво, — правда, Володя?
Он не ответил: ему страшно было своей брезгливости к Алевтине и того раздражения, которое он испытывал в те далекие годы, когда рассматривал «портрет кактуса» на стене в квартире Степановых. А тетка медленно и задумчиво рассказывала теперь о том, как вез ее в Унчанск Гнетов, как думала она про него, что он представитель ЦК, и как тут Штуб, словно бы через силу, объяснил ей, что, несмотря на полную ее невиновность, кроме как «сактировать» ее, то есть отпустить по болезни, он ничего своей властью сделать не может. «Сактировать» или «комиссовать» — какие-то такие слова…
— Говорил и не глядел на меня, — сказала тетка Аглая Владимиру Афанасьевичу, — как это все понять? Вот вышла я, домой вернулась, а что толку? Объясните мне, умники? Как теперь жить? Беспартийная, иждивенка, осужденная по статье такой-то и освобожденная из заключения по инвалидности? Так, что ли?
Голос ее дрогнул, но она быстро подобралась, заставила себя улыбнуться и пообещала:
— Больше не буду.
Дед Мефодий сладко храпел за ширмой. Устименко поставил себе у плиты раскладушку. Аглая постелила ему, положила тонкие руки на плечи и, глядя на него снизу вверх, сказала:
— Не могу видеть эту твою жизнь. И почему ты не ешь ничего? Правда, что тебя облучают для какого-то дурацкого опыта? Крыс нет, что ли?
— Так они же крысы, тетка, — с несвойственной ему нежностью в голосе ответил он. — А нужен человек.
— Кроме тебя некому?
— Отец тоже так рассуждал в Испании? И ты в войну? Тебя заставляли идти в подполье? Кроме тебя было некому?
Она смолчала, глядя на него своими косенькими глазами.
Потом предложила:
— Давай я тебя усыновлю. И буду пороть каждый день. Оформление простое — фамилии одинаковые. Идет?
Он улегся, но заснуть опять не смог, облучение уже давало себя знать, хоть он и крепился: потрескивало в ушах, сохло во рту, было страшно ночи. Промучившись часа два, он в трусах и в полосатой тельняшке, накинув на плечи одеяло, сел за стол писать свои наблюдения над собственной персоной. Защелкала машинка — единственное его ценное движимое имущество. Устименке стало смешно — писал о себе действительно как о крысе. Вытащил листок, скомкал, стал писать иначе. Получилось жалостно до неловкости. Нужно было найти нечто среднее между крысой и собой — задача не из легких. В этих муках творчества и застала его тетка Аглая, услышавшая сквозь сон, в ночной тишине, стук машинки.
— Ты писатель? — спросила она, остановившись за его спиной и вглядываясь уже дальнозоркими глазами в машинописные строчки.
— Я — крыса, — усмехнулся он, — ты же сама сказала.
— И крыса пишет?
— Как может, так и пишет, — сказал Устименко. — Посильно.
Не глядя на нее, он чувствовал — она читает.
— Ну что ж, — произнесла тетка Аглая. — Слог есть. Что-то даже эпическое. А вестибулярный аппарат — это уши?
— В некотором роде.
Ее тонкая рука лежала на его плече. И вдруг, преисполнившись нежностью и благодарностью к ней, которая вышла к нему ночью и прочитала его неуклюжие строчки, испытывая счастье от ее присутствия, оттого, что она существует, он неловко повернулся и поцеловал ее руку.
— Ты что? — спросила она. — Ты что, Вовка?
— Усыновляй, — решил он, — пори. Все, что хочешь. Но не лезь обратно в тюрьму. Неужели ты не понимаешь, что происходит нечто неладное? Неужели…
Но она не дала ему договорить. Она возмутилась и оскорбилась. Сухо и неприязненно она сказала ему, что обобщать никто не имеет права. Сталин есть Сталин, и не им судить его. А с непорядками, безобразиями и преступлениями обязан бороться каждый коммунист, чего бы лично ему это ни стоило. Существует Центральный Комитет. Существуют органы государственной безопасности. Она пойдет и добьется пересмотра тех порядков, которые установлены пробравшимися в органы врагами народа, мерзавцами и карьеристами, из корыстных и иных грязных побуждений подрывающих основы Советской власти. Уж она-то знает, о чем говорит, и не желает входить в обсуждение этого вопроса на обывательских началах…
С изумлением и даже ужасом слушал Владимир Афанасьевич ее жесткую и раздраженную речь. Прервать себя она не позволила. Но он все-таки вспылил настолько, что прорвался с одной-единственной фразой:
— Значит, ты можешь поверить в то, что старый большевик, старее тебя, из тех, которые гремели при царе кандалами, — потом взял да и продался империалистической разведке за пять тысяч долларов?
— Прекратим этот разговор! — совсем сухо сказала тетка.
Он обиделся, не поняв того, что там, в заключении, где сама она мучилась этими вопросами, спасало ее только одно: она «прекращала этот разговор» даже сама с собой, не только с соседями по нарам.
Владимир Афанасьевич лег и опять не уснул, и в темноте слышал, как она выходила, искала папиросы. Услышал, как потрясла коробок спичек, и попросил:
— Покури тут, тетка.
— Опять не спишь, негодяй? — спросила она прежним, легким голосом. — Почему?
— Старость, — в темноте улыбнулся он.
Она села на табуретку, рядом с его раскладушкой, подумала о чем-то, наверное, судя по голосу, улыбнулась и сказала:
— Вот стишок, чтобы спать, скажу. Хочешь?
— Скажи.
— Очень он ко мне почему-то привязался, этот стишок, — задумчиво произнесла Аглая Петровна. — Бывало — так трудно на душе, так пусто, так дико, а вспомнишь — и улыбнешься на эту самую картошку. Слушай!
- Что сомненья? Что тревоги?
- День прошел, и мы с тобой —
- Полузвери, полубоги —
- Засыпаем на пороге
- Новой жизни молодой.
- Колотушка тук-тук-тук,
- Спит животное Паук,
- Спит Корова, Муха спит,
- Над Землей Луна висит,
- Над Землей большая плошка
- Опрокинутой воды.
- Спит растение Картошка.
- Засыпай скорей и ты!
— Кто написал? — живо спросил Устименко, радуясь удивительным стихам.
— Наш зэка, — ответила тетка Аглая. — Заболоцкий некто… Хоть ты меня не мучай! — вдруг сорвалась она, сильно затянулась папиросой и встала. — Не мучай, пожалуйста, длинношеее. Ведь силы-то на исходе.
Ему показалось, что она всхлипнула. Но вряд ли это было так, потому что тетка вдруг прочитала еще одну строфу:
- Высоко Земли обитель,
- Поздно, поздно! Спать пора!
- Разум, бедный мой воитель,
- Ты заснул бы до утра.
— Черта лысого уснет! — сказал Устименко.
Она нагнулась к нему, поцеловала его куда-то возле уха и ушла быстрой, легкой, молодой походкой. А утром, когда дед отбушевался с завтраком, напросилась с Володей в больницу. Лицо ее было свежо, будто она и вправду отлично выспалась, глаза светились ласково и насмешливо, о кулинарном искусстве запыхавшегося в хлопотах деда Мефодия она произнесла целую речь, мужу отутюжила-отпарила китель, Володе его «главные» брюки, принарядилась, как могла, попудрилась и объявила:
— Ну что же вы, товарищ главврач? Долго вас ждать?
Он натянул шинель, вооружился палкой. День был туманный, с дождиком, зима кончилась, весна еще не взялась со всей силой. Аглая Петровна вдруг сказала:
— Как удивительно. Идешь, и никакого конвоя. И никакого тебе «разберись по пять». Просто идешь и идешь.
— Ты сумасшедшая, вот ты кто, тетка, — сказал ей Устименко. — Тебе нужно спать, есть, дышать воздухом, а не тащиться со мной в больницу.
— А нога болит? — спросила она, глядя, как он упирается палкой.
— Нога не болит. Тебе нужен режим, тетка…
— Режим у меня был, — улыбаясь, ответила она. — Что было, то было…
Ей все было весело — этой удивительной женщине: и улица радовала ее, улица ее юности, улица Ленина. И дождик — она подставляла ему свое худенькое, конечно, постаревшее и все-таки вечно молодое лицо. И узнавание — она узнавала дома, словно людей, отремонтированные, перестроенные, достраивающиеся после бомбежек, — она чуть не здоровалась с ними.
В сквере, возле церкви, Володя посоветовал:
— Ты бы посидела.
— Насиделась, — сказала она радостно. — И не смей мне это предлагать.
— Ну, зачем ты увязалась со мной?
— Платона Земскова хочу повидать — раз. Больницу твою — два. Тебя в больнице — три. Богословского — четыре. Мало?
— Богословский болен. Ты его не увидишь.
— Других твоих увижу. Увижу, как ты командуешь. Тоже — не жук чихнул.
Когда они подходили к лагерю военнопленных, там вдруг широко распахнулись ворота, ударил духовой оркестр и изящные джентльмены в фетровых шляпах, со щегольскими чемоданами, в добротных плащах рванулись к грузовикам, которые чередой стояли у колючей проволоки.
— Это еще что такое? — изумилась тетка.
— Теперь и здесь будет моя больница, — не слишком вразумительно объяснил Устименко. — Ты, тетка, даже представить себе не можешь, какие мы все тут ловчилы, доставалы и пройдохи. Особенно я.
Оркестр гремел совсем близко, грузовики трогались в сторону вокзала один за другим, немцы кричали «хох», а когда Устименко поравнялся с кортежем, бывшие враги, бывшие пленные заорали сипато и восторженно нечто уже прямо касаемое «генераль-доктор», и Владимиру Афанасьевичу пришлось помахать им рукой.
— И они тебя знают? — изумилась Аглая Петровна.
— А я здорово знаменитый, тетка, — сказал Устименко. — Вот — Вишневский, вот — Бурденко, вот — Петровский, вот — Устименко.
— Как странно, — не слушая племянника, сказала Аглая Петровна.
Владимир Афанасьевич молча взглянул на нее. Ее высокие скулы порозовели, глаза смотрели на отъезжающие грузовики беззлобно и печально.
— Ты об этом когда-нибудь думал?
— О чем?
— О тех, кто несправедливо осужден.
— Да.
— Из-за меня?
— В частности и из-за тебя.
— И что же надумал?
— Решил перестать думать. Потому что не смог бы работать.
— И вышло — перестать? Ведь не вышло. Вот ты целую повесть написал про меня Штубу, я читала, он мне давал. Разве можно было после этого не думать?
— Так я же не сказал тебе, что это удалось — перестать думать. Я сказал, что решил перестать…
— Дурачок! — ласково усмехнулась она.
В вестибюле онкологии, когда нянечка подавала Аглае Петровне халат, Устименко негромко сказал:
— Вот тут Постников и отстреливался от фашистов. А здесь, где мы с тобой стоим, в этом приблизительно месте, его и убили…
— Портрет бы тут его повесить, — помолчав, сказала тетка. — Большой портрет и без всякой траурной рамы. Мертвый в строю, как в армии.
Владимир Афанасьевич угрюмо ответил, что пока не так это просто, на что Аглая Петровна с живостью возразила, что она-то добьется.
— Вот уж не укатали сивку крутые горки, — подивился Владимир Афанасьевич.
Она не ответила — не слышала. Слушала, как весело и почтительно здороваются с ним, с ее Володькой. Как звонко называют ее длинношеего «Владимир Афанасьевич». И как отвечает он, главный врач, наверное доктор наук, профессор. Об этом они еще не разговаривали, и тут, в коридоре, она осведомилась, какое у него ученое звание.
— Лекарь! — с быстрой летящей улыбкой ответил он. — Не расстраивайся, пожалуйста, тетка. Звание почтенное.
— И не профессор?
— Не поспел, тетка, — сказал он, открывая перед Аглаей Петровной дверь в ординаторскую, где обычно курил и пил крепкий кофе между операциями Федор Федорович Щукин, знаменитость, которой ему хотелось похвастаться перед теткой, но к крайнему своему удивлению увидел вместо Щукина Богословского.
Тот обернулся на скрип двери, вгляделся в Аглаю Петровну и не узнал ее.
— Это что же такое? — спросил Устименко. — Это как понять?
— А так, что Щукин загрипповал — температура тридцать восемь, — все еще вглядываясь в Аглаю Петровну, сказал Богословский. — Да мне, пожалуй что, и полегче, я, пожалуй что, вполне…
Тут он узнал Аглаю Петровну, ахнул, мешкотно поднялся, потом жирное лицо его сморщилось, губы затряслись. «Не в форме старик, — печально подумал Устименко, — не похоже на него эдак волноваться». Лицо Аглаи Петровны, напротив, было совершенно спокойно, только нежный румянец проступил ярче на высоких скулах.
— Вот она и правда себя оказала, — сказал Николай Евгеньевич, крепко сжимая тоненькую руку Аглаи Петровны в своей теплой огромной лапе. — Это прекрасно, великолепно. Издалека?
— Из самого дальнего места, отовсюду, — по-лагерному ответила она. — А насчет правды вы немножко поторопились, Николай Евгеньевич. Меня ведь не по закону отпустили, а так, по доброте. И очень большая, острая борьба предстоит со всякой нечистью, с врагами, прежде чем всех невиновных не просто отпустят, а полностью реабилитируют…
Опять в глазах ее вспыхнул оглашенный, сухой блеск, и вот снова, раздражаясь, услышал Устименко, что очень скоро, «несмотря ни на какие запугивания и застращивания», Аглая Петровна уедет в Москву добиваться решительного перелома в неправосудии и беззакониях.
— А не скоромно ли там покажется? — осведомился Богословский. — Я так сырыми мозгами думаю, что такой ваш приезд большие неудовольствия может вызвать…
— Так вы что же думаете, там про все это знают?
— Боюсь я вашей скоропостижности, Аглая Петровна, — не отвечая на ее вопрос, торопливо и сбивчиво заговорил он. — Вы человек не бедного ума, так поберегите себя до хорошего случая. Мало ли злопобеждающих. А благопокорно вы не снесете от хама и паскуды…
Но Аглая Петровна и слушать больше не стала, пожелала видеть Платона Земскова, а потом «всю больницу» и «вообще как тут устроено». Нора увела «тетю главврача», в которую все любопытно всматривались — какая-де легонькая и молоденькая, всматривались и радовались за Владимира Афанасьевича, что не таким бобылем теперь станет жить. Все-таки хозяйка в доме и своя кровь. А Владимира Афанасьевича завертели больничные дела. Так как Богословского срочно вызвали к Евгению Родионовичу, то ему и оперировать пришлось — по «скорой» везли и везли, Нечитайло и Волков не справлялись…
В два часа дня Устименко, раздраженный тем, что Богословского все еще нет, а в хирургию привезли больного с такой невнятной и спутанной картиной, что даже втроем — Нечитайло, Волков и он — никак не могли разобраться, позвонил в приемную Степанова.
Женькина секретарша Беллочка передала трубку Николаю Евгеньевичу.
— Да небось уже скоро, — угрюмым голосом ответил Богословский.
— Бросьте все к черту! — совсем рассердился Устименко. — Если надо — сам товарищ Степанов подымет зад и приедет.
— Невозможно, — послышался тот же угрюмый голос. — Язвят меня и щуняют. Сейчас между собой совещаются и принимают решение.
— Какое решение?! — закричал Владимир Афанасьевич. — Вы больны, а если нелегкая вытащила вас из дому, то не для того, чтобы собеседовать с товарищем Степановым. Передайте ему трубку — я ему объясню, что к чему и отчего почему.
Но Евгений Родионович трубку, по причине крайней занятости, не взял. А Богословский, набычившись и тяжело хромая, вновь направился в кабинет товарища Степанова для продолжения идиотского разговора, который тянулся вот уже более двух часов. Хмурясь, посапывая и потирая огромной ладонью левую сторону широкой груди, старый доктор сел в глубокое кресло перед столом Евгения Родионовича и без околичностей спросил:
— Ну? О чем еще говорить будем?
Товарищ Степанов, сложив по обыкновению губы куриной гузкой, подписывал служебные бумаги — сверху, там, где положено ставить визы начальникам. А бледная и постаревшая кадровичка Горбанюк листала какую-то папку.
— Нас интересуют банкеты, которые закатывает ваш профессор Щукин, — строго сказал Степанов. — Из каких средств? Частная практика? Получает в руку? Эти, товарищ Богословский, чуждые нравы…
— Вы меня что, как доносчика вызвали? — серея лицом, осведомился Богословский. — Так если следствие вами наряжено, то пусть прокуратура мной занимается, по закону…
— До прокуратуры дело дойдет, не сомневайтесь, — подала холодный голос Горбанюк, — но пока мы не хотим позорить нашу больницу и…
Богословский сжал зубы, чтобы сдержаться от фиоритуры, которая совсем уже была на языке. И сказал как можно вежливее:
— Меня больные ждут. Сейчас Устименко звонил сюда, — может быть, отпустите к делу?
— А разве мы не для дела вас пригласили? — осведомилась Горбанюк.
То, что она листала свою папку за спиной Богословского, раздражало его, но он опять не поддался на раздражение и повторил, что ему срочно необходимо в больницу, разговор же этот можно продолжить и позже, в присутствии профессора Щукина и, конечно, главного врача больницы.
Лицо у него стало совсем серое, и губы тоже посерели.
— Мы сами знаем, когда и с кем разговаривать, — опять за спиной Богословского произнесла Горбанюк. — И если пригласили вас, то, значит, имеем на это основания.
Богословский сильнее прижал ладонью левую сторону груди. Сдерживал раздражение он вовсе не из страха и, конечно, не из вежливости, которой не был обучен, а только потому, что понимал — ему плохо, с сердцем совсем скверно и надо сдюжить, не допустить этих пытателей до души, не дать им возможности нанести ему удар, от которого не оправишься. Ведь вся история выеденного яйца не стоит, зачем же волноваться, когда сердце вдруг может взять и не сработать? Не глупо ли?
Но эти, совершенно резонные, резоны нисколько ему не помогли, когда Евгений Родионович вновь вернулся к «бочке вина». Занудливым голосом он опять изложил всю историю вопроса, суть которой, по его мнению, заключалась в том, что если «подношения» везут в открытую, не стесняясь никого и ничего, то что же происходит «тайно», «из руки в руку», это надо себе только представить…