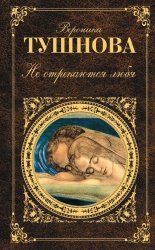Я отвечаю за все Герман Юрий
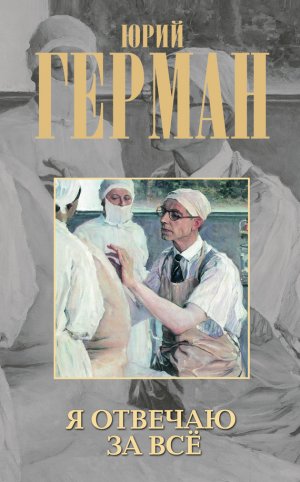
Цветков подошел к ней ближе, взял ее руку, быстро поцеловал и из передней велел:
— В последний раз: не ходите туда!
Проводить себя Родиону Мефодиевичу она не позволила. И не попрощалась с ним, как делывала это в Унчанске, уходя хотя бы на час.
А он сел в пустой квартире на стул и стал ждать. В тишине и жаре, один, сидел и ждал. И представлялось ему крыло мостика, как он стоит там и сквозь дремоту, в свисте холодного ветра вслушивается — это смена румба на генеральном курсе или противолодочный зигзаг? И еще виделись ему транспорты, камуфлированные белыми и черными красками, и сигнал «твердо» — воздушная тревога, и катящиеся навстречу водяные валы. И голос в репродукторе трансляции слышался ему: «По шкафуту ходить осторожно, держаться за леер!» А потом запели матросы:
- Раскинулось море широко,
- И волны бушуют вдали.
- Товарищ, идем мы далеко,
- Подальше от нашей земли.
Он вздрогнул, огляделся.
Нет, он не задремал, времени прошло всего ничего — минуты. Но по-прежнему слышался уютный и могучий гул воздуха в турбовентиляторах. По-прежнему параваны подрезали мины. По-прежнему вился на ледяном ветру брейд-вымпел командира дивизиона. И в стальной поверхности скатанных палуб отражались солнечные блики. Но это было уже не в Баренцевом море, это было в Бискайском заливе, когда «курносые» строем клина врезались в машины со свастиками, там, высоко, в жарком небе Испании.
— Вся жизнь, — сквозь зубы сказал он. — Вся жизнь.
А теперь он сидел в чужой квартире и ждал. Ждал и боялся. Боялся, как не боялся никогда и ничего. Как это могло сделаться? Когда? Как случилось, что он, награжденный звездой Героя, теперь превратился в труса? Это он-то? Он, который спокойно покуривал, когда гремели лифты, поднимая боезапас после команды «к бою приготовиться»?
— К черту! — сказал он своим мыслям. — К чертовой бабушке.
И вновь приступил к трудной работе ожидания.
В три пополудни позвонил Константин Георгиевич и осведомился — что слышно?
— Ничего, — мертвым голосом ответил Степанов.
— Совершенно ничего?
— Совершенно.
В пять позвонила Лидия Александровна.
— Нет, — сказал Родион Мефодиевич, — не было. Не звонила.
— А вы… как? — с трудом выдавила из себя Лидия Александровна.
— У меня все, — сказал Степанов.
Она не поняла. Но он уже положил трубку. Не отрываясь, он смотрел на циферблат. Обе стрелки свесились вниз. Потом они стали подниматься. Белые стрелки на выпуклом, черном циферблате. Еще зазвонил телефон, Степанов схватил трубку, у него спросили, будет ли брать Лидия Александровна рыбу.
— Какую рыбу?
— Ну, как обычно, она же берет у нас.
— Не понимаю, — сказал Степанов, — непонятно.
Ему вдруг показалось, что именно в это мгновение Аглая Петровна звонит сюда из автомата, как они условились: «Все в порядке».
Но она не звонила.
В одиннадцать приехали Цветковы. Ни о чем не спрашивая, генерал налил себе и Степанову коньяку. Родион Мефодиевич отрицательно покачал головой. Шел двенадцатый час ночи.
— Стопку, — посоветовал Цветков. — Помогает.
— Не поможет, — ответил Родион Мефодиевич. — Сейчас ничего не поможет.
— Ей не надо было идти.
— Я бы на ее месте — пошел.
Он все еще смотрел на белые стрелки. Половина двенадцатого. Может быть, все-таки? Вдруг? Вдруг сейчас позвонит?
С трудом он выпил чашку чаю и прилег, но так, чтобы видеть черный циферблат. Утром Аглая Петровна тоже не пришла. И никто не позвонил. Весь второй день Родион Мефодиевич пролежал на диване и неотступно, как когда-то в море на трудной вахте, смотрел вперед, только теперь это все кончалось черным циферблатом с белыми стрелками. Дальше ничего не было. И ничего не будет — он это знал.
И как бы оцепенел.
Ужасная усталость подавила его, навалилась на плечи, даже лежать было ему трудно. И какое-то забытье накатывалось порою — вдруг казалось, что входит он, еще молодой, в штурманскую рубку своего корабля, обтирает сырые, холодные щеки, садится в кресло и с наслаждением закрывает измученные морем и светом глаза. Делается совсем спокойно, и дремлется ему под уверенное, мерное, жесткое цоканье одографа, выписывающего путь эсминца. А кто-то поблизости, лихо и хитро, напевал:
- Едет чижик в лодочке,
- В адмиральском чине.
- Не выпить ли водочки
- По такой причине?
И еще слышалось:
— Право десять, дальше не ходить, прямо руль…
На десятый день Степанов уехал в Унчанск, оставив записку о том, что «чрезвычайно благодарен за причиненное беспокойство». В вагоне он часто посматривал на часы и думал одну и ту же тяжелую думу, додумать которую до конца не решался, только морщился, словно от боли, и покряхтывал порою.
А Константин Георгиевич, прочитав записку, порвал ее в мелкие клочья, позвонил жене, что вызван на срочную консультацию, и уехал на дачу Кофта. Вера Николаевна встретила его, как обычно, сухо. Но ему не было до нее никакого дела. Ему вообще не было ни до чего никакого дела. Он должен был выговориться, а лысый Кофт умел слушать. И не помогать в трудных случаях жизни, разумеется, нет, кто тут может помочь, — он умел лишь слушать. И Кофт, разумеется, выслушал про то, что Аглая Петровна вполне могла назвать телефон Цветкова и проболтаться про то, как он сдуру отговаривал ее идти «туда». Короче говоря, ничего хорошего он для себя не ожидал от этой Аглаи Петровны и ее адмирала…
Кофт слушал, как водится, молча.
Но на одно мгновение Цветкову вдруг показалось, что его наперсник улыбнулся. Презрительно и холодно.
— Вам смешно?
— Смешно? — удивился Кофт. — Нисколько. Но страхи ваши, Константин Георгиевич, пожалуй, излишни. Такие люди, как названная вами Устименко, ничего не скажут в том смысле, чтобы повредить другим. Никогда, ничего, нигде, я так полагаю, впрочем, возможно, что я и ошибаюсь. Устименко ведь родственница бывшего супруга Веры Николаевны?
— А какое это имеет значение?
— Вера Николаевна мне кое-что рассказывала о своем бывшем муже. Весьма своеобразный характер.
Здесь же, в саду, они выпили две бутылки сухого вина. Кофт понемножку, а Цветков жадно, большими глотками. Потом Вера Николаевна принесла коньяк и какую-то бестолковую закуску. Цветков без кителя, в подтяжках на белоснежной сорочке, сильно ступая сапогами по газону, сказал ей:
— Вы бы, прелестница, дали развод своему Устименке. Хватит человеку мучиться.
— А чем он так особенно мучается? Завел себе, простите, бабу…
— Аглая Петровна опять арестована, — глядя в сторону, произнес Кофт, — вам совершенно незачем такое родство…
— Ах, в этом смысле, — не сразу ответила Вересова, — в этом… если в этом, то надо подумать.
Вот каким путем случилось, что, покуда Родион Мефодиевич еще только возвращался в Унчанск, Горбанюк Инна Матвеевна уже знала то, что заставило ее в нынешних трудных обстоятельствах вновь поднять голову и собрать свои резервы для последнего, решающего броска в сражении, которое она не могла не выиграть.
В этом она была совершенно убеждена, переговорив по междугородному с Верой Николаевной.
Забили барабаны, заиграли горны.
Пестрая масса мыслей товарища Горбанюк стала приобретать форму, складываться в колонны, строиться и перестраиваться, обеспечивая тылы, фланги и все прочее на исходных позициях.
— Пора! — так сказала себе Инна Матвеевна. — Я должна наконец обороняться. А лучшая оборона — это нападение или наступление, что-то в этом роде. Они еще обо мне вспомнят!
МАСТЕРИЦА ВАРИТЬ КАШУ
Содрогнувшись плечами, вспомнила она трехдневный процесс Палия и свои показания, вспомнила, как глядел на нее из первого ряда очкастый Штуб и те его сотрудники, которые в свое время спрашивали и допрашивали ее. И полковник милиции Любезнов предстал перед нею таким, каким тоже допрашивал «гражданку Горбанюк» по поводу золота и иных ценностей, якобы присвоенных ею, а вовсе не сданных детскому дому «совместно с сахаром», как по-идиотски написала она в своей объяснительной записке. Омерзительный спекулянт Есаков при сем присутствовал и подавал свои гнусные реплики, а она должна была терпеть…
Чего только она не перетерпела за эти годы!
И вот наступил ее час!
Либо нынче, либо никогда. Или они ее, или она их! Всех вместе — единым ударом — всю банду ее гонителей и мучителей, тех, кто травил ее, одинокую женщину с девочкой Елочкой — двух сироток, обойденных радостями жизни, кто, как Устименко, даже не считал нужным, заняв должность, побеседовать с ней, кто, как он, отказался однажды анкету заполнить и только со смешком взглянул на нее — попробуй, дескать, возьми меня голыми руками.
А она стояла в его кабинете и, приветливо улыбаясь, говорила:
— Я понимаю вас, Владимир Афанасьевич, но форма есть форма. Должны же мы с нею считаться.
— Моя автобиография не изменилась с того мгновенья, когда я сюда назначен, — ответил он ей. — С Трумэном мы не породнились, и в Си-Ай-Си я не завербован. Что же касается до моего времени, то оно ограничено.
Он просто выставил ее из своего кабинета.
Теперь наступило ее время.
И у нее хватит сил, умения и даже мастерства подать куда следует хорошо изготовленное блюдо. С солью, с перцем и с собачьим сердцем. Это будет даже не блюдо, это будет букет дивного сочетания цветов и густейшего аромата…
— Сварить вам еще кофе? — осведомилась она.
Бор. Губин поднял на нее непонимающие глаза. Он уже более часа писал на ее обеденном столе, писал и переписывал — товарищ Губин, которому тоже не просто далась история с Крахмальниковым. Со «страдальцем», видите ли, Крахмальниковым, с тем самым «страдальцем», который теперь, после разоблачения Аглаи Петровны, «героини подполья», занял свое законное место в истории Унчанска.
— Кофе? — бодро спросил он. — Можно и кофе. Если он крепкий. Можно и еще что-нибудь — покрепче.
Но Инна Матвеевна пропустила его намек мимо ушей. А вытаскивать из плаща свою бутылку было как-то пока что неудобно. Первый раз в доме, да еще в этом аккуратном, подсушенном, стерильном.
И что за мысли лезли в его голову, покуда он строчил свои «заметки». «Тушенка» — так бы назвала его размышления Варвара. Или «повидло»!
Впрочем, больше оптимизма, товарищ Губин, больше живинки в тематике, ищущий да обрящет — как поучал его по щелкающему и трещащему телефону товарищ Варфоломеев, — поучал из областного центра в глубинку. И Борис Эммануилович старался. «Бодрая, веселая песня теперь навечно прописалась в нашем Большом Гридневе», — вот каким стилем овладел нынче скептический Бор. Губин, мастер многих колючих строк в недалеком прошлом. «Знатная доярка Нина Алексина подружилась с наукой», — такие он отхватывал строчки в своих статейках «от собственного корреспондента». От собственного — и все. Чтобы не лезла в глаза фамилия.
Но и оптимизм не помогал.
Ни оптимизм, ни полосы со стишками, с уголком доброго юмора и раешником за различными подписями («актив газеты»), а на самом деле, конечно, продукция рукомесла Бор. Губина, — ничего не помогало, не заладилась нынешняя его жизнь, хоть плачь, хоть волком вой, хоть из шкуры лезь!
И две брошюры ничему не помогли, две плотненькие книжечки: одна — написанная якобы знатным машинистом Обрезовым, другая — старухой Глазычевой, чудесницей, мастерицей по откорму поросят. Брошюры были с портретами и со стихотворными эпиграфами, про них хорошо отозвалась газета, но на беду и старуха, и машинист поверили во все то, что сочинил про них Губин, и даже гонорар забрали целиком в свою пользу. Борис Эммануилович взвился, но Всеволод Романович посоветовал «не высовываться». И сказал тогда при личном коротком свидании так.
— Дела твои, Бобик, рисуются мне в довольно-таки мрачном свете. Время сработало, к сожалению, не на тебя, а против тебя. Мадам Устименко здесь — на свободе. Портрет Постникова торжественно повешен в вестибюле больницы. Следовательно, покойник Крахмальников был во всем прав. На этом же самом, то есть на правоте Крахмальникова, настаивает и ныне здравствующий герой подполья Земсков, о котором, как тебе известно, мы дали подвал. Вот, Борюшка-горемыка, какая ситуация.
— Что же все-таки делать, шеф?
— Сиди в глубинке.
— Но сколько можно?
— Можно долго. Золотухин нас и по сей день твоим именем пинает.
— Опять за Обрезова и Глазычеву писать?
— Давай доярок. С ними ты нашел общий язык. Короче, исправляй ошибки, товарищ Губин…
Отхлебнув кофе, он усмехнулся: доярки-то пригодились, только, так сказать, в несколько ином ракурсе. В ракурсе, так сказать, подлинного политического лица товарища Устименки В. А. Его вежливо попросили ссудить халатами доярок для киносъемки, для того, чтобы показать ферму не натуралистически, не бытово-заземленной, а такой, какой она должна быть в самое ближайшее время. А он что? Как он на это реагировал? «В шею!» Это ответ советского человека, коммуниста? Да, еще не сшиты белые халаты всем дояркам, имеются еще трудности, кто с этим спорит, но указанные выше халаты должны быть? Случайность, что их еще нет? Из каких же соображений Устименко отказал в оскорбительной, несвойственной советскому руководителю манере?
— У вас нет с ним личных счетов? — спросила Инна Матвеевна, прочитав заявление.
— У меня? — изумился Губин так громко, что Горбанюк сразу поняла — есть.
Но это не имело ровно никакого значения. Кто будет спрашивать, если сам по себе «сигнал» не внушает никаких подозрений? И сигнал, и автор такового. Автор, который тяжело пострадал на истории с Крахмальниковым. А ведь был прав. Безусловно прав. В этом смысле она и высказалась, перечитав все шесть страниц «документа».
— У меня в кармане плаща есть коньяк, — сказал Борис Эммануилович. — И недурной. Выпьем, так сказать, для «разминки».
Инна Матвеевна посмотрела на Губина с удивлением:
— Что вы! Я не пью.
— Никогда?
— Разумеется.
Она все смотрела на него своими кошачьими глазами со зрачками поперек. «Ишь, как я ее удивил», — подумал Губин. И резко переменил тему:
— А откуда вы узнали про эти халаты? — осведомился он.
— Сам Устименко рассказывал в присутствии нескольких врачей и даже хвастался в своей обычной нескромной манере…
— Мо-ло-до-жен! — поднимаясь из-за стола, раздельно сказал Губин. — Прекрасный пример: бросить ребенка, разрушить семью, жениться и…
— Вы называете то, что там происходит, — браком?
Стоя, он отхлебнул простывшего кофе.
Пожалуй, не следовало показывать, что его все это интересует хоть в какой-то мере. И он закурил, поджидая.
— Они не оформили свои отношения, — сказала Горбанюк брезгливо. — Товарищ Вересова совершенно правильно не идет на то, чтобы развестись и тем самым развязать руки этому субъекту. Не идет и, разумеется, не пойдет никогда. Я понимаю ее: ребенок!
— Грязь! — сказал Губин.
— Вот о чем нужно писать вам, работникам печати. Вот что должно быть разоблачено, — похрустывая пальцами, сказала Инна Матвеевна. — Я тоже прошла через кошмар этого порядка. Безответственность, душевная нечистоплотность, простите, разврат ради разврата…
Губин прошелся по комнате.
— Страшно, — сказал он, — страшно. Я был неточен, отвечая на ваш вопрос — каковы мои взаимоотношения с Устименкой. Мы были друзьями в школе. И еще недавно. Но я порвал все это.
— По причинам какого характера?
— По причинам цинического восприятия жизни этим самым Устименкой, Инна Матвеевна, по причинам кощунственной безыдейности, делячества, нигилизма, если угодно. Он не желает видеть в нашей жизни ничего светлого, он… Впрочем, я не отрицаю, что работник он сильный, но абсолютно неконтактный эпохе. Ему бы в Америке цены не было — это возможно. А в нашем обществе, где идея…
Она ждала.
— Кажется, я становлюсь несправедливым, — с горькой улыбкой заключил Губин. — Но поймите меня правильно, нестерпимо тяжко терять друзей юности…
— Бывают потери и побольше.
— Да, это так.
Инна Матвеевна проводила гостя до двери и открыла окно: Губин успел изрядно накурить. Потом она посмотрела, как спит Елочка, укрыла ее конвертом, согласно правилам гигиены, и сделала себе бифштекс с кровью. Отдельно она пожарила к нему лук — много, до светло-коричневого цвета. И накрыла на стол с присущей ей аккуратностью. Себе, как другому, самому главному в жизни. Себе, как наиболее любимому человеку. Себе — перец, горчицу, хрен. Себе бутылку прохладного пива, нет, нет, не очень холодного. Себе красивый, тяжелый стакан.
В это многотрудное время она должна была хорошо питать себя.
Не так уж мало зависело сейчас от состояния здоровья. Следовало, по возможности, следить за собой: она же у Елочки одна. Единственная. Мамочка. А грозные гусиные лапки уже появились у глаз, и отечность она замечала, и гимнастика, обычная физзарядка утомляла ее.
Нет, здоровье, здоровье и еще раз здоровье. И пережевывать пищу методично, не торопясь, как делывал это Евгений Родионович, — где он сейчас, толстенькая птичка на коротких ножках?
Инна Матвеевна налила себе пива и выпила полстакана маленькими глотками. Бифштекс она ела без хлеба, мучное ведет к ожирению — и только. Жевала и думала про Любезнова. Если он догадается про ее сберегательные книжки в Москве? Или Есаков подскажет такую мыслишку?
«Спокойно! — сказала себе Инна Матвеевна. — Спокойно! Ты кушаешь, ты отдыхаешь, ты должна соблюдать режим. После краткого перерыва и абсолютного отдыха ты вновь вернешься к деятельности, а сейчас — спокойно, еще раз — спокойно!»
Было десять часов, когда Горбанюк вновь вернулась к тому, что она называла деятельностью. «Сигналы» Катеньки Закадычной лежали подле ее левой руки, то, что нынче написал Губин, — справа. Лампа светила уютно на чистые листы бумаги. И удобная ручка «паркер», приобретенная в Москве в комиссионном, поблескивала золотом — ждала: пиши мною, я жду тебя.
Инна Матвеевна написала цифру «один». И обвела ее кружочком. Все началось со знакомства — лорд, пятый граф Невилл. Вот тогда все зародилось. Некоторые взгляды на вещи, чуждые советскому человеку…
«Два». Путешествие на чужбину под командой этого раздраженного взяткодателя, который и сюда приезжал, спрашивается, с какой целью? Капитан дальнего плавания, несомненно, и после войны посещал иностранные порты. А если и не посещал, то его люди посещали. Тут Инна Матвеевна поставила жирный вопросительный знак.
Далее, под цифрой «три», был Гебейзен — так называемый «антифашист». Но разве мало мы знаем случаев маскировки, да еще какой! История с Палием ничего еще не доказывает. Известно, что фашисты держали в своих застенках и преданных им людей, дабы впоследствии внедрить таких в советское общество. Вопросительный знак.
(Надо отметить, что в разработке своего документа, или, иначе сказать, в процессе своей стряпни, варя кашу, Инна Матвеевна ни на чем решительно не настаивала, она лишь как бы всего только задавала вопросы, сама сомневаясь и мучаясь, как надлежит человеку, который никак не подготавливает чье-то мнение, а обдумывает, страшась и брезгуя той бездной, которая открывается перед ним совсем близко.)
За четвертым номером была жизнь сына попа — Богословского, с его частыми и неоправданными посещениями лагеря немецких военнопленных. Тут Горбанюк приврала в весьма, разумеется, осторожных выражениях. По ее сведениям, покойный Николай Евгеньевич некоторое время был в окружении, хоть ему удалось тщательно этот «факт» скрыть. И посолила она кашу тут тем, что будто бы незадолго до смерти Богословского попросила уточнить эту деталь, важную в его личном деле. Он же смутился до крайности и умолил о некоторой отсрочке для написания докладной записки или объяснения. Пойди ищи, проверяй мертвого!
Далее, за соответствующими порядковыми номерами, были поименованы и профессор Щукин с его «дамой» и туманным прошлым в столицах, с фактами, указанными в фельетоне, с некоей «бесценной» библиотекой, приобретенной неизвестно на какие средства, и Александр Самойлович Нечитайло, пригретый Устименкой только потому, что «натворил он немало» в Москве, а чего именно натворил — следует органам разобраться со всей суровостью и объективностью, и, конечно же, Вагаршак Саинян…
Тут «паркер» Инны Матвеевны расписался вовсю. Странные, ничем не вызванные поездки сына репрессированных родителей Саиняна во время войны на фронт — как следовало понимать? Не желанием ли Саиняна найти контакт с разведкой противника? Не мечтой ли отомстить таким образом за ликвидацию группы врагов народа, в которой орудовали старшие Саиняны? А его взаимоотношения с профессорско-преподавательским составом во время учебы? Его столкновения с лучшими институтскими кадрами, с золотым фондом, с такими людьми, как недавно скончавшийся на своем посту Иван Иванович Елкин? (О смерти Елкина Горбанюк прочитала в газете, а о столкновениях с ним проведала в бытность тут Веры Николаевны, которая многим делилась с Инной Матвеевной. Да и опять же, что спросишь со второго покойника?) Далее последовала Любовь Николаевна Габай. Что ж, деятель она, по всей вероятности, энергичный, но на кого работает эта энергия покинувшего свой пост врача? Покинувшего и устроившегося тут, под крылышком того же Устименки. Ее штрафы, опечатывания, непрестанное дерганье торговой сети, ее голое администрирование без учета местных обстоятельств, ее акция по закрытию рабочей столовой на фанерной фабрике — как это понять? Коллектив предприятия остался без горячей пищи. Кому были адресованы упреки? Нет, не так должен работать наш человек. (Тут Инна Матвеевна была беспощадна и вопросительных знаков не ставила, а пользовалась лишь восклицательными и подчеркиваниями). Не так! Такая, с позволения сказать, деятельность вызывает лишь злобу к самой системе, которая действует столь деспотически…
А за цифирьками «девять», «десять» и так далее упоминались всякие непорядки, в которых Инна Матвеевна вскрыла систему: срыв работы мыловаренного завода из-за каких-то витаминов, получение цемента без соответствующих разнарядок, путем личного сговора, мрамор «якобы для кухни», впрочем, все это скорее попахивало уголовщиной. Таких «пустяков» набралось изрядно, к концу количество перешло в качество, люди нарочно делали плохо и не делали хорошо. Так ли это, мастерица варить кашу не знала, тут она действовала методом перечислительным.
К часу ночи Горбанюк выпила чаю с лимоном и скушала ломтик торта с заварным кремом. Это был короткий отдых человека, делающего настоящую, нужную, серьезную работу. И понимающего толк в этой работе, отдающего себя целиком…
Пожалуй, к этому времени Инна Матвеевна настолько вдохновилась, что и поверила в то, что так оно и есть, — «групповое дело» это называлось, и «групповое дело» она разоблачала всеми своими слабыми силами, со страстью, с гражданским гневом и суровым пафосом. Веря в себя и во все то, что при помощи ручки «паркер» с золотыми ободками выливалось на бумагу, — в чем тут можно было теперь сомневаться? Тут ведь перечислялись факты, и какие!
Конечно, проще всего винить бывшего заведующего облздравом товарища Степанова Е. Р. в нечуткости по отношению к ныне скончавшемуся Пузыреву. Ну, а руководство больницы, столь смелое в иных случаях, почему в данном проявило такую, мягко выражаясь, скромность? Ей доподлинно известно, что Пузырев (еще один покойник!) просил Богословского и умолял (каков заход — покойник с покойником — поди разберись) положить его в больницу, но Н. Е. решительно отказал несчастному. Разве это не система — вызывать искусственно недовольство нашим здравоохранением в среде трудящихся. На какого дядю они все работают — вот как поставила вопрос товарищ Горбанюк в конце данного абзаца. И дядя был взят в кавычки, «закавычу его» — велела себе Инна Матвеевна, закусив губку. А нынешние рассуждения Устименки на тему о том, как несовершенна наша система лучевого лечения? О каких фартуках из просвинцованной резины можно говорить, когда страна только-только залечивает раны, нанесенные войной? Закрывать уши, глаза, тело — следовательно, отдавать больному час вместо десяти-пятнадцати минут, не так ли? Отсюда вывод — сократить в шесть раз пропускную способность процедурного стола. Отсюда еще вывод: оставить без лечения пять человек из шестерых. Что же это вызовет? Какую реакцию? Положительную? Вряд ли! Это вызовет нарекания на наше советское здравоохранение, а значит…
Нет, нет, никаких выводов Инна Матвеевна тут не сделала. С выводами, конечно, следовало быть поскромнее. Выводы выведут те, кому этим надлежит заниматься. И она сделала себе отдельно заметку — при переписке «документа» оставить лишь «факты», убрав посильно эмоции. Ей и вправду теперь казалось, что она оперирует фактами, излишне только педалируя тональность…
В два часа ночи Горбанюк еще писала.
Разумеется, было нерентабельно так растрачивать собственные силы, но ведь гадина Есаков поселился в Доме крестьянина и, насколько ей было известно, не собирался уезжать. И ходил в милицию, как на службу. А Палий мог написать из заключения невесть что. «Я тебе еще удеру штуку!» — спокойно пригрозился он на суде.
Спасет ли ее этот документ? Вряд ли. И все-таки надо попробовать. Надо успеть сделать все, что можно. Поможет это или нет, а надо «удрать штуку» и австрийцу, и Устименке…
Елочка захныкала — попросила пить. Она напоила девочку виноградным соком.
— Дуся моя, — сказала Инна Матвеевна, — солнышко!
Затем она приступила к описанию сигналов Закадычной, которые должны были быть приданы в качестве приложений к основному «документу». Описание, собственно, было экстрактом длительной и педантичной деятельности Катюши — от первого ее доноса по поводу опытов Марии Капитоновны над собаками до использования Митяшиным в самодеятельности «клеветнического рассказа М. Зощенко, охаивающего наше лучшее в мире здравоохранение». А за этим следовало главное — слово «великий». Кого имел в виду профессор Щукин? Разве ему невдомек, к какому человеку может относиться это слово в нашу эпоху? Так до чего же надо было докатиться, чтобы применить это понятие в том смысле, в котором применил его Ф. Ф. Щукин? Нет, она, Горбанюк, не могла писать об этом спокойно, она верила, что соответствующие органы разберутся и сделают свои выводы, иначе жить невозможно…
В четвертом часу Инна Матвеевна уснула, заперев, разумеется, все, что наработала, со всеми приложениями, в ящик письменного стола. Все воскресенье она печатала на машинке за железной дверью своего отдела. Это была большая работа — и «документ», и копии с доносов Закадычной и Губина, да еще все в трех экземплярах. Два она оставила у себя в сейфе на всякий случай.
Майор Бодростин принял Горбанюк по первому ее звонку в одиннадцать утра, в понедельник. Портфеля она с собой не взяла, вся «документация» была в сумочке. И шла она переулками, чтобы никого не встретить там, где было бы понятно, куда она направляется.
— Я вас слушаю! — сказал ей майор, пригласив сесть.
Его застегнутое лицо ничего решительно не выражало. Аккуратный человек — рот, нос, уши, глаза, волосы — всё, как в среднем каждому полагается. Такие лица бывают в медицинских учебниках и в учебниках немецкого, английского, французского. Лица вообще. Не за что зацепиться.
Впрочем, Инна Матвеевна зацепилась: глаза оказались синими. Ах, какими синими. И по мере того как майор читал, они делались все ярче, все синее, глаза волевого, собранного, стального человека. Пока он читал, они были как бы включенными — эти глаза, а когда кончил, он их словно выключил. И они погасли. Стали просто глаза — картинка в учебнике: глаза.
— Мне нечего добавить к этой документации, — сказала Инна Матвеевна.
Майор Бодростин кивнул.
— Я могу идти? — спросила она.
Он взглянул на нее просто глазами из учебника. Были ли они синими?
— Да, — сказал он, — конечно, вы можете идти. Впоследствии некоторые частности придется, вероятно, уточнить!
— Там указаны мои телефоны, — ответила она. — В основном документе.
— Понятно! — кивнул майор Бодростин. — Вас вызовут, если понадобится.
Даже спасибо этот человек не сказал ей. И не попрощался. Может быть, документация произвела на него такое ошеломляющее действие?
В ее висках стучало, когда она вышла на улицу.
День выдался прохладный, ветреный, по улице несло колючую пыль. Лето кончилось или было на исходе. А может быть, Инну Матвеевну познабливало?
Ветчинкина, как всегда, перекладывала папки с «личными делами». В ее закутке было безобразно накурено.
— Хоть бы форточку открывали, — не поздоровавшись, сказала Горбанюк. — Это же просто невозможно…
— Я тут нечаянно вскрыла пакет, — быстро шамкая, сказала старуха, — и вы меня простите, но это лично вам…
«Палий? — с ужасом подумала Горбанюк. — Написал-таки».
Но это было куда хуже, чем любой Палий. Это было письмо от проклятой дуры, Ларисы Ромуальдовны, — заказное, ценное и еще там какое-то. Все в сургучных печатях. Старая идиотка прислала обе сберегательные книжки. Она, видите ли, уезжает на длительное время лечиться вместе с мужем и предполагает… Что она может предполагать? Как смеет? Пальцы Инны Матвеевны дрожали, когда она ощупывала тот конверт, в котором были заклеены, она хорошо помнила, заклеены ее сберегательные книжки. А теперь конверт был вскрыт. Или не вскрыт? Протерся? Сам по себе? Видела Ветчинкина или не видела? С той, Ларисой, — черт с ней! И с генералом тоже. А вот Ветчинкина?
Она села боком возле своего письменного стола. По-прежнему стучало в висках. Видела Ветчинкина или нет?
Видела?
Как узнать?
Не видела?
Но разве она скажет?
И если скажет, то когда и где?
И кому?
Запершись, Инна Матвеевна все обследовала с самого начала. Здесь пакет лежал, когда она вошла. Письмо было открыто. Но в письме о сберегательных книжках нет ни единого слова. Просто «ваши бумаги». «Ваши оставленные бумаги». Но «бумаги» торчат из прохудившегося конверта. Посмотрела Ветчинкина или нет?
Девяносто три тысячи Палия.
Он сказал — сто.
Но всего-то сто тридцать девять тысяч: есть ведь еще и есаковские, осталось от того золотишка.
Дважды Инна Матвеевна прошла мимо Ветчинкиной. Во второй раз старуха пила чай и ела бутерброд с вареньем. У нее был обеденный перерыв.
И вот в этот-то обеденный перерыв Инна Матвеевна Горбанюк, как говорится, потеряла над собой управление. Или контроль. В старопрежние времена можно было бы выразиться, что под этой амазонкой понес конь. Нынешний автомобилист сказал бы: тормоза отказали. Короче говоря, совсем закрутившись и ничего толком не соображая, потому что ведь хорошо известно, что даже у самых расчетливых и хладнокровных преступников бывают состояния нервного исступления, Инна Матвеевна, заклеив и засургучив свои сберегательные книжки в пакет, вызвала срочно Катеньку Закадычную и попросила ее, не приказала, а именно попросила «до времени» спрятать. И зачем-то доверительно взяла ее холодными пальцами за полненькую ручку. Слова «до времени» и «спрятать» были глупые, ненужные, она сразу же поняла, как все это несовременно, какое-то прятанье, как она из-за этой своей просьбы кувырком летит с небес, на которых раньше пребывала для Закадычной, на самую что ни на есть грешную землю, в лужу, но делать было уже нечего, пакет Катенька взяла, изумленно глядя на свою такую величественную в недавнем прошлом начальницу, распорядительницу и управительницу.
— Это — личное, — сказала Инна Матвеевна и улыбнулась (зачем, зачем она еще улыбнулась перед овцой, которая при всей тупости падение от величия не могла не отличить?). — Просто бывает же личное…
Катенька кивнула.
— В чемодан свой киньте, — произнесла Горбанюк, — тут ничего особенного.
Закадычная еще раз кивнула. Но в глазах ее было написано: если ничего особенного, то для чего же прятать? И еще было написано короткое, быстрое, уклончивое, поспешающее, про что Горбанюк подумала: «Не посмеет!»
И усомнилась.
Почему же не посмеет? Неужели же постесняется?
Разве не Инна Матвеевна учила ее не стесняться?
НАЧАЛО ОЧЕНЬ ДЛИННОГО ДНЯ
Поезд из Москвы приходил в девять пятнадцать. В десять Штуб позвонил дежурному и осведомился, приехал ли майор Бодростин.
— Прибыли, — ответил старшина. — Но они приболевши. Из санчасти их домой направили в сопровождении медработника. Сантранспортом.
— А что с ним стряслось?
Дежурный не знал.
Август Янович позвонил в санчасть.
Ему доложили, что у майора ангина с очень высокой температурой, к сорока. Возможно, стрептококковая. Взяли мазок. Штуб опять позвонил в Управление. Гнетов уже был на месте. Бодростина он видел. Майор болен, но чрезвычайно одушевлен поездкой, — с нажимом произнес Гнетов.
— Это в каком смысле — одушевлен?
— В смысле рабочего энтузиазма. Назначен вашим заместителем.
— Как так?
— Вчера Виктор Семенович подписал приказ.
Штуб молчал. Генерал-полковник Абакумов В. С. вступил в игру — вот что все это значило. Не больше и не меньше. И никуда отсюда не денешься! И совершенно понятно, чем и как скоро это кончится. Впрочем, это было понятно еще полтора месяца назад, когда на его докладной о невиновности Устименко А. П., точнее, на его объяснениях по поводу причин, по коим она была сактирована, Абакумов начертал резолюцию «чепуха» и выгнал Штуба из кабинета. Или почти выгнал. Высокий, красивый молчаливый Абакумов…
— Значит, со щитом вернулся товарищ Бодростин?
— Так точно. Недаром он пробыл там столько времени. Кроме того…
— Что еще?
— Еще приказано вам выехать в Москву.
Август Янович снова ничего не сказал.
— Вы слушаете?
— Все понятно, — наконец произнес Август Янович. — Я буду попозже.
— И… поедете?
— Приказ есть приказ.
— Но…
— Потом поговорим…
Только положив трубку, он понял, какой зажатый голос был у Виктора. Зажатый и замученный. Словно ему самому предстояло ехать в министерство, являться пред грозные очи Абакумова. Словно на его докладной было начертано «чепуха». Впрочем, Гнетов был не из тех ребят, что в любой момент готовы отмежеваться. Так же как и Колокольцев…
«Ехать?» — еще почти спокойно спросил себя Штуб.
И нашел в себе силы усмехнуться:
«А что изменится, если не ехать?»
Где произойдет неизбежное? Но какое это имеет значение? Нет, пожалуй, это имеет некоторое значение. На глазах Зоси и детей или в далеком далеке.