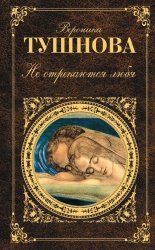Я отвечаю за все Герман Юрий
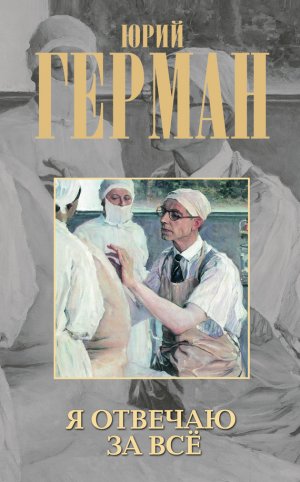
Нужно было встряхнуться! Слишком вяло он себя вел. Нужно было взять себя в руки. Шло же время! Но это было не так-то уж легко — встряхнуться.
Он прошелся в войлочных туфлях по тихой квартире. Дети уже ушли в школу. Зося опять прилегла. В столовой стояли две раскладушки — Алика и Крахмальникова. Девчонки, конечно, все оставили неубранным. Кот спал на кровати Тутушки. А в столовой лежал томик Пушкина. Все-таки он заразил мальчишек, читая им вечерами удивительные строфы.
И сейчас он прочел:
- Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
- Теснится тяжких дум избыток;
- Воспоминания безмолвно предо мной
- Свой длинный развивают свиток;
- И, с отвращением читая жизнь мою,
- Я трепещу и проклинаю,
- И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
- Но строк печальных не смываю.
— Но строк печальных не смываю, — повторил негромко Штуб. — А они были?
И ответил, остро глядя перед собой из-за толстых стекол очков:
— Были. Я уже понимал, но сдерживал себя, чтобы не понять до конца. Я понимал это еще до войны. Разве я не понимал тогда, в Москве, ожидая назначения? А с Крахмальниковым?..
Голова у него гудела от тяжелой ночи, и, бреясь, он удивился отечному лицу и желтому цвету кожи. Желто-серому… Хорошо, что дети уже ушли. Он бы не мог с ними сейчас болтать.
«Но строк печальных не смываю», — опять прозвучало в его ушах.
«Когда впервые возникла эта мысль?» — вдруг спросил он себя, тщательно добриваясь. Когда он подумал о возможности такого выхода для себя?
И ответил:
«В больнице, когда за окнами было совсем бело и когда „монстр“ Крахмальников объяснял причины своего поступка. Вот тогда».
— Штубик, это ты там ходишь? — сонным голосом спросила Зося.
Он ответил: «Побрился, умылся». И сел на край ее кровати. Рядом на тумбочке лежали книги, и он понял, что она долго читала втихаря, покуда он прикидывался, что спит. Все-таки вчера еще была надежда, что Бодростин вернется ни с чем. Маленькая, едва ощутимая. Нет, майор недаром два месяца потратил на это, по его словам, «ясное дело». Даже больше — шестьдесят четыре дня, — так он сам сказал с гордостью. И Штуб, листая прочно прошитые папки, вздохнул:
— Да, ясное…
Весь ужас заключался в том, что Бодростина невозможно было разубедить. Да, конечно, начальником оставался Штуб, наибольшим и главным в Унчанском управлении несомненно значился он. Однако — всего только значился. Начальник, песня которого спета, начальник, который по существу уже не начальник: просто сидит в кабинете потому, что руки в министерстве не дошли; но дойдут, вопрос только в дне — сегодняшнем, завтрашнем, в крайности послезавтрашнем.
И Бодростин это чувствовал.
Настолько чувствовал, что даже не возражал своему начальнику, поскольку тот таковым уже и не был, а лишь числился с тех самых минут, когда в приемной Абакумова писал «объяснительную записку» по поводу Устименко А. П. и Бодростин при сем присутствовал — его тогда тоже вызвали в министерство. Выутюженный, вымытый и выбритый, некурящий и непьющий, с застегнутым выражением лица и с упорным взглядом.
…Когда только еще заваривалась вся эта каша, Штуб ударил кулаком по столу. И встретил взгляд синих, чистых глаз. Спокойный взгляд убежденного в своей абсолютной правоте человека. Выдержанного товарища. Отличного докладчика по вопросам преступного притупления бдительности. Корректного работника. Спокойный, но недоуменный взгляд.
— Тут, в сущности, сделана попытка дискредитировать и Золотухина, и Лосого, — сказал тогда Штуб. — Тут имеются намеки на то, что в передаче здания «Заготзерна» под больницу, так же как и в ряде других случаев…
Бодростин возразил: без указаний Москвы «в отношении работников этой номенклатуры», разумеется, не будет сделано и шагу. Но известно ли товарищу полковнику, что, например, Лосой, командуя артиллерийским дивизионом, с шестнадцатого ноября сорок первого года находился в окружении и лишь к концу декабря…
— Послушайте! — воскликнул Штуб.
— Слушаю, — вежливо ответил Бодростин.
Они оба молчали довольно долго. До тех пор, пока майор не обратил внимание Штуба на тот факт, что не кто иной, как находившийся в окружении Лосой дал согласие Устименке привлечь Гебейзена к работе в больнице. И проживание австрийца в Унчанске тоже санкционировано Лосым. Не без ведома Золотухина.
…Зося все еще дремала, поглаживая руку Штуба. «Ей видится, что все дома и все спят», — подумал Август Янович. И страшная, небывалая тоска сдавила его сердце. Тоска последнего расставания.
Но он справился.
Еще не то ему предстояло!
«Толковый работник», — сказал про Бодростина Абакумов. Именно в это мгновение Штуб, в сущности, стал подчиненным майора. Зиновий Семенович этого не знал и не мог знать. Но многое уже делалось через голову Августа Яновича. Многое проходило мимо него. За его спиной. Еще раз была обследована его биография — та ее часть, довоенная. И слова были возобновлены и освежены в памяти тех, кому ведать надлежит: «либерализм, граничащий с пособничеством врагам народа»; «прямое пособничество»; «дискредитация органов, которые…».
В последнюю свою поездку в министерство с биографией Штуба ознакомился и Бодростин. Все было, как он предполагал, — чужой, видать, человечишко этот Август Янович. Или враг, что вероятнее. Удивительно, как это его раньше не разоблачили. Измену, предательство, контрреволюцию и вредительство новоиспеченный заместитель Штуба видел повсюду и притом видел совершенно искренне. Ни в задор юности, ни в безоговорочность прямоты, ни в преувеличения спорящего ради спора — ни во что это он не верил никогда. В глупости он непременно видел заранее обдуманное намерение врага, в любой небрежности — сознательное преступление. Что такое просто дурак — этого Бодростин не понимал, хоть сам был человеком, казалось бы, неглупым. И так страшна была сила его фанатической убежденности, что люди послабже его нередко поддавались ему, подчинялись, начинали верить в то, во что веровал он, как веруют сектанты.
— И Лосой, и Золотухин совершили ряд поступков, объективно поведших к ущербу государству, — сказал Бодростин после их первой совместной поездки к Абакумову. — Я ни на чем не настаиваю, но обращаю ваше внимание, товарищ полковник, на показания снабженцев Вислогуза, Салова и других. Листы дела сто девяносто четыре, двести сорок, двести сорок семь тома второго…
Штуб молча читал этот окаянный бред. Что случилось в государстве, если такой вот одержимый майор имеет право подозревать честнейших людей черт знает в чем? Кому это все нужно? Для чего?
В конце сентября все было подготовлено к тому, чтобы начать аресты. Августу Яновичу надлежало поставить свою подпись после слова «утверждаю». Бодростин стоял за его плечом.
— Все задокументировано, фактов — на два дела, — говорил майор. — Полагаю, пора эту банду изымать, откладывать больше нечего…
Август Янович медленно перелистывал «документы». Один за другим. Вглядывался в каждую страницу и перекладывал справа налево. У Бодростина затекли ноги — он ждал. Ждал бесконечно. Но не торопил. Все еще корректный, выдержанный работник — недаром так говорили про него. Наконец Штуб закрыл вторую папку.
— Писали, не гуляли, — сказал он. — Тем не менее, товарищ Бодростин, дело следует прекратить. Оно целиком клеветническое. Здесь нет ни одного слова правды, если отнестись к сути вопроса не формально, а по существу.
— Вы в этом уверены, товарищ полковник?
В голосе Бодростина прозвучало удивление: ведь разговор происходил уже после того, как Штуб писал «объяснительную записку» там, в приемной.
— Да, уверен.
— И не «утвердите»?
— Нет.
— Но ведь Золотухина и Лосого впрямую дело еще не касается.
— Еще?
Бодростин медленно обошел стол и сел против Штуба без приглашения. Потом он подтянул к себе обе папки. Август Янович закурил.
— Впрочем, в том, что компроматы на обоих последуют, — не сомневаюсь, — произнес майор. — Возможно, что они отделаются лишь взысканиями за потерю бдительности…
— Лишь? За потерю чего? За то, что верили честным коммунистам?
Майор немного побледнел.
— Но разве не было тягчайшей, преступной ошибкой, когда тут была сактирована матерый враг народа, засланная к нам Аглая Устименко? — При слове «тут» он показал пальцем на письменный стол Штуба. — Или вы все еще думаете, что ее вторичный арест в Москве тоже ошибка? Из этого вывод, что наши органы непрестанно ошибаются? И даже на самом высшем уровне?
Его глаза горели синими огнями. Синим, обжигающим пламенем. Он верил, вот что было самое дикое. Верил в показания таких навечно опрокинутых страхом людей, как бульдогообразный Нечитайло.
— А ведь сам Устименко и поднял Нечитайлу, — сказал Бодростин. — Он ему не враг, а покровитель. Однако же Нечитайло подтверждает все те преступные деяния, о которых сигнализировала, допустим, Горбанюк. А доктор Воловик? А Закадычная, которую именно Устименко взял на работу?
— Зря взял, — усмехнулся Штуб. — Короче: я не «утверждаю».
Бодростин поднялся.
— Можете идти, — сказал ему Август Янович. — Но…
Это было мгновение слабости, отчаянной слабости, которое он долго не мог себе простить.
— Послушайте, майор, — сказал Штуб тихо. — Послушайте. Невозможно же так!
Но Бодростин не понял.
— Как — «так»? — осведомился он.
Штуб не стал объяснять. Он только махнул рукой: идите. И Бодростин ушел. Через несколько дней он уехал по вызову министерства. А нынче он вернулся заместителем, «со щитом». И если бы товарища Бодростина не схватила хворь, то он нынче же начал бы аресты, в этом можно было не сомневаться. И Штуб ничем ему не смог бы воспрепятствовать, потому что его фактически не существовало, он был от этого дела отстранен. Но времени он тоже не терял, нет, не из таких людей был Штуб, чтобы терять время. И кое-чего он все-таки добился, кое-чего, весьма для Бодростина неожиданного…
— Который час, Штубик? — спросила Зося.
Он ответил и поцеловал ее теплую шею. Это и было прощание. «Неужели прощание? — подумал он. — Как странно. Если бы еще хоть в достаточной мере целесообразно…»
— Сплю и сплю, — сказала Зося. — А ты — никогда.
«Нет, целесообразно, — определил он для себя, поглаживая ее руку. — Вполне целесообразно. Во-первых, главный свидетель обвинения окажется целиком дискредитированным, что может смутить и Бодростина. Не наверняка, но может смутить, именно потому, что он ведь не продажная шкура, а сектант. Затем, имея соответствующие материалы Золотухин будет действовать решительнее. И, наконец, исключается возможность того, что, несомненно, предуготовано для меня Абакумовым. Следовательно, семье будет не так трудно».
Зося вдруг села в постели, словно чего-то испугавшись. Он поцеловал ее слабенькое плечо.
— Чего ты тут киснешь, Штубик, — сказала она, беря его за лицо руками и целуя снизу в твердый подбородок. — Сидит и киснет. Завтракал?
— Да, — солгал он, не помня, что не завтракал.
— Ой, снег идет! — воскликнула Зося, глядя в окно через плечо Штуба. — А дети ушли — кто в чем. Мальчишки даже без пальто.
Штуб обернулся. За окном летали редкие белые мухи.
— Это еще не снег, — сказал он. — Растает.
— Слушай, у меня денег совсем нет, — сказала она, — мальчишки знаешь как жрут. Какой-то бездонный дом…
— Может быть, колодец? — поправил он машинально.
— Это все равно, ты же понимаешь. Они наперегонки друг с другом — Алик и Крахмальников. У Алика идея, что Крахмальникова надо подкормить, он и сам от этого надрывается. Макают картошку в подсолнечное масло или в комбижир и трескают. Вчера даже без соли…
— «А мы ее и несоленую», — тихо сказал Штуб.
— Это как?
— Это, Зосенька, у Тургенева, — пояснил Август Янович и поднялся. Из кармана он достал все деньги, какие у него были, и положил на тумбочку. — Почитай Тургенева.
— Что с тобой? — внимательно глядя на мужа, спросила она. — Тебя просто узнать нельзя.
Штуб не ответил. Было слышно, как, открыв дверь своим ключом, в кухню прошел Терещенко и как он там сердито шуровал в поисках калорийного съестного. Так ничего толкового и не найдя, он со зла выпил молоко, которого терпеть не мог, и отправился в машину.
Уже в шинели Штуб еще раз вошел к Зосе.
— Август, — сидя в кровати и закрывшись до горла одеялом, с испугом сказала она, — расскажи мне все. У тебя беда?
— Ровно ничего, — сказал он как можно жизнерадостнее. — Будь здорова, Зосенька. Я вернусь поздно.
Еще секунду он постоял в дверном проеме. И заторопился. Оставалось очень много дела, он, правда, все спланировал, но могли произойти срывы. А надо было все успеть.
— Хорошо живете, — сказал ему Терещенко, когда он сел рядом с ним. — С продуктами надо как-то думать.
Штуб не ответил.
— Своих трое, чужого на шею посадили, а в закромах мыши газеты читают. Надо думать.
— К обкому, — сказал Штуб.
Золотухин тоже обратил внимание на нездоровый вид Штуба. Он пил чай, с ним попил и Август Янович.
— Малярией никогда не страдал? — спросил Зиновий Семенович. — Вот Сашка нынешним летом подцепил в Средней Азии, такая же внешность была.
— А как он вообще?
— Живет — не тужит. Дело молодое. В науки ударился со всем, как говорится, пылом. И специальность переменил — в хирурги собрался податься. Так сказать, имени покойного Богословского.
Штуб налил себе еще из чайника.
— Ты здоровьем не манкируй, — наставительно произнес Золотухин. — Повторяю сколько раз, мне вот эти красные столбики-монументики вместо живых работников — здесь сидят. И вообще, ни на чьи похороны ходить не буду, надоело, на свои зато гостеприимно приглашаю.
Он засмеялся раскатисто.
— А на мои? — вдруг спросил Штуб серьезно и даже строго.
Золотухин несколько опешил:
— Ты что?
— Голова туго варит, — сказал Штуб. — Наверное, контузия наружу полезла. Все ничего, а к этой мысли привык. Зосе только трудно будет. Неприспособленная.
— Задумал что? — подозрительно и совсем тихо спросил Золотухин. — Неприятности? Я тебя упреждал, черт упрямый, говорил… И с этой Аглаей Петровной… У них кровь-то одна с племянником…
— Аглая Петровна Устименко — честнейший коммунист, — сказал Штуб. — И вы это понимаете, Зиновий Семенович, совершенно так же, как я.
Он поднялся.
— Ты смотри, — грозя кулаком и тоже вставая, произнес Золотухин тяжело. — Ты, Август Янович, не можешь…
Внезапно он осекся.
— Я немного устал, — сказал Штуб ровным голосом. — Плохо соображаю. Не надо обращать на это внимание. Все пройдет, и все будет хорошо. Все будет даже прекрасно. Но иногда бывает немножко трудновато…
В Управлении он велел Гнетову принести себе «дело», с которым Бодростин ездил в Москву. Кроме «дела» был еще пакет. Из содержания его следовало, что и Свирельников, и Ожогин уже дали свои объяснения лично Абакумову по поводу отправленной в Унчанск Устименко.
— Так, Витечка, — сказал Штуб, — так, дорогой товарищ. Партизаним мы с тобой, искажаем, нарушаем. Но спрашивается в задачке: какие это партизаны не партизанят?
— А мы партизаны? — глядя на маленького Штуба обожающими глазами, спросил Гнетов. — Вот не думал…
— Да уж не чиновники, нет. Потому что ведь, согласись, Виктор, разве коммунист может быть чиновником?
— А если прикажут?
— Можно и так воспринять, все можно. Но только не нужно. Потому что тут основное — это целесообразность и польза делу. Делу коммунизма. Вы меня поняли, товарищ Гнетов?
— Я вас понял, товарищ Штуб.
— И хорошо, что поняли. Теперь узнайте-ка мне подробненько, как здоровьечко майора Бодростина? На сколько ему прописан постельный режим? Не разрешат ли ему добренькие доктора, боже сохрани, выйти на работу еще не окрепшему? Так вот — моим именем — ни в коем случае. Жизнь товарища Бодростина дорога народу. Понятно? Со всей значительностью. И товарища Колокольцева ко мне с делом Горбанюк немедленно.
Оставшись один, Штуб открыл форточку: надо как следует выстудить кабинет. Он и это предусмотрел. Потом занялся почтой. Той самой, которая доставлена была Бодростиным. Здесь и насчет Золотухина с Лосым указания прибыли, еще не совсем конкретные, но развязывающие руки новому заместителю Штуба. Впрочем, какому там заместителю. Завтра, послезавтра, максимум через неделю подполковник Бодростин станет начальником во всех случаях. Штуб умел читать бумаги, умел понимать их прикрытый, но уже приготовленный к раскрытию смысл.
— Ну, товарищ Колокольцев, старый чекист со стальным взглядом, — спросил он, когда Сергей вошел, — по слухам, ты каждый день ребенка навещаешь?
— Так ведь девочка не виновата, — угрюмо отозвался Колокольцев. — Не она ведь золотишко прикарманила. И не она людей под пятьдесят восьмую подводила… Никак ей не привыкнуть к детдому.
— Садись!
Колокольцев сел. На лице у него застыло мучительно-брезгливое выражение.
— Утомился?
— Не то слово, — ответил Сергей. — Я ей когда обвинение предъявил? Бодростин четвертого уехал… Значит, шестого — так? И шестого же она начала говорить. Я таких дам никогда не видел и не думал, что такое на свете живет…
Штуб медленно перелистывал дело своей маленькой крепкой рукой. Колокольцев вдруг вспомнил, как стрелял Август Янович и как не дрожала у него рука. А сейчас вздрагивают пальцы.
— «Вопрос», — прочитал вслух Штуб. — «С какой целью вы оклеветали группу ни в чем не повинных медицинских работников, зная, что…»
Постучав, вошел Гнетов и доложил, что Бодростина раньше, чем через десять дней, на работу никак не выпустят.
— Понятно. Теперь позвони, товарищ Гнетов, доктору Устименке и вежливенько попроси ко мне заехать на десять минут. Не откладывая.
Дверь закрылась. Колокольцев попил воды и снова сел в кресло. Штуб все читал.
— Ну что ж, чекист со стальным взглядом, поздравляю, — сказал Август Янович, закрыв наконец папку. — Блестящее дело. Хороших людей, будем надеяться, спасет. Никуда от таких показаний не денешься. Закадычная не отыскалась?
— Ни слуху, ни духу.
— Надо искать. В истории с Горбанюк, кстати, пояснее отработайте, товарищ Колокольцев, подробности клеветы на ее мужа — инженерного генерала. Очень бегло сказано. От портрета Горбанюк судьбы людей зависят во многом. Чем полнее будет ее образ вами изваян, тем больше надежды. В смысле доброй надежды. С Губиным беседовали?
— Сегодня в одиннадцать ноль-ноль.
— Как он?
— Уже знал, что Горбанюк арестована. Очень напугался, что за клевету. Задний полный дал тут же.
— Документы?
— Все написал, быстренько, культурненько. И поблагодарил, уходя.
— Есакова не отпускать. Пусть суда дождется.
— Он и сам, товарищ полковник, ни на за какие коврижки не уедет. Два сапога пара — он и Горбанюк.
Штуб вдруг сжал виски ладонями. И закрыл глаза под очками.
— Вы что? — испугался Колокольцев.
— А ничего, — ответил Август Янович. — Тобой доволен. И собой. Бодростин, по слухам, чекист, но и мы — ничего себе ребята. На нас тоже можно положиться. Думаешь, Горбанюк для суда готова?
— Вполне. Хоть завтра.
— А если обстоятельства изменятся?
— Она пустая, — подумав, сказал Сергей. — Из нее воздух вышел. Так у нас в контрразведке бывало в войну… Помните Томпчика, в сорок четвертом? Это вы тогда сказали: «Он пустой». Не помните? Засланный диверсант с протезом…
— Я помню, — негромко ответил Штуб, — я все помню. — Он встал и закрыл форточку. — Кстати, письмо Палия насчет денег ты тоже к этому делу подшей. И еще тебе немедленная работенка. Сейчас займись: сделай из показаний Горбанюк и всей этой истории листов пять-шесть экстракта, чтобы суть была понятна всем и каждому. Мне это часа через два понадобится. И иди, если что — вызову.
С этой минуты время для Штуба значительно ускорилось. Стрелки часов задвигались быстрее, надо было торопиться. Прежде всего он позвонил Зиновию Семеновичу и попросил его немедленно приехать. Такого не случалось ни разу за все время их совместной работы. Голос Штуба звучал так, что Золотухин и спорить не стал.
— Читайте, — сказал он без всяких околичностей, когда грузный секретарь обкома сел. — У меня свои дела есть, а вы пока читайте. Потом коньяку выпьем и обсудим.
Оставив Зиновия Семеновича наедине с двумя папками в кабинете, который теперь принадлежал вроде бы уже майору Бодростину, нежели ему, он сам отправился в светленький кабинетик приболевшего майора, где и принял Владимира Афанасьевича Устименку.
— Что-то вас как-то даже и не узнать, — сказал Штуб, внимательно вглядываясь в высокого и плечистого доктора. — И не пойму, в чем перемена.
— Да вот костюм построили, — усмехнулся Устименко, — жена вынудила. А я отвык от штатского, наверное поэтому нелепый вид.
— Нет, отчего же, костюм вполне приличный, — обходя вокруг Владимира Афанасьевича и придирчиво оглядывая покрой, произнес Штуб. — Плечи немножко слишком, так ведь от этого никуда не уйти…
Устименко сказал неуверенно:
— Говорят, модно.
Они сели.
Штуб опять сжал виски ладонями. И немножко посидел с закрытыми глазами. Усталость все более и более побеждала его давешнюю энергию.
— Послушайте, доктор, — негромко сказал он, — я вот что… Я хотел у вас спросить: вы уверены в своем коллективе?
— Это — как? — не понял Устименко.
— Я спрашиваю про вашу больницу. Только про нее. Не про город и не про область. Про больницу.
— Я сейчас отвечаю за все, — прямо и холодно глядя в глаза Штубу, сказал Устименко. — И за Унчанскую область, и за город, и за мою больницу. Людей, враждебных Советской власти, не знаю и убежден, что таких в наших кадрах нет. Если вам желательно меня убедить в обратном, то вряд ли это состоятельная попытка. Я могу идти?
Устименко поднялся. Одной рукой он упирался в стол Бодростина, другой — на палку.
Штуб усадил его, успокоил какой-то шуткой и стал расспрашивать о подробностях некоторых фактов, об обстоятельствах, которые хотел прояснить до конца. Это было нужно ему для того, чтобы с полной непреложностью опровергнуть наиболее отвратительные главы бодростинского двухтомника.
— У вас хорошие работники? — тихо и грустно спросил Штуб в заключение.
— Великолепные, — ответил Устименко.
— Без недостатков?
— Я отвечаю за них. И за их недостатки тоже.
— Ну что ж, — совсем тихо произнес Штуб. — Ну что ж, это правильно.
Латышский акцент вдруг резко зазвучал в его речи.
— Все мы отвечаем за все, — словно стесняясь, но очень твердо сказал Штуб, — в меру всех наших возможностей.
И маленькой своей сильной рукой крепко пожал левую, искалеченную руку Устименки, проводил его к дверям и несколько секунд, задумавшись, смотрел, как с трудом спускается по лестнице хромой доктор…
«ОГОНЬ НА СЕБЯ!»
А стрелки часов, на которые теперь все чаще и чаще взглядывал Штуб, вертелись, казалось, все быстрее по мере того, как приближался к вечеру этот длинный день. И хоть не всегда, посмотрев на циферблат, Август Янович замечал, сколько именно времени сейчас, он чувствовал: надо торопиться, надо скорее, энергичнее…
Секретарь принес из санчасти пакетик люминала и купил коньяк, на который денег Штуб призанял у Гнетова. Гнетову же Август Янович сказал:
— И дров мне, пожалуйста, Виктор, пусть принесут в кабинет, не жалея. Мерзну я весь день.
Он снял очки, протер их и, протирая, очень сощурившись, посмотрел на Виктора. Глаза его, как всегда без очков, казались беспомощными.
— Если со мной вдруг ненароком что случится, а ты, как говорят, отделаешься легким испугом, — негромко сказал Штуб, — помоги Зосе. Их пятеро теперь, а ты покуда не женатый. Ясно?
— Ясно, но не совсем, — задумчиво ответил Виктор. — Если с вами, то и со мной. Тут уж точно, они нам обоим ижицу пропишут.
— Но ведь ты — только исполнитель.
— Это вы так обо мне думаете? Предполагаете, так и скажу?
— Тогда Сережку возьми Колокольцева за горло. Он тоже холостой…
— Жениться собрался, — печально сказал Гнетов.
— Ладно, там столкуетесь, дело не к спеху, — сказал Штуб и вошел в кабинет, где Золотухин с недоуменным и растерянным выражением лица, откинувшись, читал в кресле.
— Я думаю, вам в основном, Зиновий Семенович, все понятно. У вас есть маршалы, под командованием которых вы воевали. Они вас не отдадут. Это люди смелые, чистые, честные. Сегодня же вам надлежит ехать в Москву, немедленно, не откладывая. Знаете вы, разумеется, не от меня, а то семейству моему совсем придется худо. Короче, мало ли от кого. Я покуда это все посильно придержу. Сделаю все, можете поверить.
Часы в углу с гулом пробили шесть. Черт знает как летело время! Золотухин все глядел на Штуба непонимающим взглядом.
— По рюмке, — сказал полковник. — И посошок это будет и — за будущее: я верю, Зиновий Семенович, не могу не верить…
Латышский акцент вдруг снова послышался в его русской речи. От небывалого волнения, что ли? Или оттого, что ему сдавило горло?
— Холодный день сегодня — неожиданно произнес он. — Очень холодный.
— Да, прохладно тут у тебя. Мы уже протапливаем.
Штуб попросил:
— Посидите еще минуточку, прошу. Сейчас мне один документ доставят для вас — он вам понадобится. Это в отношении гражданки Горбанюк и ее клеветнической деятельности. Это документ крепкий, об него кое-кто зубы сломать может. Оказывается, как стало мне известно, еще в самом начале расследования по делу Палия вам звонок сверху был… Помните? Что я тут будто бы беззаконие творю и бедную вдову мучаю. От Берии лично был звонок?
— Ну, помню, — угрюмо отозвался Золотухин.
— Ее работа.
— Вот сколь серьезна дама?
— Очень даже серьезна.
Штуб вызвал Колокольцева, тот принес папочку. Вдвоем со Штубом Зиновий Семенович перелистал все шесть страничек машинописного текста, и дрожь омерзения пробрала все его крупное, сильное тело.
— Невозможно! — сказал он.
— Человек способен на разное, — ответил Штуб не без горечи в голосе. — И на очень высокое и на очень низкое. На ужасающе низкое. И тогда нельзя жалеть. Невозможно. Тогда нужно ампутировать гангренозный орган, чтобы не погиб весь организм.
— Как Устименко разговариваешь, — отметил Золотухин.
— А между врачами и чекистами есть кое-что общее. Между хирургами и чекистами.
— Но Бодростин твой…
Про Бодростина Штуб ответил, что тому надо бы работать не по этой линии. Хотя вряд ли в нынешних условиях такое мнение будет учтено.
— Учтут! — с угрозой в голосе посулил Зиновий Семенович. — Я в партию не в день Победы вступил. И раны мои еще с деникинщины болят.
Август Янович взглянул на огромного своего друга. Взглянул чуть-чуть снисходительно и в то же время с завистью, чуть жалостливо и в то же время с надеждой. Но ничего не сказал. Стрелки часов вертелись все быстрее и быстрее. Солдат принес охапку березовых дров, Штуб велел еще. Люминал был в кармане. Все шло отлично. И Золотухин весь раскалился перед ожидающим его сражением. Этот не попятится. Надо только еще жару ему наподдать.
И огня полковник наподдал: про смерть Богословского, про все собрание наветов, доносов и клеветы, про краденое золотишко и платину, про похищенные палиевские, вывезенные от фашистов, деньги, про Гебейзена, о котором Горбанюк писала с особым озлоблением. Вдвоем еще раз просмотрели они в подробностях составленную Колокольцевым памятную записку и «обговорили», что тут главное, а что второстепенное, и куда надо идти, как говорить, чего добиваться…
— Ну, а ты-то сам? — вдруг вспомнил Золотухин. — Тебе почему не поехать? Вместе? А?
Август Янович лишь улыбнулся на детскость такой постановки вопроса.
— Обо мне речи нет, — опять с латышским акцентом сказал он. — Я списан в убытки. И уже закрыт.
Налил Золотухину и себе коньяку и позвонил на вокзал насчет брони сегодня на Москву товарищу Золотухину. Да, мягкое место. Да, Штуб. Запишите, не забудьте.
— Черт тебя знает, какая в тебе энергия, — удивился и даже улыбнулся наконец Зиновий Семенович. — Смотрю и диву даюсь.
— А я старый разведчик, — сказал Штуб, — у нас авралы бывали почище этих. Там ведь только что проще? Семья не обременяет. А тут сам-шестеро, огонь на себя посложнее!