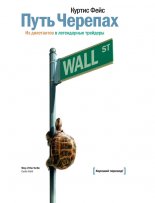Сажайте, и вырастет Рубанов Андрей

– Все, братва! – Слава Кпсс тяжело вздохнул, подошел к образам и размашисто перекрестился. – Конец фильма! Послезавтра – приговор. Прокурор запросил семь строгого.
– Значит, дадут шесть, – сказал Джонни. – Или даже пять...
Озабоченный Слава задумчиво ущипнул себя за серую кожу щеки.
– Будет шесть,– произнес он, по арестантской привычке сразу настраиваясь на худший вариант. – Шесть лет строгого режима! И за что? За то, что я дал дураку по голове и отобрал деньги, которые он все равно бы пропил за два дня? За выстрел в потолок? За что, а? За что, братва?
– Хорошо, что строгого, – заметил Джонни. – На строгом, говорят, меньше бардака.
– А вдруг,– вставил я,– окрестят на пять? Тогда ты встретишь Новый год уже на воле!
– Все в руке Божьей,– вздохнул Слава, осторожно вдевая самодельную вешалку в рукава малинового пиджака «а-ля новый русский». – Высплюсь – и поеду...
На суд полагалось ездить в приличной одежде. «Судовые» костюмы – несколько пар брюк, рубахи и пиджаки – бережно хранились в специальном чехле, рядом с телевизором. Пользоваться парадными вещами мог любой достойный арестант. Этот принцип свято соблюдался.
Все пиджаки, на мой взгляд, были ужасны. Двубортные, мафиозного шика, клифты с огромными отворотами и золочеными пуговицами, вдобавок донельзя заношенные. Но даже такие – волшебным образом иногда превращали грязных, узкоплечих пацанов в аккуратных юношей из интеллигентных семей. Множество раз опрятный костюм помогал срезать год, а то и два от срока. Во всяком случае, все в это верили.
«Судовую» коллекцию вдумчиво пополняли за счет одеяний вновь зашедших.
– И сколько раз ты выезжал на суд? – поинтересовался я.
– Тридцать два,– ответил Слава. Джонни уважительно продул зуб. От дальней стены послышался торопливый стук, и он поспешил выбирать бокового «коня». Я и Слава Кпсс остались наедине.
– Будет шесть,– проговорил Слава. – Освобожусь меньше, чем через год.
– Ты не рад, что ли?
Слава задумался.
– Рад,– ответил он мрачно.
– А чего такой грустный?
– Не знаю. Что я там буду делать, на воле? Чем там вообще люди занимаются, а?
– Не знаю,– ответил я. – Сам второй год сижу. Давно отвык.
– И я,– признался бандит-богомолец.
Тревога отяготила мой разум. Слава уходит! Послезавтра мой покровитель получит приговор. Станет осужденным. На следующий же день его закажут «с вещами». Через пять минут после того, как дверь за Славой закроется, в моей камере произойдет переворот. Место смотрящего займет другой авторитетный арестант. И это буду не я, конечно. Какой из меня авторитет? Наоборот – моя собственная жизнь резко ухудшится.
Отогнув край занавески, я посмотрел на противоположное купе, откуда по временам слышался хриплый голос Димы Слона. Сейчас, я знал, Слон подошлет кого-нибудь из своих приятелей – скорее всего, маленького наглого Федота – к нам: узнать, как дела у Славы, как продвигается его процесс.
Последние дни Слон держал себя со мной подчеркнуто дружелюбно, прекратил войну нервов: не провоцировал, не отпускал злобных комментариев и шуточек. Покрытый кельтскими орнаментами бандит ежедневно отправлял по Дороге две-три купюры на известный адрес, и в тот же день получал несколько доз порошка. Деньги гонятся по Дороге в открытом виде, и наркоманские движения Слона не оставались для меня секретом. Загнав по вене дозу, мой массивный недруг надолго затихал. По многу часов не вылезал из своего купе. Федот – его Слон открыто держал при себе шестеркой – таскал ему за занавеску баланду, чифир и чистые простыни.
Но я слишком хорошо теперь ориентировался в нравах и обычаях тюремного общежития, чтобы не догадаться: любитель ядов и нательных боевых узоров терпеливо ждет, когда наступит его час. Он хорошо понимал, что вся креатура смотрящего – Джонни, я, Малой, Гиви Сухумский,– оставшись без своего лидера, не сможет долго держать масть.
Никто из нас не годился на роль лидера. Малой – слишком мал. Гиви – сам вовсю судится и скоро уйдет. Джонни – физически силен, опытен, сидит давно, тюрьму знает, но все же держать хату не сумеет: для этого у него мало авторитета, а главное – коварства, хитрости и воли.
– Как же мы будем без тебя, Слава? – вырвалось у меня.
Слава положил руку мне на плечо.
– Будешь стоять, как свая, – все будет ровно. Дашь слабину – тебя схавают.
Я уныло опустил глаза.
– Это тюрьма, брат, – тихо продолжил Слава. – Надо быть очень умным и очень хитрым, чтобы здесь уцелеть. Забудь о скромности, о справедливости, о культуре, о своих книжках. Не забывай только о Боге. Живи – в реальном мире. Помогай сначала себе, потом – опять себе и в третий раз – себе, а потом уже – ближнему... Делай вещи – жестко! Не буду тебя учить – ты сам все знаешь, полгода со мной сидишь.
– Так, как ты, я не смогу. Опыта мало.
– А ты у Слона учись. У него опыта еще меньше – а вон как блатует.
– С ним надо что-то делать.
Слава улыбнулся, обнажив свежую дыру меж передних зубов. Очередной зуб он потерял в прошлом месяце. Арестант на нашем Централе теряет в среднем два зуба в год.
– Насчет этого быка ты переживаешь зря. Он слабоват. Он вас не скинет. Он – никто. Наркоман. От Общего Хода – реально далекий. Когда меня из хаты закажут, я с ним особо переговорю, предупрежу конкретно. И еще – насчет него отпишу кое-кому... Если он бузу затеет и вы его не остановите – сюда зайдут люди и тормознут этого дурака в две секунды... Но лучше, сам понимаешь, до такого не доводить...
– Он поднимет свои рога сразу, как только ты уйдешь. В тот же день.
– Не поднимет,– отрезал Слава. – Ему и сейчас хорошо. Ширка – есть, шестерка – тоже есть. Чего больше? И вообще, что ты трясешься? – Слава с досадой поморщился и тонким голосом передразнил: – Ах, что будет, как мы без тебя... Ты ведь сам скоро уйдешь! Или нет?
– Не скоро,– возразил я. – У меня одних свидетелей почти сто человек. А процесс еще не начался. Мне еще ездить и ездить. Верных два года...
– Если боишься,– раздраженно посоветовал Слава, понизив голос,– уходи с Дороги! Забейся, живи пассажиром! Сам отдай хату Слону, пусть этот наркоша все развалит! Или вообще сломись отсюда, сунь ментам денег, переселяйся на «спец»! Что, уже об этом думал?
– Нет,– соврал я.
– Тогда не дрожи, не жалуйся! Не хнычь! Иначе произойдет большая неприятность.
– Какая?
– Я изменю свое мнение о тебе. Пристыженный, я смолк.
Поздним вечером этого дня пришел ответ от Толстяка. Кроме покрытого мелкими буквами листа тетрадной бумаги, был и груз: пачка импортных сигарет.
«Привет, Андрюха! – писал старый приятель, фанатик колбасы. – Рад, что ты обо мне вспомнил. То, о чем ты просишь, сделать можно. Я согласен с тобой – тебе на Общем Корпусе делать нечего. Говорят, у вас сидят чуть не по сто человек в камере! Так ведь можно вообще без подкожного слоя остаться, а это верная смерть. Срывайся из этого зоопарка, переезжай на «спец»! У нас сидят семеро на пяти местах. Жить можно... теперь о деле. Твою проблему решим так: сообщи мне адрес и телефон жены. Мой адвокат с ней встретится. Она отдаст ему триста долларов, а он отнесет их кому надо. Ты понял, кому. В течение недели или двух – тебя переведут. Не обещаю, что в мою камеру. Но то, что тебя переселят в маломестку, к нормальным, солидным людям, тебя достойным,– это гарантируется. Такие дела. Жду ответа.
С арестантским теплом – Вадим Плотный.
P. S. Если чего надо – пиши, не стесняйся.
P. P. S. Кстати, указанную сумму надо отдавать ежемесячно. Надеюсь, ты к этому готов. Счастливо! С уваж. – Вадим.»
Конечно, я к этому готов, печально подумал я, разрывая записку на мелкие части. Давно готов. Я готов отдавать деньги. Только у меня их нет. Готов платить – но нечем. Нет трехсот долларов. А о том, чтобы платить ежемесячно, и речи быть не может. И времени – тоже нет. «В течение недели-двух» – это, как говорят банкиры, не срок.
Послезавтра вечером Слава Кпсс вернется в камеру уже как осужденный преступник. С этого часа по закону его нельзя содержать вместе с подследственными. Ему предоставят какое-то время на сборы, потом – выведут, «с вещами».
У меня оставалось пятьдесят часов для того, чтобы придумать выход.
ГЛАВА 35
Ноябрьская ночь – отличное время для современного арестанта. Прохладно. Тихо. Благодатная расслабуха реет под сводами огромного зала, где когда-то, сто лет назад, лечили свои недуги израненные военные моряки, счастливо выжившие после какой-нибудь кровавой Цусимы. Теперь помещения бывшего военного госпиталя занимала менее почтенная публика – но никак не менее жизнелюбивая.
Едва наступила темнота, сразу интенсивно завертелась специфическая тюремная жизнь. Туго натянулись вдоль стен Дороги. Заскользили по ним грузы. Воры и авторитеты принимались за написание многих и многих ответов на полученные накануне малявы с просьбами раскидать тот или иной рамс. Барыги и наркобароны доставали из тайников деньги и чеки с героином, дабы разослать страждущим. Братва рассаживалась скоротать часок-другой за партией деберца. Наркоманы старательно кипятили в кружках свои нехитрые принадлежности.
Зажужжали машинки, покрывая тела татуировками. В этом сезоне хорошо катила тематика «голимого отрицалова». Пышногрудые русалки и лики Спасителя уступили свое место уродливым свастикам и прочим нацистским символам. Так проявлялся протест полностью отчаявшихся, доведенных голодом и теснотой до безумия людей против уголовного закона – гуманного по форме, но жестокого по существу.
Мгновенно, в общем, папиросы были забиты, колбаска зажарена, брага процежена, магнитофоны включены, рамсы раскиданы, с гадов получено, с оступившихся строго спрошено, и реальный, в полный рост, арестантский оттяг продолжался уже до утра.
А мы – затеяли банкет.
Обычно в тюрьме достаточным поводом к выпивке является сама выпивка. Качественный алкоголь – редкий гость на Централе. Но сегодня повод был. Отменный, самый лучший. Мы провожали на волю своего друга. Слава Кпсс собрался уходить домой. К моменту оглашения приговора по своему ДЕЛУ он отбыл полновесные пять лет, и судья, уже третий по счету, необычайно утомившись процессом, решил дать сидельцу срок «за отсиженным». Очевидно, вина изможденного разбойника не показалась судье очевидной, и затребованные прокурором семь лет резко усохли.
Вернувшись с оглашения приговора поздно ночью, Слава никому не сказал ни слова, и его лицо – обтянутая тонкой серой кожей комбинация костей – ничего не выразило; глаза смотрели в пол.
Он долго умывался, щедро намыливая шею, и плечи, и локти. Сто тридцать пять душ – за исключением спящих – притихли. Все знали, что Слава привез срок. Многие сидели здесь по году, по два, по три. Слава Кпсс, пробыв в следственной тюрьме пять лет, поставил один из рекордов Централа. Вымывшись, Слава долго молился. Несколько раз прочитал Покаянный Канон. Потом подозвал нескольких арестантов, побогаче, и попросил взаймы денег. Я депонировал сто рублей, Джонни – тоже. Даже Слон, случайно вынырнувший из героинового забытья, раскошелился на две мятых десятирублевки, чтобы тут же опять отъехать в свой джанки-трип, откуда возвращаются через раз.
Собрав пачку купюр, Слава пересек камеру, подошел к двери и высунул голову в «кормушку». Около часа он просидел возле дверной дыры. Вертухаи, подходя с другой стороны, о чем-то подолгу с ним беседовали. Одни уходили, но появлялись другие. Договорившись, терпеливый Слава опять пересек камеру, уже в обратном направлении, и здесь, под решеткой, у стены, на козырной поляне, сообщил мне и Джонни, что сидеть ему осталось – пять дней.
Мы возликовали.
Тут же Слава назначил прощальный вечер.
– Принесут – посидим,– подмигнул он.
Принесли только через двое суток. Кроме водки, зашло мясо и даже перец (в тюрьме он под большим запретом; его можно швырнуть в лицо охраннику или в ноздри его собаке – и сбежать).
В два часа ночи камеру заполнил аромат жареной, сдобренной специями говядины. Закончив готовить основное блюдо, Слава взял с Общего, для себя лично, две пачки чая в долг, пообещав восполнить недостачу так быстро, как только сможет. Никто не посмел отказать отсидевшему пять лет человеку. Чай был высыпан на газету и помещен в центр стола – под взгляды двухсот глаз голых голодных людей.
– Кто желает – чифирите... – внятно предложил Слава. В секунду сколотились пять или восемь компаний, по пять или восемь человек, самопальные кипятильники мгновенно взорвали воду в кружках; не чифир, но очень крепкий чай был выпит еще до того, как полностью заварился. Доспеет в пузе.
Выпив по первой, проглотив по куску обжигающего мяса, мы притихли. Забытые вкусы и запахи вызвали в памяти каждого интимные воспоминания.
– Сейчас закинусь «сонниками»,– объявил Слава,– помолюсь – и лягу спать! И просплю все три дня и три ночи, пока не закажут...
Выпили по второй и по третьей, съели мясо. Как ни смаковали, как ни жевали крошечными кусочками, наслаждаясь,– килограмм исчез в несколько минут. После четвертой – случился небольшой казус. К двери нашей камеры подошел контролер и велел ближестоящим подозвать к дверной дыре Джонни.
Мой напарник давно обзавелся шапочными знакомствами среди нижних чинов администрации. Один из таких знакомых и пришел, от ночного безделья, попросить сигаретку и поболтать. Пьяный арестант с удовольствием перекинулся с трезвым надзирателем парой фраз – высунул голову через «кормушку» в коридор, покурил, посмеялся, поделился новостями.
В тот же самый момент в тот же коридор случайно зашел ДПНСИ – дежурный помощник начальника следственного изолятора. Самый главный и важный тюремный чин, непосредственно отвечающий за все происходящее на Централе. Не рядовой контролер, не корпусной надзиратель, а стоящий над всеми Вертухай Намбэ Уан.
Увидев красную, ухмыляющуюся физиономию арестанта, большой офицер с красной повязкой в звании целого майора заподозрил неладное, поставил подчиненного контролера «смирно» и убедился, что арестантская голова, торчащая из прямоугольного отверстия, распространяет вокруг себя свежайший алкогольный дух. Спросив фамилию, начальник распорядился подозвать сюда же смотрящего.
Теперь уже Слава Кпсс – столь же хмельной – сунул голову в амбразуру. Попытался как-то объясниться. Но начальник рассвирепел. Пронзив взглядом нетрезвого Славу, Намбэ Уан громогласно объявил:
– Вызываю резерв! Камеру – открыть! Всем – на выход!
Известно, что всякий руководитель, даже если он ленив и нерадив, или – демократ, или просто вынужден закрывать глаза на нарушения, иными словами, всякий начальник, в чьем ведомстве царит вечный, неизбывный беспорядок, хотя бы изредка должен самоутверждаться. Показывать, кто в доме хозяин. Иначе все сползет в хаос!
В стране бардак! – так, очевидно, с горечью сказал себе большой чин. Везде бардак! Но у меня не будет бардака. Хотя бы здесь я его искореню. Не позволю подследственным безнаказанно жрать водку!
Огромная дверь отошла в полумрак коридора.
– На выход!!! – заорал вертухай, еще пять минут назад мирно болтавший с Джонни о пустяках. – Спящих – разбудить! Вся хата – на выход, быстро!!!
Рожден ли тот, кто способен равнодушно, без содрогания наблюдать, как поток пахнущих йодом и табаком тел, шаркая сандалетами, течет из разверстого зева тюремной камеры? Как чьи-то сыновья, мужья и отцы, подсмыкивая спадающие портки, сопя и переругиваясь, почесывая срам, натужно кашляя и щурясь, выползают, подгоняемые матерными окриками, из меньшего пространства в большее, бестолково натыкаются друг на друга и садятся в ряд, опершись на колени предплечьями?
Когда я вышел в коридор, там уже все гудело. Переминались с ноги на ногу несколько камуфлированных коммандос в масках и исполинских ботинках с высокими голенищами. Хрипели собаки. Сто тридцать полуголых существ сидели вдоль стены на корточках. В яичном, грязно-желтом электрическом свете вдоль согбенных человеческих спин кривыми пунктирами обозначались выступающие позвонки. Нелепо изогнутые конечности, обесцвеченные лица, трещины ртов, торчащие хрящи ушей – передо мной были персонажи Босха.
В дверных дырах соседних камер появились встревоженные, заинтересованные физиономии. Что произошло? По какой причине скандал? А вдруг – шмон по всему этажу?
Пройдясь вдоль длинной череды коленей и бритых черепов, громко матерящийся Намбэ Уан опознал по запаху всех, кто употребил недозволенный яд. Таковых оказалось, вместе со мной, четверо.
Нет, мы не были сильно пьяны. Наша стадия сердобольному русскому человеку известна как «выпимши». Мы не шатались, не горланили песни, не вели себя агрессивно – но неверные движения рук, заплетающиеся языки, блестящие глаза и глуповато изогнутые мокрые губы явно изобличали в нас нарушителей режима.
– Этих – в трюм! – распорядился Намбэ Уан, с отвращением глядя на нас. – Остальных обратно.
Ближайший ко мне коммандос немедленно ткнул меня дубинкой в спину.
– Вперед!
Я зашагал. Благоухающих спиртом, нас отконвоировали на первый этаж.
Уже на лестнице за моей спиной послышался негромкий диалог. Двигавшийся последним Слава Кпсс и продолжающий ругаться ДПНСИ отделились от процессии, приотстали. Я услышал, как Слава что-то тихо доказывал, увещевал, а большой мент гневно взрыкивал, – впрочем, тоже себе под нос. Вскоре их голоса вовсе исчезли.
Я повеселел. Слава – выкрутился! Наверняка его сейчас отведут обратно, и тогда – мы спасены, все! И смотрящий, и я, и Джонни, и Малой. Трюма, то есть карцера, мы не боимся. Но идти туда сразу всем – никак нельзя! Кто тогда упорядочит жизнь ста тридцати голодных, невменяемых людей? Кто пресечет драки, воровство, прочий беспредел? Можно было не сомневаться, что именно эти доводы шептал хитрый Слава в ухо возмущенному майору.
Однако мне стоило подумать и о своей собственной судьбе. Если на Централе станет известно, что в нашей камере посажены за пьянку все дорожники, что Общий груз брошен на произвол судьбы, по глупости, из-за водки,– конец тогда авторитетному Славе Кпсс. А мне – и подавно. На моей арестантской репутации будет поставлен жирный крест. А ведь мне, в отличие от Славы, еще сидеть и сидеть. Впереди суд, потом – «осужденка», этап и лагерь...
Очутившись посреди пустого помещения с кафельным полом, я понял, что сейчас произойдет не самое важное, но долгожданное, многократно предчувствуемое событие. Безнаказанный будет наконец наказан. Впрочем, давно пора. Когда-то давно, в середине лета, в этой маленькой комнате с грязными стенами капитан Свинец пытался склонить меня к сотрудничеству с МВД.
Вслед за мной вошли трое, широкоплечие, в масках, – но тут же все сдернули через голову черные тряпки и оказались молодыми людьми моего возраста – румяными, массивными клонами капитана Свинца; только глаза смотрели не так умно. Атмосфера сгустилась.
– Где взял водку? – спокойно спросил один из румяных, ударяя резиновой дубиной в огромную ладонь.
– Я водку не пил,– ответил я.
– А что ты пил?
– Мурцовку.
– Брагу, что ли?
– Ее, начальник. Брагу.
– Ладно... А мясо? Откуда мясо?
– Я мяса два года не ел.
– В хате пахнет жареным мясом.
– Мы жарили не мясо.
– А что вы жарили?
– Ландорики.
– Это что?
– Берешь хлеб,– растолковал я,– нарезаешь тонко – и жаришь...
Румяные переглянулись.
– Дерзкий,– поставил диагноз тот, что стоял справа.
– Нарежем его тонко,– предложил тот, что расположился с фронта.
Я отшагнул назад. Хорошо бы почувствовать лопатками стену. Иногда к стене ставят лицом. Иногда про стену поют рок-музыканты. Иногда главную улицу мирового финансового мира называют «улицей стены». А бывает, что стена хороша не в виде песни или бизнес-символа, а как защита от удара сзади.
Однако я не успел. Получил пинок по щиколоткам, сбоку, и в этот же миг меня схватили за плечо и рванули вниз. Мои шлепанцы черными стремительными бабочками отлетели в стороны. Кости грянули о кафель пола. Приложились ногой, обутой в тяжелый кирзовый ботинок. И еще раз, и еще.
– Вот тебе – мурцовка! А вот – ландорики! В общем, менты все-таки отпиздили нашего банкира, господа. В комиксах без этого нельзя. Били без особого энтузиазма. Наверное, если бы захотели – пожизненно искалечили; но не захотели. Возможно, здесь практиковались разные варианты побоев, и в моем случае имел место вариант щадящий, воспитательный, для проформы. Не били – пинали; не всаживали каблуки в грудную клетку, не целили в голову, и размах массивных шнурованных ботинок ни разу не поимел максимальной амплитуды.
Я получил два или три десятка ударов в мягкие ткани, по ягодицам и задним поверхностям бедер. Я многократно огреб резиновой палкой по плечам и локтям – опять же все болезненно, жарко-жгуче, но в целом почти терпимо. Я поимел сильные затрещины, тычки кулаками в затылок, в виски, в уши – но не в лицо; его я защитил ладонями и высоко подтянутыми к голове коленями. Вдобавок, находясь в этой позе эмбриона, я катался по прохладному кафельному полу, норовил уйти с траектории удара. И еще – орал как резаный. Едва не визжал. Не от боли, а исключительно в целях самозащиты. Известно, что когда побиваемый громко кричит, это смущает экзекуторов. Мало ли кто посторонний, пусть даже и свой брат-режимник, проходя мимо по коридору для служебной надобности, услышит, задумается и доложит потом высокому начальству?
Свои вопли я старался оформлять вербально, то есть не просто выл «А-А-А!» или «О-О-О!», а выразительно хрипел, стращал, грозил, матерился, клялся и божился. Вспомним, наконец, и то, господа, что я находился в состоянии опьянения; пьяному море по колено: алкоголь притупляет боль, это известно.
Привлеченный запахом яда, появился нувориш Андрюха. «Поздно, господа! – хохотал он в лицо камуфлированным кумовьям (те ничего не слышали, зато слышал я). – Поздно лупцуете! Его надо было раньше поколотить, гораздо раньше! Полтора года назад! В первый день, как арестовали! В «Лефортово»! Когда он был тепленький, мягенький, при костюме от «Кензо», в крокодиловых черевичках! Ах, как бы тогда пошли ему на пользу ваши пинки и оплеухи! А сейчас все без толку! Зря расходуете силы, господа менты!» Не будучи услышан, мерцающий, не для всех реальный, Андрюха канул в пустоты пространств.
По окончании воспитательной процедуры, в самый момент водворения в карцер, я пребывал в сознании. И даже ощущал, помимо острой боли в разных частях тела, некое сдобренное молодой отвагой удовлетворение: я попран, унижен, побит, но жив, цел и едва не весел.
Настоящая боль проявилась позже, через несколько часов. В тесной, сырой каморке, лежа на голых досках, желая пить, есть, согреться, голый по пояс, вибрирующий от ощущения, известного в арестантской среде как «отходняк», я прочувствовал въяве свою долю.
ГЛАВА 36
В восемь утра принесли еду. Я вскочил с дощатого ложа. Хромая, приковылял к двери.
– Давай шлемку,– сказал баландер.
– Нету. Мальчишка из хозобслуги пошарил на своей тележке и протянул мне мятую алюминиевую посудину.
– Чаю,– попросил я громким шепотом.
В емкость хлынула коричневая, дымящаяся, густо пахнущая жизнью жидкость. Я схватился за алюминиевые края и тут же отдернул руки – горячо. Баландер терпеливо ждал. Очевидно, развозя по трюму пищу, он не раз видел избитых и окровавленных людей. Ему были хорошо знакомы их реакции. Наконец мне удалось изловчиться, подхватить драгоценный сосуд, отнести его и поспешно поставить на лежак. Дверная дыра захлопнулась.
Чай дымился. Меня мутило от жажды. Я попробовал поднести миску к губам – слишком, слишком горячо. Алюминий, крылатый металл, мать его, идеально проводит тепло. Мне пришлось нагнуться, опустить опухшую физиономию, и я стал лакать, как пес.
Вскоре появился сильно пахнущий дешевым дезодорантом трюмный надзиратель. Он отвел меня в каптерку и отобрал штаны, спасшие меня ночью от холода. Заключенный карцера получал казенную одежду: серую хлопчатую пару с черными поперечными полосами.
– «Кензо»? – спросил я, помяв в руках шершавый материальчик. – «Версаче»?
– Версаче замочили,– в тон ответил трюмный, демонстрируя понимание основных трендов фэшн-бизнеса. – Одевайся, пацан. Срок свой знаешь?
– Нет.
– Пятнадцать суток.
Облачившись, я побрел – руки за спину – назад, неотличимый от арестанта с классической карикатуры. Трюмный пристегнул деревянные нары к стене, замкнул особым ключом и оставил меня в одиночестве.
Я поискал, где сесть. Но в прямоугольном боксе карцера, два на три шага, сидячие места не были предусмотрены. Лежачие, естественно, тоже. На сыром, холодном, как могила, полу я разместиться не смог. Остался такой свободный выбор: либо стоять, либо ходить, либо присесть на корточки. В любом случае опорой служили только ноги.
Стянув с себя полосатую робу, я осмотрел поврежденные конечности, потом оторвал от трусов длинный лоскут, помочился на ткань и протер кровоточащие ссадины на локтях и коленях. Дурной запах не в счет, главное – предотвратить воспаление. В местном климате всякая царапина способна за неделю обратиться в огромный гнойный фурункул. Забота о своем здоровье, о чистоте и гигиене – вот одно из важных правил арестанта «Матросской Тишины».
Несколько часов прошли в безделье. Ныли поломанные ребра, отбитый зад и спина. Я бы уплатил по любой таксе за таблетку обезболивающего, за маленький белый цилиндрик анальгетика. Но свои деньги – несколько пятидесятирублевых банкнот, свернутых в трубочку – перед самым выходом из камеры, в сутолоке у двери, я незаметно для всех сунул в ладонь своему «стировому».
Этот щуплый мужчина, схваченный на Черкизовском рынке за открытое хищение двух гамбургеров из рук студента МВТУ им. Баумана, в тюрьме выглядел как человек, максимально далекий от каких-либо наличных средств. Обмазанный зеленкой и фурациллином, долговязый «стировой» в качестве личного имущества располагал только трусами в цветочек. Одежду, в которой его взяли, он проиграл в стос, первыми же днями отсидки. Теперь, с целью выжить, он стирал простыни мне и Джонни, получая взамен сахар и курево. «Стировой», я знал, порядочный арестант, он сохранит мои богатства в целости и вернет сразу, как только я вернусь домой, в камеру.
Но сейчас депозит заморожен, он в чужих руках. Боль снять нечем. Сигарет – и тех нет. Курить в карцере запрещено. Носить какую-либо одежду, кроме казенной, – тоже. Нельзя вообще иметь личных вещей. Единственное развлечение – расхаживать из угла в угол. Туда – пять шагов, обратно четыре с половиной. Полшага уходило на разворот. Все в точности так же, как в камере Лефортовского замка, откуда я начал: заносчивый, богатый, уверенный в себе.
Вечером явился мрачный, незнакомый вертухай. Он открыл замок, опустил нары и приказал выходить – получать матрас. Зайдя в ту же кандейку, где утром мне выдали полосатое шмотье, я ухватил бесформенную, расползающуюся в руках кучу тряпья, вернулся к себе, постелил и упал.
Использовать матрас наилучшим образом я научился сразу. Спать нужно не на самом матрасе – так холодно сверху; и не под матрасом; а внутри матраса. Ткань была во многих местах разорвана руками и ногами предыдущих обитателей трюма. Просунув в эти дыры конечности и немного помаявшись, я уснул.
Прошла половина ночи. В самой ее середине, мертвым предрассветным временем, скрипнул железный замок. Дверная амбразура приоткрылась. На черный пол тяжело упал сверток. Грев, с торжеством подумал я, вскакивая. Грев! Зашел грев!
Размотав нитки, развернув несколько газетных листов, я достал десяток карамельных конфет, сахар, сигареты и спички. Теперь можно жить.
Насладившись табаком, я поудобнее устроился меж прошитых нитками комьев свалявшейся ваты и задумался.
Я хорошо знал цену этим сигареткам, карамелькам и замусоленным кубикам рафинада. Они куплены на деньги, выкроенные из стариковских пенсий и куцых женских зарплаток. Принесены к тюрьме матерями и женами. Отданы в окошко приема продуктовых передач. Далее – дошли до дрожащих рук голодного арестанта. После мучительных раздумий, расчетов, сомнений и сглатываний слюны – сигаретки и карамельки, одна из десяти, из пятнадцати,– отданы в Общее. Ссыпаны, сложены в особую картонную коробку. Взвешены безменом. Множество раз тщательно пересчитаны. Замотаны в грузы. Переправлены из нескольких камер в одну. Там перепакованы более удобно. Ценой больших усилий, риска и хитрости, путем обмана и подкупа путь сигареток и конфеток заканчивается возле обитателя карцера.
В этот же ночной час другие сигаретки и карамельки доходят до харкающих кровью обитателей «тубанара», до собранных в отдельной камере больных СПИДом – до всех, кто бедствует.
Арестантское сообщество никогда не забудет про тех, кто бедствует. Трюмным надзирателям всегда уплатят по таксе, и они – сами, ночью, отнесут грузы, и забросят в каждый бокс туго завернутый кулек.
Голодные, драные, измученные существа хотят жить. Они изобретут тысячу способов, как помочь себе и своему собрату по несчастью. Они соберут терпеливо по щепотке чая, по кусочку сахара, по рублю, в каждой камере. Они, как муравьи, стащат грузы в одно место. Они подкупят, уговорят, хитростью пропихнут еду и курево в самые глубокие трюмы. Дотянут живую нитку до самого низа, до последнего дна.
Может быть, в каком-то другом комиксе мальчик-банкир жил не в Азии, а в Европе. В маленькой опрятной стране, где женщины по праздникам надевают крахмальные юбки своих прабабок и танцуют их танцы.
Там, в Европе, мальчика-банкира посадили бы в стерильное заведение с хорошим питанием, спортивным залом, мастерскими для работы и телефонными кабинками для регулярных деловых звонков. В европейскую тюрьму.
Но в такой европейской тюрьме он никогда бы не очутился в подвале, в грязной конуре, и нищий тюремный надзиратель, подкупленный еще более нищим заключенным, не принес бы банкиру в эту конуру кусок сахара и сигаретку.
И банкир не пожевал бы того сахара. И не покурил бы той сигаретки. И так никогда бы и не узнал, как умеет человек утвердить свою свободу.
Хорошо, что мы живем в Азии.
Скорбно-возвышенные мысли о драматическом пути конфет и сигарет помешали мне проделать обязательное простое действие, а именно: надежно спрятать и сахар, и табак, и прочее. Пожевав и покурив вволю, я беспечно сунул остатки богатства в вентиляционную дыру. Там, в тоннельчике, валялось множество смятых кусков бумаги, какие-то камни и прочий мусор. Я понадеялся, что сверток окажется незаметен взгляду трюмного. Но ошибся.
Утром он зашел в мой бокс, смерил меня взглядом – удушливое амбре дешевого парфюма исходило от него приторными волнами – немедленно устремился к моему тайнику и все нашел. У трюмного была смешная привычка быстрыми движениями зубов кусать свои обветренные губы: сначала нижними зубами – верхнюю губу, потом наоборот.
– Откуда? – негромко спросил он, рассматривая сверток.
Я промолчал.
Хозяин карцера еще раз критически оглядел полосатого меня и поиграл своей резиновой дубиной. В принципе он мог тут же официально оформить изъятие запрещенных к употреблению в его ведомстве продуктов и сигарет и довесить к моему сроку еще суток пять или десять. Но благоухающий пенитенциарный клерк оказался человеколюбцем.
– Будешь курить – накажу,– сообщил он, сунул мой табак и сахар в свой карман и неторопливо вышел в коридор. Ткань его штанов на заду сверкала, засаленная до невозможности.
Я тут же проклял себя. Из-за собственной беспечности, из-за интеллигентской склонности витать в эмпиреях, из-за привычкидумать – я остался без сигарет.
День прошел в страданиях. Курить хотелось до скрежета зубов и вибраций селезенки. Я обследовал всю камеру. Стены и пол. Сантиметр за сантиметром. В поисках самого маленького окурочка. И нашел, даже два. Первого хватило бы как минимум на одну полноценную затяжку, второго (на нем уцелел даже логотип «Ява») как минимум на две. Но чем зажечь, где взять огонь?
Поиски продолжились. В углах, в щелях я наконец нашел все остальное. Воспламеняющиеся головки спичек оказались втиснуты, укрыты, вмазаны в грязь с дьявольским хитроумием. В других щелях отыскалась и особая бумажка для розжига, разорванная на крошечные квадратики. С пятой попытки я добыл оранжевое пламя и выкурил большой окурок, а вслед ему и маленький.
Дозы не хватило, естественно; к вечеру я опять стал шарить по стенам и углам, гадая, прибудет ли ночью новая посылка.
В восемь вечера трюмные сменились. Появился новый надзиратель. В отличие от утреннего он пах не мылом и фиалками, а кирзой, носками – и, естественно, табаком. Помимо своей воли я жадно вдохнул остатки яда с его камуфлированной мятой куртки. Поймал ноздрями даже тот дым, что уцелел на дне его легких.
Ночью грев не зашел.
Вторые сутки без никотина начались трудно. Всякий курильщик знает, что утренняя сигарета – самая главная за весь день. Без нее обойтись почти невозможно.
Промучившись до вечера, исходив из угла в угол не менее пяти километров, я уснул, но спал очень чутко и сразу услышал тихий скрип открываемого замка и звук падения тяжелого груза. С животной стремительностью рванувшись к долгожданному подарку, я разодрал зубами бумагу и нитки (всякий груз туго и прочно завернут и замотан), обнаружил все, что требуется страждущему, – и выкурил сразу две сигареты, подряд.
Двухдневный перерыв в употреблении табака дал о себе знать: голова закружилась, подступила тошнота, но я все-таки докурил до конца, до фильтра – опершись рукой о стену и уронив голову. Добрел, пошатываясь, до матраса, упал и так лежал, трогая сухим, как бумага, языком столь же обезвоженные десны.
Кроме сигарет, зашел чай, сахар и даже витамины – несколько желтых горошин аскорбиновой кислоты. Чаю, свежего, горячего, крепкого я бы, да, выпил. Но водворенному в карцер арестанту кипяток иметь не положено.
От непривычно большой дозы яда голова загудела, как барабан. В ее пустом пространстве во всей красе проявился вопрос, мучивший меня последние дни: что со мной будет дальше? Завтра пойдет третий день – а это уже одна пятая срока. А там и треть рядом. От трети до половины – еще два дня. Не успею оглянуться, как срок пойдет с горки. Пятнадцать дней и ночей пролетят мгновенно – так выходило, если применить арестантскую алгебру. А что потом?
Я попытался здраво оценить свои перспективы. По всему выходило, что перспектив нет, совсем. Сцены, одна кошмарнее другой, вставали перед глазами: вот смотрящий камеры, легендарный Слава Кпсс, прощается с ее населением; вот последний раз окидывает взором сто тридцать пять повернутых в его сторону лиц; вот за ним закрывается дверь, вот повисает тревожное молчание, вот проходит один день, затем второй – и все меняется. Славы нет, он на свободе. Джонни нет, Андрюхи тоже. Оба – в карцере, взяты за пьянку. Кто теперь будет дергать хитрые дорожные веревки? А главное: кто будет наводить ужас на толпу из ста голых, полумертвых от тесноты и недосыпа людей?
Потом я вернусь. Между прочим, в ореоле позора. По пьяному делу бросил Трассу! Нанес вред Общему Ходу! Мне немедленно это предъявят. Тот же Слон. Даром что он – парняга при понятиях. Получим все трое: Джонни, я и Малой.
До драки, наверное, не дойдет. Но всякий достойный арестант узнает важную новость: оказывается, последнее время рядом с ним, на Дороге, стояли случайные люди, у которых не было ни ума, ни понятий. Такие – должны находиться в стороне от Общего Хода! Меня и моих приятелей немедленно выкинут с козырной поляны.
Я закурил третью сигарету.
Ничего: впереди еще десять с лишним дней. Я что-нибудь придумаю. А пока – я обязан сделать самое главное и важное. Спрятать грев.
В течение двух часов, то ползая на коленях, то подпрыгивая к нечистому потолку, я тщательно, неторопливо зарядил всю камеру. Растворил в ней всю пачку сигарет и коробок спичек. Затолкал во все дыры, в щели, изготовил из собственной слюны и пыли замазку и ею довершил маскировку.
«Это тебе не чужие миллиарды от налоговой инспекции прятать!» – расхохотался вдруг появившийся Андрюха-нувориш.
«Пошел ты!» – рявкнул я; может быть, даже вслух.
«Как скажешь»,– равнодушно ответил мальчик-банкир и исчез. Но правота осталась за ним.
Вошедший утром трюмный потянул носом воздух, куснул губы и сказал:
– Выходи в коридор. Тут же состоялся молниеносный обыск. Я лишился всего сахара и девяти сигарет из двенадцати спрятанных.
– Ты, я так понял, борзый, – произнес трюмный, ужасно благоухая. – Тебе здесь нравится, что ли?
– Нисколько.
– Я думаю, нравится, – как бы не слушая, продолжал менеджер карцера. – У тебя пятнадцать суток срока, да?
– Точно.
– Я тебе сделаю тридцать,– пообещал трюмный. – А вообще, чтоб ты знал, такие, как ты, у меня обычно сидят по сорок пять. Тебе ясно, пацан?
Пацану сравнялось двадцать восемь лет.
– Однозначно, начальник, – ответствовал он, проделав все необходимые пацанские движения: раздвинул в заискивающей улыбке губы, расставил пальцы, всплеснул руками, глазами же изобразил чрезвычайную, из ряда вон выходящую законопослушность. В уме же при этом он проклял как хитроумного вертухая, разгадавшего местонахождение тайников, так и самого себя, не проявившего достаточной изобретательности.
– Еще один раз учую дым,– предупредил трюмный,– сразу довешу еще пятнадцать! За нарушение режима. Ясно?
Пацан повторил церемонию ответа.
Трюмный застегнул замок на нарах. Я немедленно стал прикидывать, каким образом смогу растянуть на двое суток уцелевшие три сигареты. Наверное, я решил бы попросту бросить курить и так обернуть на пользу всю глупую войну с дезодорированным надзирателем, если бы по возвращении из трюма меня ждала прежняя жизнь. Но об этом не приходилось и мечтать. Для поисков выхода мне требовались все ресурсы мозга. Обойтись без курения я не мог.
Весь четвертый день я провел в грустных раздумьях. Именно сегодня покинул следственный изолятор «Матросская Тишина» самый важный для меня человек.
Где-то там, двумя этажами выше, в сто семнадцатой хате, у меня дома, сегодня утром выкрикнули:
– Cлава! Тебя на волю заказали!
Сто бедолаг – кроме тех, чья очередь спать, – жадно вытянули шеи, пытаясь увидеть того, кому предназначалась эта фраза, запомнить момент торжества на лице отсидевшего пять лет арестанта, мгновенный блеск глаз, скупой победный жест руки.
Когда-нибудь и мне скажут то же самое. А пока все плохо. Очень плохо.
Друг – ушел. А враг – ждет меня, чтобы напасть и уничтожить.
Очередной сигаретный транш я решил отбить с доходностью пятьдесят процентов. То есть спасти от трюмного не менее половины спрятанного. От каждой сигареты я отломил фильтр – ненужное излишество в моих условиях. Разломил надвое все двадцать бумажных цилиндриков, чтобы облегчить маскировку. Далее я нарочито небрежно сунул несколько жирных окурков в такие места, куда надзиратель заглянет непременно. Он найдет, решит, что дело сделано, и не станет искать дальше. Так я уберегу основное.
Процесс поиска самых хитрых ямок в полу и щелей в стенах продолжался до рассвета.
Но когда работа почти подошла к концу, я остановился. Через дыхательную дыру до меня донеслись утренние звуки: отдаленный топот многих ног. Бухали тяжелые сапоги, чуть легче и тоньше звучали подошвы офицерских ботинок, звонко ударяли в асфальт дамские каблуки. Это спешили на работу служащие изолятора: надзиратели, оперативники, режимники, фельдшеры, приемщицы передач, кладовщики, подсобные рабочие, смотрители собачьего питомника, работники финчасти и прочие труженики ключа и дубинки.
Незачем, сказал я себе. Незачем прятать запрещенные табак и сахар. Не надо ничего маскировать. Наоборот.
– Ничего себе! – зловеще произнес трюмный, увидев меня, сидящего на матрасе в облаках дыма. – Да ты все попутал!
– Отнюдь, начальник, – возразил я.