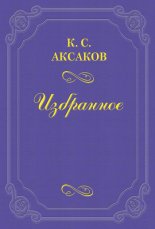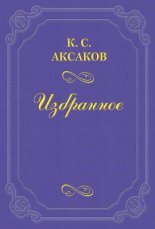Русский канон. Книги XX века Сухих Игорь

У Фадеева длинных разговоров про Бога и Ленина не ведет никто. Весь исторический и культурный контекст (заявленный непосредственно) ограничивается упоминанием Миколашки, Колчака, японцев да максималистов. Если здесь и появляется богоборческий мотив, то он не натужно акцентирован («Это я в Бога»), а растворен в повествовании, мотивирован бытовыми обстоятельствами. «Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом. – Стрелять умеешь? – Умею…– неуверенно сказал Мечик… – Ну вот… Во что бы тебе выстрелить? – Левинсон поискал глазами. – В крест! – радостно предложил кто-то. – Нет, в крест не стоит… Ефимка, поставь городок на столб, вон туда…»
Герои Фадеева вроде бы живут ближайшими, конкретными интересами: добыть пищу, овладеть женщиной, разведать, прорваться через засаду, вымостить гать через трясину. Седьмая глава романа «Враги» – вовсе не об «огне классовой борьбы», а о конфликте Морозки и Мечика. «Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..» – так фадеевский герой размышляет о революции и Гражданской войне.
«Любопытно: в романе о партизанском отряде остаются совсем неосвещенными общественно-политические думы и чувства партизан того времени. Читатель не знает, как и что думали Морозка, Метелица, Варя, Харченко о большевиках, о Советах, о новых порядках, о Западе. Писатель старательно избегает, обходит подобные разговоры и споры, до такой степени старательно, что возникают даже недоуменные вопросы: как же это, неужели тогда среди партизан никто не разговаривал на подобные темы?» – удивлялся А. Воронский.
Радикальный О. Брик довел это наблюдение до гротеска: «Фадеев подошел к своей задаче чрезвычайно просто. Его совершенно не интересует реальная обстановка, в которой происходит действие его романа… Действие фадеевского романа могло бы быть с одинаковым успехом перенесено в любую страну, в любую эпоху, например в средневековую Испанию. Вообразим только, что Левинсон – начальник отряда контрабандистов, удирающий с боем от правительственных войск…»
Умеренный В. Полонский поправлял Брика: «И здесь неправ наш критик. Чтобы перенести действие “Разгрома” в любую эпоху и превратить Левинсона в вождя контрабандистов, надо забыть все то, что показано в Левинсоне как революционере, и прежде всего отсутствие личной, корыстной заинтересованности, без которой нет контрабандизма; надо забыть затем ощущение связи с коллективом, во имя которого ведется борьба; надо игнорировать, наконец, ту незримую, но присутствующую и ощущаемую всеми участниками “Разгрома” – а также читателем – далекую цель, толкающую на борьбу».
«Далекая цель, толкающая на борьбу» – большего и Полонский сказать не решился. Критик не мог отрицать очевидного (это с легкостью делали позднее): Фадеев не столько прямо изображает конкретно-исторические обстоятельства, сколько предполагает их, стремясь к чему-то другому. Автор «Разгрома» шел здесь «против течения» (заглавие его раннего рассказа), разрушал уже сложившиеся клише, штампы, читательские и критические ожидания.
Подрыв структуры советского романа о Гражданской войне осуществляется в «Разгроме» и с другой стороны – с опорой на классику.
«А. Фадеев учится у Л. Толстого. На языке его лежит явственный след этой учебы. Овладевает А. Фадеев и толстовским методом психологического углубления и реалистического показа живого человека» (А. Селивановский).
«В романе нетрудно проследить влияния на писателя Бабеля и Всев. Иванова, но, конечно, Фадеев покорен прежде всего могучим гением Л. Н. Толстого. Не только форму, не только стиль, прием, композицию заимствовал писатель у Толстого, но и его, толстовский подход к человеку, к психологии» (А. Воронский).
«Зависимость Фадеева от Толстого не оспаривается никем. Не отрицает ее и сам Фадеев. Он учится у Толстого. Он относится к Толстому, как Бакланов к Левинсону… Учась у Толстого, Фадеев следует его методу психологического анализа. Это сказывается нередко и в аналогичном развертывании переживаний, и в повторении некоторых психологических схем, в композиции многих сцен и образов, даже в стилистических приемах» (В. Полонский).
Действительно, после модернистской эпохи, окрашенной в цвета Андрея Белого, на фоне буйного цветения орнаментальной прозы и агитационной литературы с персонажами-масками Фадеев одним из первых практически реализует установку «учебы у классиков». Убедительность и органика толстовского метода, однако, таковы, что вместе с внешним рисунком, стилем, приемом пролетарским автором вольно или невольно (хотел сказать или сказалось?) усваивается и концепция характера, взгляд на мир.
Главное в толстовском понимании человека – изменчивость, текучесть, невозможность ограничиться однозначной оценкой-приговором.
«Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого – что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских, и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою» (Л. Толстой. «Воскресение». Ч. 1, гл. LIX).
Толстовская «диалектика души» оказывается для Фадеева волшебной палочкой, философским камнем, которым он прикасается к разным персонажам, обнаруживая их неожиданные трансформации и мутации, конфликты внешнего и внутреннего, слова и дела, мысли и поступка. Автор настолько увлечен этой игрой, что (особенно в первой половине романа) забывает о фабуле, в сущности простой, новеллистической. «Разгром» превращается в серию парадоксальных психологических зарисовок, в практическую демонстрацию толстовского метода на материале «Гражданской войны на Дальнем Востоке». Правда, Фадеев воспроизводит скорее не многослойную психологическую живопись «Войны и мира» или «Анны Карениной», а более элементарную графику ранних толстовских вещей вроде «Севастопольских рассказов», «Набега», «Рубки леса» с классификацией «преобладающих типов солдат» или контрастность поздних повестей и «Воскресения».
Больше половины из семнадцати глав романа имеет персонажные заглавия: Морозка – Мечик – Один – Мужики и «угольное племя» – Левинсон – Враги – Мечик в отряде – Разведка Метелицы – Три смерти. В теплой тени Толстого каждый фадеевский герой временами оказывается не равен самому себе: иногда проявляет одни свойства, иногда другие.
Бесшабашный ординарец Морозка, пьяница, мелкий вор, циник в отношениях с женщинами, вдруг оказывается опорой отряда, сознательным бойцом, смельчаком, в конечном счете – настоящим героем.
Мечик, романтик, интеллектуал с пылким воображением и чистыми чувствами, отбрасывается к полюсу зла, оказываясь предателем и трусом.
Безотказная, добрая, гулящая Варя сентиментально влюбляется в этого чистюлю и волнуется при встречах с ним, как кисейная барышня.
Персонажи эпизодические, периферийные, вроде сельского председателя Хомы Рябца или старика Пики, тоже даны не прямолинейно, в лоб; они имеют свой психологический диапазон.
Даже люди с другой стороны, враги, в «Разгроме» неожиданны, неоднозначны, когда они не в массе, а поодиночке.
«Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью.
– Оспой давно болел? – спросил он.
– Что? – растерялся взводный. Он растерялся потому, что в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался его рябым лицом. Однако, поняв это, Метелица рассердился еще сильней, чем если бы насмехались и издевались над ним: вопрос начальника точно пытался установить возможность каких-то человеческих отношений между ними».
Легко узнается прототип этой сцены: допрос Пьера Безухова маршалом Даву в «Войне и мире». «Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту минуту смутно перечувствовали бесчисленное множество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья».
Реплика начальника эскадрона тоже переводит ситуацию в иное измерение. Враги на мгновение становятся просто людьми. Метелица понимает возможность установления «человеческих отношений», но не принимает ее. Он продолжает свою разведку, свое сражение: «– Брось, ваше благородие!.. – решительно и гневно сказал Метелица, сжав кулаки и покраснев и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но мысль, а почему бы и в самом деле не схватить этого черного человека с таким противно-спокойным, обрюзглым лицом, в неопрятной рыжеватой щетине и не задушить его, – мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, и его рябое лицо сразу вспотело».
И офицер, в свою очередь, читает, понимает внезапную мысль Метелицы. Но он выдерживает поединок взглядов и лишь потом достает револьвер, возвращается к навязанной обстоятельствами социальной роли. «Ого! – в первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу и не спуская глаз с Метелицы.
Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом Метелицы».
Толстовская поэтика бокового зрения помогает Фадееву постоянно превращать плоскость агитационной повести в объем психологического романа. Жизнь-река не подчиняется схемам, обтекает булыжники расхожих истин, образуя тихие заводи и прихотливые водовороты.
Собравшиеся на сход мужики говорят о чем угодно – плохих косах, богатой траве, соседских свиньях, смеются над покусанным «чмелями», но вовсе не горят желанием помогать «угольному племени», реализуя актуальный лозунг «смычки рабочего класса и трудового крестьянства». Напротив, они мимоходом проговаривают впоследствии отвергаемые самим автором «Разгрома» крамольные вещи: «Станет нам в копеечку война эта… – Нету мужику спокою… – И все-то на мужике, и все на ем! Хотя бы уж на что одно вышло… – Главная вещь – и выходов никаких! Хучь так в могилу, хучь так в гроб – одна дистанция!..»
Увы, это не их война, и устроенный для их успокоения показательный суд над Морозкой вызывает не совсем просчитанную Левинсоном реакцию: «Ну вот, и делов-то всех, – заговорили мужики, радуясь тому, что канительное собрание приходит к концу. – Дело-то пустяковое, а разговоров на год…»
В другом эпизоде проверяющий караулы Левинсон наталкивается на спящего дневального. Но вместо воспитания бдительности железный командир, кажется, вместе с ним проваливается в детство, ощущает тайну бытия, которая открывается внезапно, ночью, далеко не каждому. «И он пошел еще тише и аккуратней – не для того, чтобы остаться незамеченным, а для того, чтобы не вспугнуть улыбку дневального. Но тот так и не очнулся и все улыбался на огонь. Наверно, этот огонь и идущий из тайги мокрый хрустящий звук выщипываемой травы напоминали дневальному “ночное – в детстве: росистый месячный луг, далекий крик петухов на деревне, притихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя костра перед детскими зачарованными глазами… Костер этот уже отгорел и потому казался дневальному ярче и теплее сегодняшнего». (В следующей главе этот ночной костер срифмуется с другим сегодняшним: у него сидит несчастный пастушонок, спокойно рассказывающий об убитом отце и изнасилованной матери.)
Левинсон (романный, а не придуманный критиками позднее) вообще – не «самый идейный», а наиболее сложный персонаж фадеевской портретной галереи.
Где-то в прошлом, освещенном светом ночного костра, остался еврейский мальчик на фотографии с отцом – торговцем подержанной мебелью. В самом выборе этого героя (в первоначальных вариантах он был Левенсоном) есть какой-то неясный шифр эпохи. Родословная Иосифа Абрамовича могла быть последним поклоном (на дворе 1926 год) Льву Давидовичу Троцкому и его соплеменникам, подчеркиванием их роли в революции и Гражданской войне. Но об этой же роли, о засилии евреев толковали многие эмигрантские публицисты и писатели вроде автора «Красного террора» С. Мельгунова или генерала-писателя П. Краснова… Тем не менее в последующих изданиях автор не стал ничего менять. Левинсон не превратился в Левина или Львова. Партизанские отряды у Фадеева идут в бой под руководством человека с опасным «пятым пунктом».
Далее, характер героя усложняется чисто толстовским приемом расхождения между видимостью и сущностью.
«В своей боевой жизни он различал два периода, не разделенных резкой чертой, но отличных для него по тем ощущениям, которые он сам в них испытывал.
В первое время, когда он, не имея никакой военной подготовки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать массами людей, он чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что он нечестно выполнял свой долг, – нет, он старался дать самое большее из того, что мог, – и не потому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять на события, в которых участвуют массы людей, – нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия, прикрывающим собственную слабость таких людей, то есть отсутствие в них воли к действию, – а потому, что в этот первый, недолгий период его военной деятельности почти все его душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою. (В первом периоде Левинсон оказывается этаким невольным партизанским Кутузовым, не подчиняющим себе события, а следующим за ними. – И. С.)
Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг такого положения, когда боязнь за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй период он получил возможность управлять событиями – тем полней и успешней, чем ясней и правильней он мог прощупать их действительный ход и соотношение сил и людей в них. (А это уже волюнтаристская установка толстовского Наполеона. Меняя знаки, Фадеев воспроизводит толстовскую типологию полководцев. – И. С.)
Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то связано с новым его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы».
Но, управляя событиями, демонстрируя постоянную твердость, верность, правильность «силы, стоящей над отрядом», Левинсон одновременно то играет в «своего парня» (городки, сказки о попах), то превращается – авторской повествовательной волей – в таежного волка с нездешними глазами, гнома из детских сказок, партизанского Данко с горящим факелом.
При этом Фадеев как будто специально, сознательно избегает прямых публицистических и исторических характеристик, предпочитая толстовские, чеховские, классические «то, что», «то, которое», «не потому, а потому» и прочие неопределенности и околичности.
«Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, не осознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью, и без которого никто из них не пошел бы добровольно умирать в улахинской тайге».
«И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, было самое глубокое и важное, о чем он только мог думать, потому что в преодолении этой скудости и бедности заключался основной смысл его собственной жизни, потому что не было бы никакого Левинсона, а был бы кто-то другой, если бы не жила в нем огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека. Но какой может быть разговор о новом, прекрасном человеке до тех пор, пока громадные миллионы вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой немыслимо скудной жизнью».
Этот высший (или глубинный) уровень художественной характерологии, позднее позабытый-позаброшенный, был настолько ясен и удивителен для первых критиков-читателей, что один из них (Вяч. Полонский) предложил любопытный эксперимент. Выписав внутренний монолог героя из главы «Пути-дороги», критик комментировал его: «Признаюсь, у меня был соблазн в этой выписке имя Морозки заменить именем Мечика. Читатель ни на секунду не усомнился бы, что перед ним размышляющий сам с собою Мечик, – так по-мечиковски дан здесь Морозка».
Фадееву сразу же было указано на гипертрофию психологизма, излишества в характеристиках Вари и «даже Левинсона», нарушение чувства меры.
Без этих нарушений перед нами был бы другой роман, «текст-посредник, текст-трансформатор социального заказа» (М. Чудакова).
Для структуры «Разгрома» как раз принципиально важно, что «классово чуждый» интеллигент Мечик, анти-Левинсон (тоже определение Вяч. Полонского), «свой» интеллигент Левинсон и дорастающий до сознательности пролетарий Морозка временами давались в сходном психологическом ракурсе. «Люди как реки: вода во всех одинакая…»
Глубинное единство коллективной души персонажей «Разгрома» особенно четко демонстрирует пятнадцатая глава с заглавием, повторяющим известный толстовский рассказ-притчу, – «Три смерти». У Толстого по-разному умирали богатая барыня и «человек из народа», ямщик. Фадеев противопоставляет бессудный расстрел трусливого мужика в жилетке, видимо, справного хозяина, и бессмысленно смелую гибель Метелицы (по пословице «на миру и смерть красна»).
Третьей смертью в толстовской притче была прекрасная гибель дерева, которое пойдет на крест умершему ямщику. Коллизия природное – человеческое воспроизводится и в «Разгроме». Третья смерть у Фадеева – любимого коня Морозки. Ординарец жалеет его больше, чем погибших товарищей-партизан. И Мечик вдруг переполняется «слезливой доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади», хотя неподалеку умирает недорубленный казак.
Кончается глава о трех смертях абсолютно толстовской примирительной нотой, правда стилистически оформленной в лирической, несколько экзальтированной манере современной Фадееву орнаментальной прозы. Пьяный, горюющий, «чуть не плача от веселого исступления», Морозка наталкивается на Мечика. «И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, нависших над ними беззвездным темнеющим куполом, себя, своих родных, близких, эту неверную, трудную землю».
Два человека, столкнувшихся из-за женщины, неудачливый грубиян-муж и счастливый чистюля-соперник, шахтерская косточка и городской интеллигент, будущий герой и будущий предатель идут, обнявшись и пьяно распевая песни, под темным куполом небес по неверной, трудной земле.
Сбой «диалектики души» происходит лишь в финале, в последнем поступке Мечика. (В его предыстории тоже есть историческая загадка, некий не до конца понятный шифр: трижды упоминается, что он водился с максималистами; эсеры, террористы, большие забияки между тем характеризуются Баклановым как «трепачи».) Но и здесь предательство можно объяснить не классовым происхождением, «нутром» героя, его индивидуалистическим сознанием, а животным страхом слабого человека, почти мальчишки, неудачливого романтика, т. е. исходя из законов не «пролетарского», а обычного реализма.
В ночном исповедальном разговоре с Левинсоном Мечик, жалуясь на свое одиночество в отряде, вдруг догадывается: «Мне даже кажется иногда, что, если бы они завтра попали к Колчаку, они так же служили бы Колчаку и так же жестоко расправлялись бы со всеми, а я не могу, а я не могу этого делать!..»
Левинсон, вразумляя заблудшую душу («Вот тебе и на… ну – каша!.. – думал Левинсон…»), не соглашается: «“Если бы они попали к Колчаку, то они так же жестоко и бессмысленно исполняли бы то дело, какое угодно было Колчаку? Но это же совсем неверно!..” – И Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему неверным».
На нервность, искренность командир отвечает заученными привычными словами. Но их повествователь не приводит и даже не пересказывает. Потому что, присмотревшись, Левинсон видит в этом мальчишке себя прежнего: «По тем отрывистым замечаниям, которые вставлял Мечик, он чувствовал, что нужно бы было говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь» (в черновых набросках эта связь была более очевидна, там Мечик жестоко судил себя и был готов к самоубийству). Потому что мужикам приходится сеять и убирать хлеб и при Миколашке, и при казаках, и при партизанах, и при японцах. Потому что лишь тонкая черта отделяет гарцующего впереди эскадрона красивого офицера от стреляющего в него Левинсона: «Вот зверь, должно быть, – подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу». Сложись обстоятельства чуть по-иному, и он бы мог лежать в засаде с другой стороны и ловить на мушку кого-то еще.
Это – тема Булгакова в «Белой гвардии» и Шолохова в «Тихом Доне». Но толстовский метод изображения человека наталкивает на этот путь и автора «Разгрома».
Ключевые, опорные мотивы фадеевской книги – долг, дело, воля, правильная сила, цель – не идеологичны, а философичны. Они придают роману странный, диковинный привкус (в официозных интерпретациях эти свойства обычно списывались по графе «романтических тенденций»). В них можно вложить (спрятать) прямо противоположное содержание.
«Смело мы в бой пойдем…» – запевали по обе стороны фронта Гражданской войны.
«…за власть Советов!» – продолжали одни.
«…за Русь святую!» – возражали другие.
Но разные слова пелись на одном языке на одну и ту же мелодию.
На каком флоте служат гумилевские «Капитаны»? С кем воюют герои тихоновских «Баллады о синем пакете» или «Песни об отпускном солдате»?
Баллада как жанр, изображая человеческий поступок, деяние, подвиг, почти не интересуется конкретными обстоятельствами, создает свой мир.
Фадеев-повествователь не пренебрегает историческим материалом, но часто поднимается над ним. «Разгром» – баллада о какой-то войне. Исходное состояние мира в первых главах – благостное, почти утопическое: июльское солнце, стрекот кузнечиков, запах сена и дым костра. Мужики занимаются своим извечным делом. В отряде Левинсона «народ разленился, спал больше, чем следует, даже в караулах». Стычка, в которой ранен Мечик, представляется случайной, мало кого волнующей.
Фабульная завязка возникает лишь в шестой главе, когда четверть романа уже позади. Она начинается с эффектного многоточия. «…В сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей-Ковтун – начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховей-Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем зимовье, раненный девятью пулями, и что уж, видно, ему недолго осталось жить…
Слух о поражении шел по долине со зловещей быстротой, и все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, что это самая страшная эстафета, какую только приходилось возить с начала движения. Тревога людей передавалась лошадям. Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, карьером рвались от села к селу по хмурым, размокшим проселкам, разбрызгивая комья сбитой копытами грязи…»
Броские детали (смертный бой, девять пуль, безумная скачка со страшным известием) взрывают бытописание, задавая тон баллады, легенды. «Локти резали ветер, за полем – лог. Человек добежал, почернел, лег. Лег у огня, прохрипел: “Коня!” – И стало холодно у огня» (Н. Тихонов. Баллада о синем пакете).
В письме, полученном Левинсоном от какого-то Седых (не от Ленина или Блюхера!), есть раздел «Очередные задачи».
«Раздел “Очередные задачи” состоял из пяти пунктов; из них четыре показались Левинсону невыполнимыми. Пятый же пункт гласил:
“…Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командования – чего нужно добиться во что бы то ни стало, – это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впоследствии…”»
Инструкция включена в снижающий контекст. Фраза иронически оборвана на середине. Наступает момент, когда правила, диспозиции, бумажные законы отступают перед случайностями жизни.
«Когда пришли начхоз и Бакланов, Левинсон знал уже, что будут делать он и люди, находящиеся в его подчинении: они будут делать все, чтобы сохранить отряд как боевую единицу».
В сознании и делах командира предпосылка становится целью. А до последствий надо еще дожить. Они остаются за кадром и, как обычно в «Разгроме», четко не формулируются.
Дальнейшее диктует упругая пружина балладного действия. Почва под ногами колеблется, с ленивой мирной жизнью покончено, отряд приходит в движение, получают объяснение слова повествователя в третьей главе: «трудный крестный путь лежал впереди».
На этих «путях-дорогах» (заглавие двенадцатой главы) партизан ждут внешние преграды: вода, огонь, ночь, тайга, трясина, враги равно как внутренние препятствия и конфликты. Действие романа строится на сюжете преодоления и сюжете испытания.
В сюжете испытания крупным планом даны два эпизода: с корейцем и раненым Фроловым. Чувствуя за собой полтораста голодных ртов, Левинсон с болью в сердце конфискует свинью корейца, понимая, что обрекает его и его семью на голодную смерть.
Раньше по его приказу доктор дает яд смертельно раненному партизану. Тот воспринимает смерть как долгожданное избавление, как последний человеческий поступок (опять чисто толстовский ход!).
«Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение – жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким.
– Случится, будешь на Сучане, – сказал он медленно, – передай, чтоб не больно уж там… убивались… Все к этому придут… да… Все придут, – повторял он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишала личную – его, Фролова, – смерть ее особенного, отдельного, страшного смысла и делала ее – эту смерть – чем-то обыкновенным, свойственным всем людям». (На толстовские мотивы здесь, кажется, накладывается еще парафраз лермонтовского «Завещания».)
В обоих эпизодах, особенно втором, специально фиксируется нервная, истерическая реакция Мечика: «Обождите!.. Что вы делаете?.. – крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными от ужаса глазами. – Обождите! Я все слышал!..»
Она очень напоминает ту, что демонстрирует автопсихологический бабелевский герой-интеллигент в новелле «Смерть Долгушова» («Конармия» пишется и публикуется одновременно с «Разгромом»). Смертельно раненный телефонист просит «стратить» на него патрон. Хлипкий интеллигент Лютов в ужасе отказывается. Тяжелую, но необходимую работу приходится выполнить оказавшемуся поблизости «человеку из народа». «Они говорили коротко, – я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.
– Афоня, – сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, – а я вот не смог.
– Уйди, – ответил он, бледнея, – убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…»
Позднее Фадеев-критик пытался объяснить эту коллизию, противопоставляя старую мораль Мечика новой этике Морозки. «Мечик, другой “герой” романа, весьма “морален” с точки зрения десяти заповедей: он “искренен”, “не прелюбодействует”, “не крадет”, “не ругается”, но эти качества остаются у него внешними, они прикрывают его внутренний эгоизм, отсутствие преданности делу рабочего класса; его сугубо мелкий индивидуализм. В результате революционной проверки оказалось, что Морозка является человеческим типом более высоким, чем Мечик, ибо стремления его выше, – они и определяют развитие его личности как более высокой».
В этой критической схоластике, в постановке «морали» и «искренности» в иронические кавычки, автор, кажется, не понял самого себя, принимая вечные нравственные коллизии за новые, сегодняшние. «Попутно мне хотелось развить в романе мысль, что нет отвлеченной, “общечеловеческой” морали», – повторяет он вслед за Лениным.
Как будто жертва «за други своя» – свойство только революционного борца (поступок Морозки). Она входит в кодекс отрицаемой Фадеевым общечеловеческой морали (ср. хотя бы толстовского «Хозяина и работника»).
Проблема в ином. В сцене смерти Фролова Фадеев воспроизводит этически неразрешимую ситуацию (такую поэтику очень любил Достоевский). Выбор в таком случае предстоит не между добром и злом, а между двумя видами зла, причем даже неясно, какое из них меньшее.
Раненого Фролова с собой взять нельзя. Кроме того, он обречен, надежд на выздоровление никаких. А сразу же после ухода партизан сюда придут японцы. «Или твоя обязанность быть убитым?» – спрашивает Левинсон доктора, предложившего остаться вместе с Фроловым.
Жалость Мечика, как и нерешительность Лютова у Бабеля, в такой ситуации понятна, но неконструктивна. Они чувствуют там, где надо, приходится что-то делать, выбирать. Такие конфликты неразрешимы в сфере чистого разума. Проблема – в реальности, которая их создает, провоцирует.
Жестокая логика войны, смертельной схватки не отменяет заповедей, но неизбежно нарушает их. Беззаконные законы войны независимы от идеологии. Священники – хранители «заповедей» – благословляют воинов, идущих умирать за Отечество, – но и убивать.
«Слухай, Павлуша… слухай, мальчик ты мой, Павлуша!.. Ну разве ж нет такого места, нет, а? Ну как же жить будем, как жить-то будем, мальчик ты мой, Павлуша?.. Ведь никого у меня… сам я… один… старик… помирать скоро…» – жалуется Мечику бесприютный Пика, мечтая о месте с пасекой и рыбной рекой.
Трагедия в том, что такого тихого угла в мире романа уже нет. «Отряд двинулся вверх по крутому, изъеденному козами гребню. Холодное голубовато-серое небо стлалось над ним. Далеко внизу мерещились синие пади, и туда из-под ног катились с шумом тяжелые валуны».
Впереди, в сюжете преодоления, их ожидают бои, смерть, героизм, предательство, последний отчаянный бросок мимо засады и, наконец, – вид мирной счастливой жизни свободных людей. «Крестный путь», кажется, приводит оставшихся в живых девятнадцать в землю обетованную.
«Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно – простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне, у вербняка, сквозь который синела полноводная речица, – красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя – веселая, звучная и хлопотливая – жизнь… За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко».
Кажется, даже время пошло назад. Только что, в начале главы, упоминались иней, льдистое небо, сияющее золото деревьев.
Но присмотревшись, видишь, что на самом деле оно замыкается в кольцо.
Левинсон с остатками отряда, в сущности, возвращается в точку, с которой все начиналось, в тот простой природный трудовой рай с высоким небом, солнцем в бело-розовой пене (эта деталь просто повторяется на первой и последней страницах), скошенным полем, девичьим пением и хохотом. И этих пока незнакомых ему людей он должен взнуздать догмой долга. «Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом, – и перестал плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности».
И все во имя цели, которая неформулируема и скрыта где-то за горизонтом: сохранить боевые единицы, вокруг которых впоследствии…
«Разгром» – при соответствующей оптике – читается как русский вариант литературы «потерянного поколения» («Фиеста» появится за год до фадеевской книги, «Прощай, оружие» и «На западном фронте без перемен» – через два года после нее). Побежденный не получает ничего, кроме надежды и веры.
Первое полное издание романа вышло в 1927 году в рабочем издательстве «Прибой» в серии «Новинки пролетарской литературы». На последней странице среди серийных новинок рекламировались поэма А. Безыменского «Феликс», повесть Н. Лузгина «Хуторяне», роман И. Скоринко «Стальной гамуз»: таков был ближайший контекст.
Потом книга переиздавалась десятки раз с «довольно значительными изменениями» и частными поправками, которых насчитывают «около двухсот» (В. Озеров). На самом деле для писателя, который по партийным указаниям будет переделывать свой второй роман, превращая молодую гвардию в старую (его собственная горькая шутка), изменения были ничтожными: снято деление на три части, убраны немногочисленные крепкие и диалектные словечки (унты стали сапогами, исчезли паскуда и … твою мать), вычеркнуты некоторые прямолинейные толстовские ходы и орнаментальные метафоры.
Главное же было сделано в финале – в последней строке, последней фразе. В первом издании в заканчивающем роман толстовском периоде стояло вроде бы незаметное, но важнейшее «как-то»: нужно было жить и как-то исполнять свои обязанности. Потом автор убрал неопределенное местоимение, превратив какой-то неуверенный, дребезжащий звук финала в нечто металлическое, жесткое, однозначное. Левинсон сделал большой шаг от «потерянного поколения» к «молодой гвардии», от слабого страдающего человека к железному большевику. Прошлое уже позабыто, вычеркнуто, осталось в лесу, но не в памяти. После всех потерь можно не как-то жить, а просто жить и исполнять свои обязанности. «…У читателя романа и после разгрома отряда остается сознание и ощущение силы революции», – разъяснял Фадеев в 1932 году.
«Разгром» заметили, оценили многие, в том числе критики с другой стороны. В статье Г. Адамовича «О положении советской литературы» (1932) среди тех, в чьем лице «литература отстаивает себя, свои права, свою свободу», наряду с Леоновым, Олешей, Пастернаком, Бабелем, Пильняком, Всеволодом Ивановым, Зощенко был назван и Фадеев, «человек бесспорно талантливый и сложный, противоречащий в писаниях своим плоским теоретическим речам».
Он мог бы стать… Он стал советским функционером, литературным сановником, верным слугой режима, мучеником догмата.
Первый роман Фадеева стал его последней удачей. Впереди было еще сорок лет жизни и литературной работы. Метафора разгрома стала итогом его судьбы.
И в чем он виноват, командир Левинсон?! Он тоже хотел как лучше…
Остается только метафора… (1927. «Зависть» Ю. Олеши)
Э. Багрицкий. 1926
- И пред ним зеленый снизу,
- Голубой и синий сверху
- Мир встает огромной птицей,
- Свищет, щелкает, шумит.
«Если первая фраза тебя потрясла, в странной книге, открытой напропалую…»
Один писатель-исследователь выпустил книгу, составленную только из первых фраз.
Первую фразу «Зависти» читали и критиковали как отдельное произведение.
«Преодолев страх, он раскрыл свою рукопись и произнес первую фразу своей повести: “Он поет по утрам в клозете”. Хорошенькое начало! Против всяких ожиданий именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия. А все дальнейшее пошло как по маслу… Когда же повесть появилась в печати, то ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитым».
Ключиком в катаевской повести с пушкинским заглавием «Алмазный мой венец» назван Ю. Олеша, редактором, напечатавшим «Зависть» в «Красной нови», был А. Воронский, автор книги «Искусство видеть мир». Естественно, это искусство и восхитило его в повести-романе.
Первую фразу запомнили даже те, кто не любил книгу. «В “Зависти” невозможно развязное начало и зажеванный, вялый конец, – жаловался Пришвин одному из адресатов. – В русском словаре есть превосходное слово (очень целомудренное) “нужник” и отвратительное “ватерклозет”. Можно представить себе начало романа в нужнике, но в ватерклозете нельзя… Так отвратительно, что я бросил книгу и вернулся к ней через месяц только по усиленной просьбе детей».
Со своим особым мнением Пришвин оказался едва ли не в одиночестве. Редко какая книга в истории советской литературы встречалась с таким энтузиазмом – коммунистов и попутчиков, социологов и формалистов, правых и левых, «своих» и «чужих» в разрезанной на две части русской литературе.
«Здесь» о «Зависти» писали и говорили Горький, Луначарский, Вяч. Полонский, Л. Пумпянский, В. Шкловский, там – непримиримые оппоненты в критике Г. Адамович и В. Ходасевич.
Вскоре после выхода романа газета «Комсомольская правда» включила «Зависть», наряду с «Войной и миром», «Мертвыми душами» и «Разгромом», в число «десяти книг, которые потрясут читателя» (остальные шесть позиций занимала переводная литература).
Уже в семидесятые годы Н. Н. Берберова вспоминала: «Итак, летом 1927 года я прочитала “Зависть” и испытала мое самое сильное литературное впечатление за много лет. Это было и осталось для меня крупнейшим впечатлением в советской литературе, пожалуй, даже большим, чем “Волны” Пастернака. Передо мной была повесть молодого, своеобразного, талантливого, а главное – живущего в своем времени писателя, человека, умевшего писать и писать совершенно по-новому, как по-русски до него не писали, обладавшего чувством меры, вкусом, знавшего, как переплести драму и иронию, боль и радость, и у которого литературные приемы полностью сочетались с его внутренними приемами собственной инверсии, косвенного (окольного) показа действительности… Я увидела, что Олеша – один из немногих сейчас в России, который знает, что такое подтекст и его роль в прозаическом произведении, который владеет интонацией, гротеском, гиперболой, музыкальностью и неожиданными поворотами воображения. Сознательность его в осуществлении задач и контроль над их осуществлением, и превосходный “баланс” романа были поразительны. Осуществлено было нечто, или создано, вне связи с “Матерью” Горького, с “Цементом” Гладкова и вне “Что делать?” Чернышевского – но непосредственно в связи с “Петербургом” Белого, с “Шинелью”, с “Записками из подполья” – величайшими произведениями нашей литературы» («Курсив мой»).
Эта странная книга в какой-то краткий исторический миг смогла удовлетворить почти всех.
Олеша написал на редкость краткий текст – всего сто с небольшим страниц. Даже компактные тургеневские романы кажутся на этом фоне длинноватыми. Но он зарифмовал «Зависть» со многим в нашей литературе, в том числе – вопреки Берберовой – с автором «Что делать?» и его многочисленными последователями.
Многие критики – от благонамеренно-ортодоксального В. Перцова до яростного диссидента А. Белинкова читали книгу именно как социальный роман о «перестройке» в интеллигентской среде и столкновении разных социальных сил – точно по схеме Чернышевского – Горького.
«Плохо, когда “Враги” Лавренева и “Лавровы” Слонимского, и “Братья” Федина основаны на красных, белых и розовых братьях… Роман Олеши сделан на превосходных деталях, в нем описаны шрамы, зеркала, кровати, мужчины, юноши, колбаса, но сюжет сделан на двух братьях – красный и белый», – иронически заострял конфликт В. Шкловский, дважды повторенным «сделан» одновременно показывая кукиш в кармане социологической критике («Мир без глубины. Юрий Олеша»).
Младший, Андрей Бабичев, вроде бы неплохо укладывается в такую сюжетную схему. Он сделан из воспоминаний о гражданской войне, кипучей деятельности вокруг «Четвертака», грандиозной общественной столовой, где все блюда будут стоить двадцать пять копеек, восторга перед новым сортом колбасы, «общественной» любви к приемному сыну – спортсмену, физиологического жизнелюбия, которое выражается даже пением по утрам в клозете, словом – из социального оптимизма, утопии двадцатых годов, еще не оббитой об острые углы жестокой реальности следующего десятилетия.
«Лицо» младшего брата – шрам под правой ключицей. «Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли».
Но «изнанка», спина говорит о другом. «Спина выдала все. Нежно желтело масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мною. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко располагались по туловищу прадеда валики жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку, – ту самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей» (ч. 1, гл. 3).
Взглянув на изнанку, А. Белинков увидел в красном брате совсем иной – но тоже социальный – тип: чванливого и злобного советского сановника, четвертого Толстяка, пришедшего на смену трем толстякам, посаженным в клетку в эпилоге сказки, написанной Олешей до «Зависти». «Андрей Петрович Бабичев – “один из замечательных людей государства” – главный Толстяк творчества Юрия Олеши» («Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша»).
Но в другом, старшем, брате с главным русским именем Иван от белого – лишь его приверженность к прошлому. Его образ строится в координатах уже не социального романа, а, скорее, сказки или притчи.
Братьев, кстати, как и положено в сказке, было трое. Но роли между ними распределяются необычно.
«Старшего звали Романом. Он был членом боевой организации и был казнен за участие в террористическом акте». Младший пошел по его стопам и в конце концов стал Толстяком, директором треста, советским хозяйственником.
Среднего ожидала иная судьба. «С детства Иван удивлял семью и знакомых». Рассказ о детстве этого героя строится как серия анекдотов о проделках хитрецов: мальчик то изобретает прибор заказных сновидений (но обещанный папаше – директору гимназии сон о римской истории по ошибке залетает к кухарке, после чего маленький экспериментатор был выпорот), то придумывает способ выдувания мыльных пузырей величиной с воздушный шар (и однажды такой шар появляется над городом, едва не доведя недоверчивого директора до инфаркта), то, мстя за влюбленного студента, к тому же пообещавщего подарить ему велосипед, выращивает колокольчик из бородавки тетки-разлучницы, и она до осени вынуждена скрываться от людей («Ужас! А просто отрезать цветок – это было бы слишком рискованно: все-таки бородавка! А вдруг заражение крови!»).
В сказке обычно неясно, что делать с двумя старшими братьями, они трудно отличимы друг от друга. Олеша сокращает обычную сказочную троицу до простой оппозиции и меняет двух оставшихся героев местами и функциями: его Иван-дурак оказывается не младшим, а средним – и не победителем, а побежденным.
В этом – сказочном, притчевом – сюжете младший брат оказывается уже не просто красным директором, а рационалистом, прагматиком, человеком дела и Системы, противопоставленным фантазеру, анархисту и диссиденту. Хотя средний брат закончил Политехнический институт в Петербурге и получил прозвище «механик», его истинным призванием становится совсем иное. «В тот год, когда строился “Четвертак”, Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера – просто позорным. Представьте, в пивных он рисовал портреты, сочинял экспромты на заданные темы, определял характер по линии руки, демонстрировал силу своей памяти, повторяя пятьсот любых прочитанных ему без перерыва слов. Иногда он вынимал из-за пазухи колоду карт, мгновенно приобретая сходство с шулером, и показывал фокусы».
Жизненным принципом нового Ивана-дурака становится бесполезное. Его историческими аналогами – не красные директора, как в случае Андрея, и не поэты – «ассенизаторы и водовозы» вроде позднего Маяковского (которого Олеша, кстати, нежно любил), а скорее обэриуты (которых Олеша, кажется, не знал) с их жизнью как театром, сумасшествием как нормой и культом бесполезного.
- Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях:
- О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос,
- Хвала том, кто предложил печати ставить в удостоверениях,
- Кто к чайнику приделал крышечку и нос. <…>
- Вы математики, открывшие секреты перекладывания спичек,
- Вы техники, создавшие сачок – для бабочек капкан,
- Изобретатели застежек, пуговиц, петличек
- И ты, создатель соуса-пикан!
- Бирюльки чудные – идеи ваши – мне всего дороже!
Эту «Хвалу изобретателям» Н. Олейникова вполне мог произнести Иван Бабичев!
Символическим контрастом рационально-безличному «Четвертаку», «машине для питания», оказывается придуманная Иваном другая машина, «лгунья, пошлячка, сентиментальная негодяйка», названная именем Офелии, девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния. Любопытно, что обе машины оказываются проектами, фикциями, симулякрами: «Четвертак» еще будет построен, Офелия возникает в снах героев как бесплотная греза, фантазия.
В яростных инвективах Ивана исходный конфликт «Зависти» еще раз обобщается: речь идет уже не о столкновении людей или идей, а о разломе эпох – проблематике Достоевского, Соловьева, символистов. «Кончается эпоха, – декламирует “новый проповедник”. – Они жрут нас, как пищу, – девятнадцатый век втягивают они в себя, как удав втягивает кролика…» Поэтому Офелия – «ослепительный кукиш, который умирающий век покажет веку рождающемуся».
В «Зависти» уже не решается еще актуальный для середины двадцатых годов вопрос «принимать или не принимать?» Революция, новый мир – вполне по Марксу, но также и по Блоку – вписываются в мировую историю как необходимость и неизбежность. «Эра социализма создает взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души».
Но осознавая это, Иван не смиряется. Он хочет «встряхнуть сердце перегоревшей эпохи». Он готовит «мирное восстание», «заговор чувств», объявляя себя его вождем. «Вот я стою на высотах, озирая сползающуюся армию! Ко мне! Ко мне! Велико мое воинство! Актерики, мечтающие о славе. Несчастные любовники! Старые девы! Счетоводы! Честолюбцы! Дураки! Рыцари! Трусы! Ко мне! Пришел король ваш, Иван Бабичев! Еще не настало время, – скоро, скоро мы выступим… Сползайся, воинство!» (ч. 2, гл. 2).
Нина Берберова увидела в «Зависти» переплетение драмы и иронии, музыкальности и гротеска. Этот и подобные монологи Ивана балансируют на тонкой грани. Они произносятся то перед случайными посетителями пивных, под копытный стук кружек, то под окнами квартиры брата-удачника, то на допросе в ГПУ, куда возмущенный младший Андрей однажды отправляет Ивана. Их ироническая составляющая несомненна. Но она сочетается с лирической безудержностью, эмоциональным напором, чувством поэтической правоты.
Ирония восстанавливает то, что разрушает пафос? Однако в эпохи тотальной иронии пафосу приходится защищать то, на что покушается ирония.
В сползающейся армии о которой грезит Иван, в одном строю оказываются несчастные любовники и старые девы, рыцари и дураки. В другом пивном монологе прием смысловой интерференции повторяется: «Убивающий из ревности, или ты, вяжущий петлю для самого себя, – я зову вас обоих, дети гибнущего века: приходите пошляки и мечтатели, отцы семейств, лелеющие дочерей честные мещане, люди, верные традициям, подчиненные нормам чести, долга, любви, боящиеся крови и беспорядка, дорогие мои – солдаты и генералы – двинем походом! Куда? Я поведу вас» (ч. 2, гл. 2).
Мечтатель и пошляк – идущие в одном строю воины уходящего в прошлое века. И себя Иван называет «королем пошляков».
Битва с новым миром идет даже за слова. «Его врагом была пошлость», – объявил когда-то Горький главную чеховскую тему. Под знаком борьбы с пошлостью, отождествляемой то с пережитками прошлого, то с буржуазными предрассудками, то с естественными жизненными нормами проходит едва ли не вся советская эпоха. Пошлость, мещанство – понятия, несущие только отрицательные коннотации. И как-то забывалось, что мещане в другой эпохе были просто городским сословием, а пошлый определялось у Даля не только с пометкой ныне: избитый, общеизвестный и надокучивший, вышедший из обычая; неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, подлым, площадным; вульгарный, тривиальный, – но и с пометкой старинное: давний, стародавний, что исстари ведется; старинный, древний, ис(спо)конный.
Пошлый парень и пошлая девка там же, у Даля, со ссылкой на московский говор обозначали дошлый, зрелый, возмужалый, во всех годах.
«Наверно, я мещанка», – сокрушается скучающая по уехавшему мужу героиня Андрея Платонова. «Ну какая ты мещанка! Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться: те хорошие женщины были…» – ставит ее на место отец («Фро»).
Пошляки – «носители упадочных настроений», старых человеческих чувств, подлежащих уничтожению – «…жалости, нежности, гордости, ревности, любви – словом, почти всех чувств, из которых состояла душа человека кончающейся эры».
В качестве наглядного примера гения (или беса) уходящего чувства Бабичев-старший называет: «Николай Кавалеров. Завистник».
Кавалеров – создание Ивана Бабичева, его ученик и последователь, хотя он появляется в романе раньше и знакомится со старшим братом лишь в конце первой части.
Этот третий (и главный) герой «Зависти» – ровесник века (и самого автора). Завистник – столь же своеобразная его характеристика, как именование Ивана Бабичева «королем пошляков».
Заглавие романа многозначно, метафорично, его нельзя просто отыскать в словаре, оно вырастает из насыщенного культурного контекста.
У Олеши, если ориентироваться на обобщенно-философское название, есть прямой предшественник. «Зависть» – сохранившееся в черновиках заглавие «Моцарта и Сальери» (1830). «А ныне – сам скажу – я ныне Завистник. Я завидую глубоко, Мучительно завидую…»
«В первое представление “Дон Жуана”, в то время, как театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, – раздался свист; все обратились с изумлением и негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы в бешенстве, снедаемый завистью… Завистник, который мог освистать “Дон Жуана”, мог отравить его творца», – добавлял Пушкин через два года в заметке-примечании.
Однако в другом месте Пушкин мог заметить, что зависть – сестра соревнования и, следовательно, тоже хорошего роду.
В пушкинских текстах, таким образом, есть два вроде бы взаимоисключающих, но на самом деле взаимодополнительных определения «Зависти». Зависть может быть беспощадно-разрушительна, но может оказаться и конструктивно-созидательной, «хорошего роду».
«Зависть в романе Юрия Олеши это лишь условное название очень широкого круга чувств, состояний, отношений, коллизий. В романе Юрия Олеши завистью называются разные вещи. Но чаще всего завистью называется неудовлетворенная жажда справедливости» (А. Белинков).
Амбивалентность, противоречивость Кавалерова подчеркнута уже в сцене знакомства с Иваном. «– Таким образом, наша судьба схожа, и мы должны быть друзьями, – сказал Иван, сияя. – А фамилия Кавалеров мне нравится: она высокопарна и низкопробна.
Кавалеров подумал: “Я и есть высокопарный и низкопробный”».
В отличие от братьев, Кавалерову не дано индивидуальной биографии и конкретных примет. Упомянуты лишь какие-то унижения, молодость, которую герой не успел увидеть, его собачья жизнь (ч. 1, гл. 11). Кавалеров сделан по обобщенной модели героя идеологического романа – молодого человека девятнадцатого столетия, по ошибке попавшего в другую страну и другую эпоху («Не тот это город и полночь не та»).
Герой мечтает о посмертной славе – как в прежнем мире, как на западе – о памятнике в музее восковых фигур, добытом даже ценой страшного преступления, но люди видят в нем комика, второго Ивана, сочиняющего стишки для эстрадников.
Он мгновенно, с первого взгляда, влюбляется в дочь Ивана Бабичева Валю («Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев»), но в финале оказывается любовником стареющей вдовы – торговки Анечки Прокопович, которую боится и ненавидит («Она не сопротивлялась и даже открыла объятия. – Ах ты поползенок, – шептала она, – ишь ты поползенок»).
Кавалеров кажется Ивану высшим, символическим воплощением погибающей эпохи: «…да, зависть. Тут должна разыграться драма, одна из тех грандиозных драм на театре истории, которые долго вызывают плач, восторги, сожаления и гнев человечества. Вы, сами того не понимая, являетесь носителем исторической миссии. Вы, так сказать, сгусток. Вы сгусток зависти погибающей эпохи… Хлопните, как говорится, дверью. Вот самое главное: уйдите с треском. Чтоб шрам остался на морде истории…»
Однако хлопанье дверью и шрам на морде мачехи-истории оказываются фикцией, несбыточной мечтой. Иван и Кавалеров побеждают только в рассказанной Бабичевым «Сказке о двух братьях» (ч. 2, гл 6). В ней Офелия, превращая «каждую цифру в бесполезный цветок», разрушает здание «Четвертака», над миром восходит старая, как мир, подушка, символ домашнего очага («Вот подушка. Герб наш. Знамя наше. Вот подушка. Пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя…»), и умирающий Андрей преклоняет главу перед победителем.
«– Пусти меня на подушку, брат, – шептал он. – Я хочу умереть на подушке. Я сдаюсь. Иван…
Я положил на колени подушку, он приник к ней головой.
– Мы победили, Офелия, – сказал я».
В романной реальности торжествует как раз идея младшего брата. Не Андрей, а Иван оказывается у ног дочери, признавая свое поражение.
«Иван обхватил ее ноги, свисающие со стены.
– Валя, выколи мне глаза. Я хочу быть слепым, – говорил он, задыхаясь, – я ничего не хочу видеть: ни лужаек, ни ветвей, ни цветков, ни рыцарей, ни трусов, мне надо ослепнуть, Валя. Я ошибся, Валя… Я думал, что все чувства погибли – любовь, и преданность, и нежность… Но все осталось, Валя… Только не для нас, а нам осталась только зависть… Выколи мне глаза, Валя, я хочу ослепнуть… Он скользнул по потным ногам девушки руками, лицом, грудью и тяжко шлепнулся к подножию стены.
– Выпьем, Кавалеров, – сказал Иван. – Будем пить, Кавалеров, за молодость, которая прошла, за заговор чувств, который провалился, за машину, которой нет и не будет…» (ч. 2, гл. 7).
Финальная сюжетная точка – превращение зависти и ревности в равнодушие и покой. Бунтари и мечтатели, участники заговора чувств, два смешных чудака-поэта оказываются в одной постели вдовы Прокопович.
«Иван сидел на кровати, похожий на брата своего, только поменьше. Одеяло окружало его, как облако. На столе стояла винная бутылка. Иван хлебал из стакана красное вино. Он недавно, видимо, проснулся; лицо его еще не выровнялось после сна, и еще сонно почесывался он где-то под одеялом.
– Что это значит? – задал Кавалеров классический вопрос.
Иван ясно улыбнулся.
– Это значит, мой друг, что нужно нам выпить. Анечка, стакан!
Анечка вошла. Полезла в шкаф.
– Ты не ревнуй, Коля, – сказала она, обняв Кавалерова. – Он очень одинокий, такой же, как ты. Я вас обоих жалею.
– Что это значит? – тихо спросил Кавалеров.
– Ну, чего заладили, – рассердился Иван. – Ничего не значит.
Он слез с кровати, придерживая исподнее, и налил Кавалерову вина.
– Выпьем, Кавалеров… Мы много говорили о чувствах… И главное, мой друг, мы забыли… О равнодушии… Не правда ли? В самом деле… Я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будем равнодушны, Кавалеров! Взгляните! Мы обрели покой, мой милый. Пейте. За равнодушие. Ура! За Анечку! И сегодня, кстати… слушайте: я… сообщу вам приятное… сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!» (ч. 2, гл. 12).
В финале, как и в заглавии, можно усмотреть иронический парафраз пушкинского мотива. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит… На свете счастья нет, а есть покой и воля…» – «Мы обрели покой, мой милый. Пейте. За равнодушие. Ура!»
Система основных персонажей «Зависти» отчетливо геометрична. Ивану противостоит Андрей, Кавалерову – Макаров, Вале – Анечка. И персонажи в этом шестиугольнике четко сгруппированы по признаку новое – старое, век нынешний и век минувший.
Володя Макаров – приемный сын и спаситель Андрея – представлен в фабульной части романа как «совершенно новый человек». Зависть и равнодушие, оказывается, свойственны и ему, но в особом, неожиданном повороте : «Я – человек-машина… Я превратился в машину. Если не превратился, то хочу превратиться… Я хочу быть машиной… Хочу стать гордым от работы, гордым – потому что работаю. Чтоб быть равнодушным ко всему, что не работа! Зависть взяла к машине – вот оно что! Мы же ее выдумали, создали. А она оказалась куда свирепее нас. Дашь ей ход – пошла. Проработает так, что ни цифирки лишней. Хочу и я быть таким».
В этих машинных грезах, правда, тоже немало иронии. Володя любит не только машины, но и Бабичева, и Валю. Он умеет ненавидеть и презирать. У него есть и человеческий идеал: «Я буду Эдисоном нового века».
Имя американского изобретателя тоже знаково. Оно комментируется дневниковой записью Олеши, сделанной через три года после сочинения «Зависти». «Эдисон! Восемьдесят лет Эдисону. То есть он родился, когда жил Гоголь. То есть – освобождали крестьян, убили Александра II, Нечаев сидел в бастионе, Гаршин падал в пролет лестницы, Тургенев писал, Достоевский, Толстой были молоды – сколько всего, какая давность! – сколько начал и крахов, сколько исторических линий, какая архитектура истории, история всей русской интеллигенции – и затем дальше – вот уже последние годы: Ленин, революция, смерть Есенина и смерть Маяковского – опять грандиозный камень этой архитектуры – и все время живет и работает Эдисон, давший всему миру – от Александра II до Маяковского, который застрелился – электрическую лампу, телефон, трамвай…
Мы были Гамлетами, мы жили внутри; Эдисон был техник, он изобретал – всему миру, всем одинаково, вне обсуждения правильности или неправильности наших взглядов на жизнь, не замечая нас, не интересуясь нами».
И здесь, в той же записи, снова поставлены ключевые для «Зависти» вопросы: «Что же изменилось и что не изменилось? Что же призрачно и что реально? Почему же электрическая лампа не внесла никакого порядка в человеческую душу? Сколько же надо времени – веков! – чтобы техника изменила психику человеку, если она вообще может ее изменить, как говорят об этом марксисты!»
Что это напоминает?
«Ну что же… они люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…»
«В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет».
Булгаков, Ильф, Олеша в двадцатые годы при всех их различиях думают в одном направлении: допуская технократическую утопию – роковые яйца, радио, «Четвертак» – сомневаются в возможности переделки человеческой природы.
Иван Бабичев и Николай Кавалеров, кажется, проигрывают по всем азимутам, сдаются, превращаются в приживалов по-сологубовски ужасной бабищи-жизни. Но выбор между Гамлетом и Эдисоном – вопреки однозначной очевидности финала – в «Зависти» так и не сделан.
В. Шкловский бросил проницательное замечание, сразу же, впрочем, превратив его в упрек автору: «Так как стиль вещи связан с Кавалеровым, а не с Андреем Бабичевым, то героями вещи являются Кавалеров и Иван Бабичев, так как на их стороне стилистическое превосходство вещи. Неправильное, невнимательное решение основного сюжетного вопроса, несовпадение сюжетной и стилевой стороны испортили очень хорошую прозу Олеши».
А Н. Берберову нисколько не смутил внешне абсолютно верноподданический советский пафос вещи, потому что она читал книгу правильно, выдвигая на первое место не фабулу, а авторскую интонацию, закономерно вспоминая при этом имя Андрея Белого.
Олеша близок Белому и вообще литературе модернизма не стилистически (хотя один мотив в монологах Ивана Бабичева кажется прямой цитатой из «Петербурга»: кони революции гремят по черным лестницам и врываются в кухни обывателей точно так же, как с тяжелым грохотом поднимался к сумасшедшему Дудкину на шестой этаж Медный всадник) а композиционно.
В «Зависти» отсутствует линейная, вытянутая в ниточку («почему – потому») причинно-следственная фабула. Сюжет вещи строится на свободном «кубистском» монтаже фрагментов – с забеганием вперед и возвращением назад, включением огромных писем Кавалерова и Володи, вставной «Сказки о двух братьях», пространных снов героя.
Доминирование фрагмента над целым, автора над героем-марионеткой – общий принцип модернизма. Олеша использует его уже без полемического нажима, как рабочий прием.
Поэтому, между прочим, беспощадный по отношению к центральным героям старого мира финал («…сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой…») не имеет окончательной разрешающей силы. По ходу текста автор предлагает другие варианты, не менее эффектные и по-своему оправданные.
«Сказка о двух братьях» (ч. 2, гл. 6) кончается, как мы видели, торжеством «заговора чувств» («Мы победили, Офелия, – сказал я»).
В сне героя в предпоследней главе на том же самом месте, возле построенного сияющего «Четвертака», отыгрывается другой мотив: бунт машины против своего творца. «Кавалеров поднялся и полным отчаяния голосом закричал: – Спасите его! Неужели вы допустите, чтоб машина убила человека?! – Ответа не последовало. – Мое место с ним! – сказал Кавалеров. – Учитель! Я умру с вами! Но было уже поздно. Заячий вопль Ивана заставил его свалиться. Падая, увидел он Ивана, приколотого к стене иглой» (ч. 2, гл. 11).
Гротескной трансформацией того же самого мотива («Почему же электрическая лампа не внесла никакого порядка в человеческую душу?») оказывается короткий сон Андрея, только что подобравшего Кавалерова и поселившего его на месте Володи: «Хозяин отошел ко сну в благодушии: диван не пустовал. В ту же ночь ему приснилось, что молодой человек повесился на телескопе» (ч. 2, гл. 5).
По методу гэгов, микроновелл сделаны многие главы и куски «Зависти». Причем сюжетная фрагментарность оборачивается и принципом стилевым.