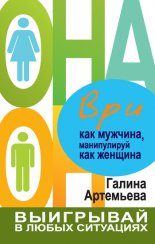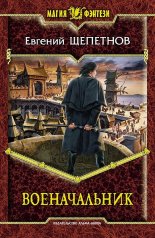Учитель цинизма Губайловский Владимир
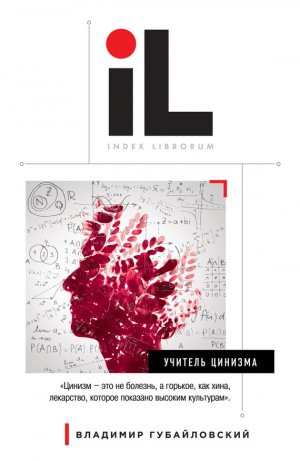
Пришло время заканчивать мою богадельню. Последние полгода я почти ничего не делал. Переживал очень по поводу своей несчастной любви. Стихи писал кубометрами. Очень хорошие, не хуже «Облака в штатах» и на ту же тему: «Я выхожу замуж». Да ведь она и так замужем. Где они, эти стихи? Да хер с ними.
Госы — государственные экзамены, последние, которые я сдавал в своей жизни. Их было два — по математике и по научному коммунизму. На мехмате был замечательный обычай. Билеты по госам разыгрывали заранее, и, приходя на экзамен, ты уже знал, какой билет тебе достанется. Секретарь комиссии тихонечко спрашивает: «Какой билет?» Ты одними губами отвечаешь. Она аккуратно так приподнимает билеты один за другим, находит нужный и показывает. Ты его, родной, берешь. И громко объявляешь. Все делают вид, что ничего не замечают. Делалось это по понятным причинам — чтобы двоек не было. Двойка на госе — это всем жуткая головная боль. А так все вроде хорошо. Я был настолько занят своими неотложными делами, что даже на розыгрыш билетов прийти не удосужился — за меня Шура тянул.
На математике знать билет еще не все, потом тебя по всему огромному курсу серьезно погоняют. А вот научный коммунизм… У нас в группе учился немец Вернер Хоффман из ГДР. Очень толковый парень — из лучших в группе. Но он же был парторгом немецкого землячества — то бишь немцев университетских — они все состояли членами СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии — если кто вдруг забыл), других на мехмат не посылали. Такие немцы строгие. И вот наш прямоугольный как шпала Вернер заявил, что он билет разыгрывать отказывается, а будет учить и сдавать весь курс. Ему чутко так объяснили: ты-то учи, это твое дело, но билет, будь добр, тяни заранее, как все, и на экзамене его отвечай. Ведь если один идиот откажется, так что же, всем, что ли, в этот непроходимый бред погружаться с головой?
В общем, обломали его. И поступил он совершенно бесчестно, пошел на поводу у растленного советского студенчества.
А если бы отказался? Разговор происходил в аудитории на 14-м этаже. Этажи в ГЗ метров по 4–5 (не считая первого, который метров 10), значит, аудитория находится метрах в 80 над землей. Внизу — гостеприимный мрамор. Взяли бы юного Вернера добрые люди, заломили руки за спину, добавили коленом по челюсти, чтобы особо не вякал, распахнули окно пошире… Девушки бы потупились. Кто-то уронил бы скупую слезу. Но никто даже из самых жалобных не возвысил бы голос в защиту нарушителя конвенции. Все понимали — такой грех карается только смертью. Потому что если он мертв, то на экзамен точно не придет и чужого билета не вытащит. А ничто другое этого не гарантирует.
И отправился бы бедный Вернер в короткий полет, и обнял мраморные плиты, и погиб во славу научного коммунизма. И никто никогда не узнал бы, как окончил свой путь последний подлинный ленинец. «Орленок, орленок, тряхни опереньем». «Эх, коротки крылышки!» «Мы жертвою пали в борьбе роковой». Короче — вечная память.
А я встретил Олёну, и у нее оказался тот же билет, что и у меня, — она училась в другой группе и экзамен уже сдала. И она отдала мне свои научно-коммунистические шпоры. Первый вопрос я не помню, а второй был — речь Л. И. Брежнева на каком-то съезде комсомола. Шпоры-то я забрал, но даже заглянуть в них не удосужился — впервые увидел их на экзамене. Кое-как списал. Но отвечал не очень уверенно — попросту взгляд не мог оторвать от листочка. И тогда мне задали коварный дополнительный вопрос: «Скажите, а как относится итальянская коммунистическая партия к помощи Советского Союза братскому Афганистану?» Ответ я знал, поскольку аккурат накануне экзамена весьма внимательно слушал «Голос Америки», где подробно комментировали речь итальянского генсека Энрико Берлингуэра. Ну что ж, думаю, спрашиваешь — получи: «Осуждает, — говорю, — итальянская компартия нашу братскую помощь и жестко критикует. Называет агрессией против суверенной страны». И думаю: «Что будет?» А экзаменатор кивает: «Правильно». И ставит мне «хор». Так и получилось, что вся моя подготовка к государственному экзамену по научному коммунизму свелась к прослушиванию «Голоса Америки».
Математику я сдал хорошо. Но тоже без чудес не обошлось. Гос мы сдавали именно по математике — то есть нужно было припомнить чуть ли не все дисциплины, которые нам читали на трех первых курсах, а это довольно много. Я собрал книги и поехал домой, к родителям. И там, вместо того чтобы валять дурака, очень внимательно все билеты проштудировал. Времени было на это две недели. И кажется, никогда я так интенсивно не занимался. Мне было интересно и несколько странно, поскольку те проблемы, с которыми я сталкивался, когда приходилось эти курсы сдавать, теперь почему-то решались сами собой, и все выстраивалось в очень красивую, строгую схему. Я тогда подумал, вот если бы я учился на мехмате не пять лет, а семь и все экзамены сдавал на последнем курсе — так же как, например, Михаил Булгаков в своем меде, я был бы, наверно, чуть ли не круглый отличник. Что-то такое перещелкнуло к пятому курсу. Может, голова выросла — в смысле увеличилась в размерах. Голова-то долго растет, лет до 20. А может, мозги перестроились — в смысле нейронные сети. Они ведь весьма подвижная, адаптивная структура.
На экзамене я отвечал уверенно и не только свой билет, его-то уж я знал как надо, но и другие вопросы — и задачи решал одну за другой, и экзаменаторы кивали головами исключительно одобрительно. Но потом я немного сбился на теории комплексных переменных. И мне сказали: ну ладно, достаточно. И решили они мне поставить четверку. Но, заглянув в мою зачетку, несколько растерялись — там троек больше половины. Как же так? Учился на тройки, а гос чуть ли не на пять сдает? Дальше было совсем весело. Они меня отпустили с экзамена, но, так сказать, временно. Я пошел курить спокойный, как слон. Мне действительно было пофиг, что они там решат. И вот зовут меня. Пригласили, значит, в помощь нашего профессора по этим комплексным переменным Миллионщикова. Он и говорит: «У вас трудности возникли с моим предметом. Вот вычислите этакий интеграл по контуру». Я беру мел и так сурово вычисляю все вычеты, получаю результат и говорю: «Ноль». Миллионщиков спрашивает: «А нельзя было вычислить этот интеграл проще?» — «Ну конечно можно, — радостно сообщаю я, — нужно применить преобразование Кельвина, и тогда сразу получим ноль». — «А почему вы так не сделали?» — заинтересованно так смотрит на меня профессор. «Ну, если бы я так сделал, вы бы не увидели, как я здорово умею вычеты считать», — нагло отвечаю я. Миллионщиков улыбнулся. Поставили они мне мою четверку и отпустили с миром. На все четыре стороны. На свободу. Куда глаза глядят. В пустоту.
Стоим в «Тайване». А за соседним столиком ребята знакомые с нашего курса. Тоже отмечают. Мы столы сдвинули. Праздник. А потом взяли портвейна ящик. Целый ящик. Никогда ни до, ни после я целый ящик портвейна не покупал.
65
Май был жаркий. Душный. Тяжелый. И в какой-то перерыв между своими занятиями я решил навестить Аполоныча. Пришел. Стучусь. Он открыл не сразу и вместо «здрасте» и разговоров про филистеров, которым лень пол подмести за своими друзьями, рассеянно пробормотал: «А, это ты…» И ушел на кухню. Ну вот, думаю, интересные дела, что-то мне здесь не шибко рады. Захожу на кухню следом. И чувствую: что-то не то, что-то не так.
Сел к столу и начал бояться. А бояться было чего. Дима на меня совсем не смотрел. Он смотрел в окно, потом резко поворачивался и застывал, сосредоточившись на чайнике с позавчерашней заваркой. Потом ушел в ванную и очень долго мыл руки. Когда он вернулся, они были красные, как клешни. Потом он наклонил голову к правому плечу и стал столь же внимательно, как прежде на чайник, смотреть на меня. Я засомневался, понимает ли он, что перед ним живой человек, и отличает ли живое от неживого. Наверное, все-таки отличал, поскольку в ответ на мой невинный вопрос: «Как поживаешь в законном браке?», Дима взорвался: «А-а-а-а, завидуешь! Знаю, знаю, зачем ты явился, ты хочешь меня зарезать столовым ножом, отрезать голову и схоронить в мусорном баке. А когда Галя вернется из своей Костромы, ты прикинешься мной и станешь ее соблазнять и пить у нее ночами кровь. Она, конечно, не догадается, только будет, бедная, бледнеть день за днем, пока не загнется, а ты поселишься в этой квартире — это же и есть твоя цель, ты же всегда мне завидовал, что у меня есть жилплощадь, а у тебя нет ничего». Тут я немного успокоился. Ну бред, ну и пусть себе. «Нет, Дима, так долго я ждать не буду, я сразу голову откушу, сначала тебе, а потом ей. Мне, знаешь, ждать особо некогда — мне надо морально разлагаться, коснея в патриархальности, пьянстве и разврате. А зубы у меня великолепные, как раз чтобы позвонки перегрызать и яремные вены перекусывать». На Диму моя тирада подействовала неожиданно умиротворяюще: он пощелкал челюстями, как будто пробуя их на прочность и готовясь к решающей схватке на зубах. Я закурил и совсем расслабился. Не то чтобы мне стало спокойно, но и бояться наскучило. Торжествовало всепобеждающее любопытство.
Кухня выглядела совершенно обычно. Исцарапанный и изрезанный по краям стол. Грязное окно — одна створка была открыта и поэтому другая на контрасте выглядела как мутное бельмо. Кухонный шкафчик — почти пустой — открыт. Там стояли две чашки. Какие-то жестяные банки, в которых, вероятно, когда-то хранились крупы, может быть, щепотка гречки там и сейчас пересыпается на донце, почерневшая и окаменевшая, как тысячелетняя пшеница из раскопа. Смятая упаковка из-под чая. Газовая плита, заляпанная пятнами неясного происхождения — то ли каша убежала и, не в силах сползти на пол, присохла, то ли яичницу решили приготовить не на сковородке, а прямо на плите. Раковина грязная настолько, что даже я, при всей моей любви к енотополоскунству, не смог бы ее отдраить. Галя, наверное, уехала давно. Или она относится к порядку и чистоте с тем же безразличием, что и Дима.
Единственное, пожалуй, что несколько нарушало торжество распада, — пустое цинковое мусорное ведро, стоявшее посреди кухни. Оно было чисто вымыто.
Дима присел на табуретку. Тут же встал. Наполнил чайник. Поставил на газ. Закурил сигарету «Дымок», сделал две быстрые затяжки. Ткнул сигарету в переполненную окурками глубокую тарелку. Снова присел. Бросил на меня взгляд. Встал. Его как будто изнутри что-то толкало. Он совершал четкие выверенные движения, в них не было случайности, не было хаоса. В них была механическая повторяемость. Он не мог удержать себя на месте. Так ведет себя не человек, а марионетка. Только кукловод был не снаружи, а внутри. Дима пытался с чем-то совпасть. И не мог.
Он снова присел. Закрыл глаза и, кажется, на мгновение задремал. Но тут же очнулся и посмотрел на меня испуганно:
— Мне нельзя спать. Совсем. Нельзя.
— Да, выглядишь ты не лучшим образом.
— Они приходили, — прошептал Дима и показал указательным пальцем в пол.
— Соседи снизу?
Дима поморщился и ничего не ответил. Встал. Погасил газ под закипевшим чайником. Переставил чайник на стол. Взял в руки чашку и опять сел на табуретку.
— Они мне все объяснили. Сказали, что вернутся за мной.
— Дима, ты бы поспал. А когда Галя приедет?
— Не знаю. Не помню. Не важно. Ее они не тронут.
— Что, соседи «скорую» вызывали?
Дима ничего не ответил. Теперь он не отрываясь смотрел в пол, как будто пытался что-то разглядеть прямо сквозь бетон.
— Но ничего, ничего. — В его голосе вдруг возникло странное торжество. — Ничего они не получат! Все сохраню! Все, что осталось, сохраню. Ничего не получат.
Я налил в нечистую чашку кипяток. Есть ли в доме заварка, спрашивать бессмысленно. Дима сидел на табуретке, едва заметно для глаза покачиваясь взад-вперед.
— Ничего не получат.
Я прихлебывал кипяток. Самое странное, что мы сидели молча. Такого не случалось никогда. Дима, вместо того чтобы развешивать у меня на ушах свои бесконечные и безначальные теории, сидел, прикрыв глаза. Руки сложены на коленях. Плечи опущены. Если взглянуть на него бегло — это была поза воплощенного покоя. И нужно присмотреться, чтобы почувствовать какое-то запредельное напряжение — в чуть подрагивающих ноздрях, или мгновенно дернувшемся уголке рта, или движении пальцев, как будто он хотел сжать кулак — и вдруг испугался, что кто-то заметит этот запрещенный жест, и раскрыл ладонь.
Кипяток остыл. Я подумал, что вообще-то мне пора валить, пока не случилось что-нибудь непредвиденное. Например, Дима вот посидит, посидит, а потом выльет на меня чайник кипятка, или табуреткой шарахнет, или изящным движением выкинет меня в окно — а здесь, как-никак, третий этаж, лететь прилично. Может, насмерть и не разобьешься, но все себе переломаешь — это точно.
А во время бреда, как я слышал, у человека, даже не очень сильного физически, откуда-то берутся немереные силы — становится человек прямо геркулесом. Этот эффект описал Лев Толстой, который заметил, что мать может медведя задушить голыми руками, если она защищает ребенка. Когда она забывает о себе, все ее силы оказываются направленными вовне, а этих сил у человека очень много, но они законсервированы, потому что сосредоточены на самом человеке, на его самозащите. Так действует инстинкт самосохранения. А в бреду человек себя теряет — его нет и защищать нечего, вот он и метелит окружающих. Вообще я не то чтобы слаб здоровьем, но с такими мистическими силами могу и не справиться.
Дима почти очнулся и спросил:
— Как там Аркадий?
Это было тоже неожиданно. Дима вообще-то ничем, кроме себя, никогда не интересовался. Он, наверное, мог бы и про Аркадия спросить, но в каком-то другом контексте, более увязанном с ним самим. Я пожал плечами:
— Одинаково. Мы сейчас все одинаково. Дипломы, госы. Кончилась лафа. Пора о чем-то подумать более существенном.
Дима смотрел на меня. Нет, уже не на меня, а мимо.
— Я помог ему выстроить пространство идей. Он теперь тоже слишком чуткий. Он опасен. За ним тоже придут. Я виноват. Следовало быть аккуратнее.
— Димочка, а за мной не придут часом? Я вас, болезных, так хорошо знаю. Может, чего от вас надышался?
Аполоныч болезненно скривился:
— Не беспокойся. И за тобой придут. Позже. Не сейчас.
— Вот спасибо, успокоил сироту.
И опять мы молчали. Я поставил чайник на газ. Согрел кипяток. Налил себе в чашку. И вообще вел себя по-хозяйски.
Дима закрыл лицо руками. И мне показалось, что он сейчас заплачет. Вот те нате. Нет, он не плакал, хотя, когда отнял руки, глаза были красные, но это, наверное, от бессонницы.
Я сидел и глядел на него. Он глядел в пространство, как флейтист. Мы оба глядели. Но видели разное.
Я видел кухню. И видел человека. Нестарого еще человека. Но уже разрушенного. Болезнью. Нищетой. И каким-то изливающимся из него не то огнем, не то гноем.
Дима посмотрел на меня так, будто увидел впервые:
— Ты что здесь делаешь?
— Я пью кипяток и курю сигарету «Астра». А ты?
Вместо ответа Дима вскочил и резко толкнул меня в плечо:
— А, подонок, пришел! Ничтожество, какое же ты ничтожество! Ты же ничего не можешь и ничего не смыслишь, ты бездарен и бессилен, за что только тебя Лиля полюбила. Даже великие женщины иногда делают ошибки, когда отпускают на волю инстинкт. Тогда им такие прощелыги и нравятся!
Я отнесся к Диминой тираде достаточно спокойно, но вот слово «прощелыга» меня задело, возможно, потому, что смысл его был мне неясен и подозревалось что-то крайне обидное и непристойное.
— Ты что! Опомнись! Я сейчас уйду и вообще дорогу к тебе забуду. Ты чего это руками размахиваешь!
Тут Дима вообще перешел на визг:
— А! Ты меня три года высасывал, как змея, весь интеллект, всю чистую энергию забрал. А я остался с черным отстоем. Нет уж, ты так просто не уйдешь!
Он схватил меня за руку и резко дернул к себе. Я упал на колени. Такой резвости я от Димы не ожидал. Я быстро поднялся, получил толчок в грудь и отлетел к стене. Но тут Дима потерял ко мне всякий интерес, сел на табуретку и задумался, сосредоточенно глядя в какую-то ему одному известную точку на забрызганном и покрытом потеками кафеле над плитой.
Я был настроен крайне решительно, но, посмотрев на Диму, вдруг опять смягчился и сказал:
— Все, прощай, Дмитрий Аполлонович, я пошел, а то работы много.
Он оглянулся и покачал головой. Он проводил меня до дверей и почти извиняющимся тоном сказал:
— Ну, ты вообще заходи, скоро Галя приедет, чаю попьем, поговорим о машине Тьюринга и реверберации геделевских номеров.
Я махнул ему рукой и сбежал по лестнице. Больше мы не виделись никогда.
Осенью я узнал от Гали, что Диму увезли еще до ее возвращения. Соседи вызвали психовозку, когда он вышел на улицу — ходил и раздавал детям свои рисунки. Дети плакали, пугались — то ли жутковатого Диминого вида, то ли его несколько недетских рисунков. Приехали санитары. Взяли его прямо на качелях. Даже двери в квартиру остались открытыми. Его забрали в Яковенко.
Галя его навестила, принесла одежду, зубную щетку, пасту, «Дымок» и большой апельсин. Он его съел прямо во время свидания. Весь соком заляпался. Он выглядел разбитым, но бреда уже не было. Он уже возвращался из далеких, только ему одному ведомых страшных странствий. Его должны были перевести из Яковенко в клинику на улице 8 Марта. Когда Галя приехала туда с передачей, ей сообщили, что во время переезда Дмитрий Аполлонович Никитин-Завражский, 1944 года рождения, скончался от асфиксии, которая наступила в результате попадания в дыхательное горло инородного тела. Попросту говоря, Дима подавился вареной картофелиной. В машине сопровождающего не было, а до водителя он достучаться не сумел. В больницу привезли уже труп.
Когда Галя мне все это рассказала, я встряхнул головой, отгоняя наваждение. Я не знал, что бывает такая смерть.
66
Самым знаменитым киником в истории был и остался Диоген Синопский. Он жил в бочке, точнее — в пифосе недалеко от Коринфа в IV веке до н. э. Питался тем, что подавали сердобольные граждане полиса. Работал — Диогеном, то бишь главной городской достопримечательностью — такой знаменитый городской сумасшедший.
Основателем кинической школы был не Диоген, а ученик Сократа — Антисфен. Впрочем, кажется, основатели всех философских школ в Греции были или учениками Сократа, или учениками его учеников. Сократ был подлинный киник. Платон его причесал, завил и заставил молотить языком о едином и многом. Сократ много пил, воевал, при осаде Амфиполя ходил босиком по льду. Зарабатывал на хлеб тем, что обтесывал мраморные глыбы. Иногда задавал окружающим детские вопросы.
Диоген, как всякий истинный киник, регулярно занимался безразличием — то есть мастурбировал прямо на площади при большом стечении народа. Когда его укоряли таким небрежением общественной пристойностью, он отвечал: «Вот кабы и голод можно было унять, потирая живот!»
Ничего достоверного мы о Диогене не знаем. Все эти байки придумал или записал с чужих слов другой Диоген — Лаэртский. А жил он чуть ли не на 500 лет позднее. Срок вполне достаточный, чтобы все исказилось до неузнаваемости. А сами киники жили как собаки и почти ничего не писали. Почему их называли философами, совершенно неочевидно, но совершенно очевидно, что они были именно философами.
Киник — это человек, который живет на границе культуры и тем самым подчеркивает ее бытие. Варвар не может быть киником, потому что ему нечего нарушать и опровергать. Его культура слишком конкретна. Варвары не понимают, почему какой-то тип поведения запрещен согласно установленным кем-то правилам, почему нужна целая свора о-о-очень дорогих лоеров, чтобы разобраться, кому принадлежат права на слово «iPhone». Варвары твердо знают, что нельзя бежать с поля боя, нельзя надругаться над могилой, нельзя обмануть доверившегося, но это так ясно, что не надо ничего объяснять — за нарушение просто карают смертью. Таким естественным жестом — отсечением гнилого члена — восстанавливается здоровье организма. (Конечно, при таких простых понятиях немудрено и невиновному голову оттяпать, случается под горячую руку. Страховка тут только одна: если судебная ошибка выяснится, голова обвинителя на плечах тоже задержится недолго.) А все остальное — разрешено.
Разрушать и подчеркивать можно только высокую культуру, которая строится на системе абстрактных понятий и развитых идеологий. Киник пробует эту систему на прочность, фактически он работает бритвой Оккама, но не как мыслитель, а как деятель: он точно знает, что логически безупречная теория может оказаться бессодержательной (более того, бессодержательная теория всегда логически безупречна) и потому философию следует поверять не другой философией, а прагматикой.
Киник испытывает систему на разрыв. Только то, что выдержит прагматическое испытание, имеет действительную ценность. Нужно ли такое испытание? Не очевидно ли, что жесткой проверки на необходимость не выдержит почти ничего, кроме элементарных животных желаний и потребностей? Нужно. Иначе мир зарастает словесным сорняком и покрывается сальным глянцем общих мест.
Кинизм — это радикальная критика, которая задает только один вопрос: «Зачем?» Не кантовский «Как это возможно?», не Декартов «Что я знаю достоверно?», а элементарный: «Зачем это нужно тебе?» Но задает его всегда. Любой другой ответ, кроме единственного — «чтобы выжить», не принимается. Чем более развита культура, тем необходимее кинический взгляд на нее. Неправда, что киники разлагают культуру, они ее очищают. Жванецкий говорил: «А пис ать, простите, как и п исать, надо, когда уже не можешь». Это — банальность. Но киники никогда не боялись банальностей. Писание может быть такой же необходимостью, как естественные отправления — «чтобы выжить». Человек, погубивший собственный дар — из-за несобранности и лени или в силу непреодолимых обстоятельств, — будет навеки отравлен гниением слов и смыслов. И обречен. Это трудная форма смерти.
Быть киником — это существовать на пределе человеческих возможностей. Опорой киника служит не изощренная систематика и логика, а самостояние свободного человека. Опора должна быть чистой и беспрекословной, иначе это не критика, а продажа. Только заняв независимую позицию вне высокой культуры, можно увидеть ее целиком и плюнуть ей в лицо.
Нельзя брать деньги.
Нельзя брать власть.
Нужно избегать славы.
Это — искушения. Они делают киника зависимым от социума, погружают его в социум, а значит, оплавляют твердость эталона и раскачивают отвес. Если я принимаю признание социума, значит, я уже не могу выступать его судьей.
Идеальный кинизм невозможен, потому что, живя на границе культуры, ты неизбежно идешь с ней на компромисс. Оторваться от культуры нельзя: ты можешь говорить с ней только на ее языке. Тишина существует как пауза, иначе — это глухота. Киник непоследователен. Но собственную философскую нечистоту он тоже принимает кинически. Грязь нужна, чтобы у тебя не возникло желания счесть себя самого чем-то достойным внимания, уважения, восхищения, бессмертия.
Все не могут быть киниками и не будут. Бояться этого нечего. Людей, способных на такое самоотречение, не бывает. Почти не бывает.
Главная философская заповедь, которую киники безнадежно пытались вбить в головы современников и потомков: нельзя себя любить, нужно относиться к себе безжалостно. Если не думать о себе, если освободиться от лишнего — а почти все при ближайшем рассмотрении оказывается лишним, — можно приблизиться к истине. Как говорил Венечка Ерофеев — подлинный киник XX века: «Я не хочу сказать, что я познал истину, но я приблизился к ней на такое расстояние, с которого ее наиболее удобно рассматривать». Именно рассматривать. Не познавать, а всего лишь рассматривать. Это — философское смирение.
Впрочем, и киники не были чужды лести сильным мира сего. Когда к Диогену подошел Александр Македонский и сказал: «Проси у меня чего хочешь», философ ответил: «Не заслоняй мне Солнца». Кто может заслонить Солнце? Только тот, кто сравним с Солнцем. Властелину полумира вряд ли доводилось слышать похвалу слаще, чем та, которую преподносит свободный человек и делает это ворчливым и независимым тоном, к тому же в столь наглой форме. Но зачем это нужно было Диогену? Может быть, ему просто стало страшно? И Александр на самом деле закрыл ему Солнце? Не то, которое на небе, а то, которое освещает разум. Лучше я буду думать, что это позднейший апокриф.
Я отказываюсь проводить границу между кинизмом и цинизмом. Кинизм — это цинизм, покрытый благородной патиной времени. Последовательный циник и сегодня — киник.
«И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, собравшиеся на улицах, говорили:
— Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!
Ни единый человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов.
— Да ведь он голый! — закричал вдруг какой-то маленький мальчик».
Подлинный циник — не король, он всего лишь капризный дурак и пленник этикета, не портные — изобретательные мошенники. Подлинный циник — невинный младенец, закричавший: «Да ведь он голый!»
Цинизм — это не книжки. Эта веселая наука пишется кровью и слезами, сульфазином и галоперидолом, петлей и бритвой. Истинные адепты этой науки стоят и просят, чтобы им купили бутылку водки, потому что их в магазин не пускают — пахнут они неприятно. Или умирают от инфаркта в больничном коридоре.
Цинизм — это не философия, и именно поэтому это единственная возможная сегодня философия. Когда вскрытие уже все показало.
Не обязательно мастурбировать на Красной площади, не обязательно рисовать член длиной в целый мост… Это — внешние вещи. Они допустимы как некоторая агитационная деятельность, как акция несогласия. Но дело не в этом. Нужно встать на краю и переступить за край. Кому-то повезет, и он вернется, но только для того, чтобы опять попробовать. Эстетическая работа кончается там, где она кончается, и уже невозможно ее отличить от самоповтора. От пустоты — то есть от небытия. Небытие многогранно — оно может себя показать и как изысканное, снобистское, самодовольное и самовлюбленное творчество. Цинизм — это не болезнь, а горькое, как хина, лекарство, которое показано высоким культурам.
Это все нельзя написать. Это можно только прожить. День за днем. Час за часом. На границе культуры и варварства, гармонии и распада, жизни и смерти, наконец.
Я не циник, а только учусь.
Как говорил Боконон: «Я никогда не следую собственным советам, я знаю им цену».
67
Сентябрь. Желтые листья. Еще зеленая трава. Белорусский вокзал. Платформа. Мы едем на слет.
Рюкзаки. Гитары в чехлах. Подходят люди в штормовках. Приветствуют друг друга. Хлопают по плечам. Говорят о других другах. Кто приедет сегодня, кого задержали в городе неотложные дела, кто будет только к ночи. Юноши курят дешевые сигареты. Девушки курят сигареты подороже, но тоже, положа руку на сердце, говно. Никого это не смущает. Все немного возбуждены.
Это самое лучшее время — дорога на слет. Когда все еще полны сил, все трезвы. Впрочем, вон в том кружке уже появилась и пошла по рукам фляжка, наверно с водочкой, судя по тому, как морщатся девушки, когда к ней прикладываются. А как же не прикладываться, если это чаша дружбы? Отказаться нельзя, да, честно говоря, и не хочется. Куда мы сегодня едем? Наверное, в Скоротово или в Перхушково. Да какая разница? Главное — едем. Нас ждет настоящий праздник, мы встречаем друзей. Мы ждем нечаянных встреч. Мы ждем небывалых открытий.
После летних разъездов многие давно не виделись. Как вы? Где вы? Стопом? На Золотом пляже? Как сплав? Карелия? Алтай? Кавказ? Хибины? Шуя? Чуя? Храми? Риони?
Платформа постепенно заполняется людьми. Подходит электричка. Кто-то уже расчехлил гитару, и уже что-то бодро-лирическое зазвучало: «А мне б хоть раз в году взглянуть, а мне б хоть раз в году шагнуть на эту тесную дрожащую площадку и за собой туда втащить мой крепкий старенький рюкзак, в котором котелок лишь да палатка».
Народ рассаживается по вагону. Веселье крепчает. Фляжечка опустела. Появилась вторая. Молчанов в своем вечном дождевике. Настоящий романтический герой. Весь в кудрях и мировой скорби. Милый мой, сколько ж мы не виделись? Мелькают станции. Скоро выходить. Путь вроде неблизкий, а за мудрой беседой с друзьями и подругами проходит незаметно. Пускай нас сегодня не тронут контролеры. Пускай все будет спокойно. Да и что они могут сделать, если целый вагон безбилетников? Выгружаемся.
— Пошли к лагерю, вы где встаете?
— Да где придется, мы же неорганизованные каэспэшники — хвосты.
Вечереет. Кто-то деятельный, как всегда, построил сцену. Привез микрофоны и прочую аппаратуру. Комсомольцы-добровольцы. Слет маленький, кустовой, наверное — «Сокол». Но тоже человек пятьсот-то есть.
— Пошли «Мышеловку» послушаем, они здорово поют.
Постепенно темнеет. Не только вокруг, но и внутри. Водочка плещется уже где-то под горлом. Но все равно не хочется спать, хочется ходить от костра к костру, пить чай, слушать песни. Встречать знакомых, полузнакомых, совсем незнакомых, прихлебывать крепкие напитки. И в конце концов уснуть где-нибудь. Необязательно в своей палатке, можно и в чужой. Можно и не в одиночестве, а в приятном обществе прекрасной девушки Инны. Ах, сударыня, как вы были хороши!
А потом будет трудное утро. Все понемногу будут пробуждаться, выползать из палаток, прихлебывать чай из кружек. А Миша Трубецкой уже под рюкзаком подойдет и скажет своему неуверенно сидящему на бревне товарищу: «Сколько можно тебя ждать. Я ухожу». И уйдет твердой походкой. А его товарищ, вместо того чтобы собирать рюкзак, ляжет на землю и горько произнесет прямо в пространство: «Ушел! Ушел и даже не пристрелил».
А потом народ потянется к электричке, и доберется до Белорусской, и пойдет в «Гульбарий». И наберет пива из автоматов в каны, и будет сидеть на травке и поправлять здоровье. И будут подступать скучные какие-то мысли о предстоящей трудовой неделе. Но ведь будет еще суббота, и мы снова соберемся, и снова будет весело и легко, и жизнь продолжится, потому что мы встретим друг друга…
Юность. Гитара. Песни. Друзья. Подруги. Водка. Крепкие напитки. Разве может быть что-то лучше? Жаль только, все это недолго продлится. Скоро наступит усталость. Скоро шуточки Мишани Лебедева осточертеют, скоро от этих песен начнется аллергия. А потом ты просто забудешь, как шумит ветер в кронах, как пахнет костром твоя старая шторма, забудешь, где лежит твой штопаный рюкзак. Будешь кривиться от одного воспоминания об этих самодельных стишках, которые пели, которые читали, выдавая за настоящие. И ты встретишь знакомого, и он между прочим скажет тебе, кто умер, кто уехал, а кто-то уехал и умер. Хотя это уже некоторый перебор.
Сосны. Среди зеленой нетронутой поляны горит костер. Тишина. И только слышно, как потрескивают сухие дрова. А между сосновых вершин в осеннем прозрачном небе стоят крупные звезды. И никого вокруг. Да и сам-то ты где? И правда, где я?
68
Я еду в Ригу. Надо дать Сергею Ильичу телеграмму. Даю. Уже перед самым отходом поезда. Я еду «Латвией». Ночь в дороге. Засыпаю с мыслью о скорой встрече. Жду ее. Представляю, как мы будем бродить по Риге, а я буду что-то такое сочинять об этом городе, который мне очень нравится. Старая Рига, улица Фрича Гайля, где жил Исайя Берлин, «Маленькая Ницца» — крохотная кафешка, где мы ели омлет на завтрак и отправлялись за колхозным, темным, тяжелым, негазированным пивом, которого больше двух кружек не выпьешь, которое наливали огромным черпаком прямо из бочки. Засыпаю. Сплю. Уже Рига.
Надо вставать. Ильич всегда ругается, когда я выхожу из вагона последним. «Тебе что, вещи долго собирать? Сраную сумочку искал? Или гривенник из-под лавки выковыривал?» Он волнуется. Вдруг меня дорогой собаки съели, или мыши сгрызли, или пьяного выкинули из вагона-ресторана в Великих Луках и тело мое снежком замело под насыпью. Нет, надо выйти среди первых, не буду его дразнить. Выхожу. Граждане пассажиры тоже выходят, спешат, платформа быстро пустеет, а Ильича нет. Ну надо же. И где он? На него это совершенно не похоже. Он, в отличие от меня, раздолбая, человек ответственный. Я совершенно не волнуюсь, хотя, убей бог, не помню, как добираться до Сережкиного дома. Я приехал к нему не первый раз, и не второй, но вот ничего не знаю. Ильич меня всегда везде водил, а я пребывал в некоторой прострации. Расслаблялся. И это правильно. Его энергии хватит на десятерых, так что незачем суетиться. Надо где-то сесть на электричку до Елгавы. Найду, в конце концов. Адрес я знаю. Улица Кр. Барона. Я всегда ее расшифровывал как «улица Красного Барона» и все удивлялся странности этого названия, пока Ильич меня не просветил, что «красный барон» тут ни при чем, а улица названа в честь Кр ишьяниса Б арона — и ударение обязательно на первом слоге. Это какой-то замечательный мужчина, собиратель дайн — латышских частушек или, точнее, страданий. Что-то вроде «Я страдала, страданула, с моста в речку стартанула».
Все это весело и славно. Но на платформе уже почти никого не осталось, а где же Ильич?
Ко мне подходит человек и несколько смущенно спрашивает:
— Простите, вас не Сережа должен был встречать?
— Сережа!
— Я его брат Саша, он не успел приехать и просил меня вас встретить. Но он вас описал не совсем так, как вы выглядите.
— Да, забавно. Неужели забыл?
— Пойдемте, я ему позвоню и провожу вас на электричку.
Идем. Саша звонит по автомату:
— Слушай, ты мне что сказал: «Приедет клиент в апельсиновом тулупчике и непременно с командирским планшетом через плечо»? Да. Да. Так вот слушай меня. Приедет клиент в гипюровой кофточке, да, и с гвоздикой в зубах. Так что не ошибись.
Саша проводил меня на электричку, а Ильич встретил уже в Елгаве.
— Ты что, телеграмму давал перед самым выездом, что ли?
— Ну да.
— Ты чем думал, как я тебя встретить успею? Мне телеграмму утром принесли. Я звоню брату Саше в Ригу. Говорю, будет клиент в апельсиновом тулупчике. Ты куда тулупчик дел, лишенец?
— Ильич, ну могу же я иногда сменить шкурку, я в этом тулупчике года три ходил.
— Мог бы еще походить. Приехал серый, как заяц. Ну ладно, добрался. Все теперь в порядке. Пошли пиво пить. Здесь классная пивная есть неподалеку.
И мы пошли. Пивная действительно оказалась классная. Маленькая, уютная, столики покрыты клеенкой в цветочек, клеенка не резаная и чисто вымытая. И ни одного человека, кроме нас. Взяли пива. Сидим, расслабляемся.
— Как твои дела, что поделываешь? Ты по-прежнему круглый отличник?
— Да в этой богадельне под названием Латвийский университет кто бы отличником не стал.
— Не скажи. Чем занимаешься?
— Корнями топологических отображений.
— Да ты серьезный мужчина, как я погляжу.
— А ты как думал? Я такой.
— Я чего хотел тебе рассказать…
Мы прихлебываем пиво. Нам хорошо. Мы давно не виделись.
— Помнишь, мы говорили о природе вычислений и ты мне про счетные палочки рассказывал?
— Смутно.
— Ты говорил, что всякое вычисление есть физический процесс, а мы загружаем в автомат входные данные, запускаем процесс, а потом измеряем наблюдаемый результат.
— Вроде так и есть.
— И я тебе говорил, что человек — это тоже вычислитель, а ты отмахивался, дескать, с человеком сам разберешься.
— И ты разобрался?
— Конечно разобрался. Все оказалось просто, как грабли.
— О-го-го.
— А-а-а, интересно?
— Нет, неинтересно, ты опять какую-нибудь мистическую хрень выкопал. Ну куда же от тебя денешься, валяй, круши мое рациональное сознание.
— У Пуанкаре есть такое эссе «Математическое творчество». Вот смотри, я книжку тебе привез.
— Адамар. «Исследование психологии процесса изобретения…» Знаешь, я ее, кажется, видел. Любопытно, что выпустило ее издательство «Советское радио». Я тебе потом расскажу про другую книжку этого странного издательства. Они там что-то серьезное курят, раз такие книжки выпускают. Или уровень познаний советского радиоинженера достиг каких-то высот запредельных.
— Здесь в приложении приведено эссе Пуанкаре. Адамар все время на него ссылается, и они решили это эссе тоже опубликовать, оно небольшое, но важное.
— Ты что, мне его читать вслух собрался?
— Ага, читать и комментировать. Я, может, за этим и приехал. Не только за этим, конечно, еще пива попить. Слушай.
Ильич откинулся на спинку стула. Вытянул ноги. Сложил руки на животе. И смежил глаза.
— Ты что, спать собрался?
— Я тебя слушать собрался. Не отвлекайся. Нет, погоди, давай еще пива возьмем.
Ильич подошел к стойке, и женщина, почему-то не в грязно-белом халате, как это принято у нас, а в платье, нацедила две кружки. Ильич пунктуально дождался, пока осядет пена. Женщина долила в кружки темную пахучую жидкость.
Ильич поставил кружки на стол. Мы отхлебнули.
Мой друг опять уселся в позе полной расслабленности, как будто собирался слушать меня часа три как минимум.
— Пуанкаре пытается понять, как работает математик, и не придумывает ничего умнее, чем проанализировать собственный опыт. Он вспоминает, как искал решение задачи, которая потом привела к созданию теории автоморфных функций. Две недели он каждый день садился к столу и пытался над ней размышлять, и ничего у него не получалось. Однажды вечером он выпил чашку кофе — против своего обыкновения — и не смог уснуть. И всю ночь сидел и думал. Он чувствовал, как идеи теснятся и сталкиваются в его голове. Они как будто делали это самостоятельно, без его сознательного вмешательства. Но под утро он нашел одно частное решение. Потом он был вынужден внешними обстоятельствами оторваться от своих занятий и поехал куда-то по своим неотложным делам — наверное, пива попить. То есть он перестал вроде бы думать о проблеме. И вот в тот момент, когда он садился в автобус, вдруг моментально понял, что вся городуха, которую он выстраивал, — это в точности модель геометрии Лобачевского на плоскости. Его удивила красота решения и его мгновенность. Причем он не проверял догадку — он был уверен, что она верна, и продолжил прерванный на минуту разговор.
Дальше я прочитаю: «В то время я занялся изучением некоторых вопросов теории чисел, не получая при этом никаких существенных результатов и не подозревая, что это может иметь хоть малейшее отношение к прежним исследованиям».
Пуанкаре всегда занимался целой толпой разнообразных задач из самых разных областей науки, он вполне мог заняться и какой-нибудь другой проблемой, но почему-то выбрал именно эту.
«Разочарованный своими неудачами, я поехал провести несколько дней на берегу моря и думал совсем о другой вещи. Однажды, когда я прогуливался по берегу, мне так же внезапно, быстро и с той же мгновенной уверенностью пришла на ум мысль, что арифметические преобразования квадратичных форм тождественны преобразованиям неевклидовой геометрии».
Бац! И наверное, не случайно, что это именно геометрия Лобачевского, — наглядная интуиция часто проясняет суть дела. Дальше пошло веселее. Он решал одну за другой возникающие по ходу рассуждений задачи, но потом опять остановился — ему не хватало последнего, завершающего обобщения. И тут его очень кстати призвали в армию. Служба, хоть и отвлекала его от математики, по-видимому, не была слишком обременительной — и «во время прогулки по бульвару мне вдруг пришло в голову решение этого трудного вопроса, который меня останавливал. Я не стал пытаться вникать в него немедленно и лишь после окончания службы вновь взялся за проблему. У меня были все элементы, и мне оставалось лишь собрать их и привести в порядок. Поэтому я сразу и без всякого труда полностью написал эту работу».
Дальше Пуанкаре анализирует свои наблюдения. И приходит к весьма любопытным выводам. Причем Адамар, который подробно разбирает его эссе, с ним полностью согласен — его собственный опыт также подтверждает выводы Пуанкаре. Математическое творчество как бы сводится к двум этапам. Или, более точно, к трем, хотя функционально первый и третий похожи. Первый — это вполне сознательная работа. Освоение проблемы, анализ подходов. Разбор возможных вариантов. На этом этапе происходит то, что можно назвать постановкой проблемы, приходит понимание того, что же мы на самом деле ищем.
Но в какой-то момент математик упирается в стену. Решения нет. Проблема успешно отражает все атаки. Здесь нужно нечто большее, чем простой перебор вариантов. И тогда сознание отключается. Человек засыпает, или идет слегка послужить в армии, или гуляет по берегу моря. И начинает работать подсознание. То полубодрствование после чашечки кофе, которое описывает Пуанкаре, он называет подглядыванием за своим подсознанием. Но такое полубессознательное состояние неполноценно. Нужно действительно прервать работу. Действительно сделать шаг в сторону. Отпустить себя на волю. Нужно, чтобы проявились странные сближения. И именно в такие моменты Пуанкаре посещает геометрическая интуиция — неевклидова геометрия, которая, конечно, очень далека от квадратичных форм, которыми занимается Пуанкаре сознательно. Но ее появление приводит к тому, что все вдруг смыкается и появляется язык описания. Пуанкаре пишет, что открытие приходит мгновенно, вдруг — и никаких сомнений в правильности решения нет, и эта правильность потом подтверждается, правда не всегда.
Фактически подсознание работает автономно, и работает совсем не так, как сознание: оно не перебирает варианты один за другим, а как бы сразу пробегает по всему полю сближений и притягивает далекие области, которых слишком много, чтобы с ними рискнул работать сознательный перебор.
Пуанкаре пишет: «Есть еще одно замечание по поводу условий этой бессознательной работы: она возможна или, по крайней мере, плодотворна лишь в том случае, когда ей предшествует и за ней следует сознательная работа. Приведенный мной пример подтверждает в достаточной мере, что эти внезапные вдохновения происходят лишь после нескольких дней сознательных усилий, которые казались абсолютно бесплодными, когда предполагаешь, что не сделано ничего хорошего, и когда кажется, что выбран совершенно ошибочный путь. Эти усилия, однако, не являются бесполезными, как это думают; они пустили в ход бессознательную машину, без них она не пришла бы в действие и ничего бы не произвела.
Необходимость второго периода сознательной работы после озарения еще более понятна. Нужно использовать результаты этого озарения, вывести из них непосредственные следствия, привести в порядок, отредактировать доказательство. Но особенно необходимо их проверить. Я вам уже говорил о чувстве абсолютной уверенности, которое сопровождает озарение; в рассказанных случаях оно не было ошибочным, и чаще всего так и бывает; но следует опасаться уверенности, что это правило без исключения; часто это чувство нас обманывает, не становясь при этом менее ярким, и заметить это можно лишь при попытке строго сознательно провести доказательство. Особенно я наблюдал такие факты в случае, когда идеи приходят в голову утром или вечером в постели, в полусознательном состоянии».
Обрати внимание, что он говорит: сознательные усилия «пустили бессознательную машину» — именно машину, то есть подсознание работает как некий внутренний процессор, для которого уже подготовлены данные. А дальше следует процесс измерения результата. Но, в отличие от классического компьютера, результат получается только с некоторой вероятностью, иногда он бывает ложным, поэтому так важна сознательная проверка, несмотря на то что ощущение настоящего озарения сопровождает и «истинное» и «ложное» открытие.
Подсознание производит огромную работу, но потом изо всех этих сталкивающихся идей нужно выбрать верную. На основании какого критерия происходит выбор? Этот критерий Пуанкаре называет «чувством математической красоты».
Несомненно, что комбинации, приходящие на ум в виде внезапного озарения после достаточно длительной бессознательной работы, обычно полезны и глубоки, как будто они прошли уже первый отбор. Значит ли это, что подсознание образовало только эти комбинации интуитивно, догадываясь, что лишь они полезны, или оно образовало и многие другие, которые были лишены интереса и остались неосознанными?
При этой второй точке зрения все комбинации формируются механизмом подсознания, но в поле зрения сознания попадают лишь представляющие интерес. Но и это еще очень непонятно. Каковы причины того, что среди тысяч результатов деятельности нашего подсознания есть лишь некоторые, которые призваны пересечь его порог, в то время как все прочие остаются по ту сторону? Не просто ли случай дает им эту привилегию? Конечно нет. К примеру, среди всех ощущений, действующих на наши органы чувств, только самые интенсивные обращают на себя наше внимание, по крайней мере, если это внимание не обращено на них по другим причинам. В более общем случае среди бессознательных идей привилегированными, то есть способными стать сознательными, являются те, которые прямо или косвенно наиболее глубоко воздействуют на наши чувства.
Может вызвать удивление обращение к чувствам, когда речь идет о математических доказательствах, которые, казалось бы, связаны только с умом. Но это означало бы, что мы забываем о чувстве математической красоты, чувстве гармонии чисел и форм, геометрической выразительности. Это настоящее эстетическое чувство, знакомое всем настоящим математикам. Воистину, здесь налицо чувство!
Еще бы не знакомо, из-за этого чувства красоты, помнится, мы чуть не передрались на барабашевском кружке.
«Но каковы математические характеристики, которым мы приписываем свойства красоты и изящества и которые способны возбудить в нас своего рода эстетическое чувство? Это те элементы, которые гармонически расположены таким образом, что ум без усилия может их охватывать целиком, угадывая детали.
Что же, таким образом, происходит? Среди многочисленных комбинаций, образованных нашим подсознанием, большинство безынтересно и бесполезно, но потому они и не способны подействовать на наше эстетическое чувство; они никогда не будут нами осознаны; только некоторые являются гармоничными и потому одновременно красивыми и полезными; они способны возбудить нашу специальную геометрическую интуицию, которая привлечет к ним наше внимание и таким образом даст им возможность стать осознанными.
Это только гипотеза, но есть наблюдение, которое ее подтверждает: внезапное озарение, происходящее в уме математика, почти никогда его не обманывает, но иногда случается, что оно не выдерживает проверки, и тем не менее почти всегда замечают, что если бы эта ложная идея оказалась верной, то она удовлетворила бы наше естественное чувство математического изящества.
Таким образом, это специальное эстетическое чувство играет роль решета, и этим объясняется, почему тот, кто лишен его, никогда не станет настоящим изобретателем».
69
— Ну что скажешь? Все совпадает. Сначала подготовка входных данных, потом включение специфического процессора — можно сказать, физического устройства. А потом получение результата, причем роль «решета» или измерителя играет эстетическое чувство. Подсознание и есть физический процесс, позволяющий человеку мыслить. Причем его работа, вообще говоря, сводится к очень быстрому обсчету экспоненциально растущего числа вариантов, чего сознание сделать не может, как мальчик из твоего рассказа умеет считать, но не умеет складывать. Подсознание работает как сумматор. Ты думаешь, это опять мистика?
— Нет, не думаю. И вот почему: я читал книжку Манина, тоже вышедшую в «Советском радио», она называется «Вычислимое и невычислимое». Он задается таким вопросом. Вот есть молекула ДНК, процесс ее удвоения занимает 20 минут, у ДНК — 300 тысяч витков спирали, в процессе репликации она должна раскручиваться со скоростью 125 оборотов в секунду и при этом совершать еще целый набор очень точных биохимических реакций. Это представляется невероятным. И Манин говорит, что объяснение можно отыскать, анализируя работу квантовых автоматов. Если классическая машина работает с N ячейками, то квантовый автомат будет работать с 2 в степени N одновременно, поскольку все ячейки находятся в состоянии суперпозиции. Тогда мы получим экспоненциальный рост мощности. Причем — это прямо как у Пуанкаре — все наборы значений будут обрабатываться одновременно. Правда, Манин никак не описывает процесс получения результата. Но вполне возможно, что это происходит в соответствии с критерием гармонии или оптимальности системы. Может быть, мозг и есть такой квантовый автомат. Может быть. Бог знает.
И вот еще что. Есть крупный физик Дэвид Бом. Такой крупный, ну прямо классик. Вот он придумал такое объяснение квантовой нелокальности. Есть две зацепленные частицы — они взаимодействуют мгновенно, то есть со скоростью, явно превышающей скорость света. С тем, что зацепленные частицы существуют, вроде бы все согласны. А вот как их существование согласовать с тем, что быстрее скорости света взаимодействие невозможно, — непонятно. Бом говорит: представьте себе аквариум, в котором плавает рыба. Но вы видите не саму рыбу, а ее изображение на двух экранах, и на каждый изображение транслируется со своей камеры. Поначалу вам покажется, что перед вами две разные рыбы. Но потом вы заметите странную вещь: их движение согласованно. Если одна поворачивается к вам хвостом, то другая всегда видна боком, и наоборот. Бом делает нетривиальный вывод: когда мы видим зацепленные частицы, то на самом деле этих частиц не две, а одна, просто она находится в многомерном пространстве, а мы видим две ее разные проекции. Тогда понятно, почему изменение одной зацепленной частицы приводит к мгновенному изменению другой, — состояние никуда не передается, изменяются только проекции. Получается вполне логично. Но тогда мы должны допустить, что существует это самое многомерное пространство. А то, что мы способны создавать зацепленные частицы, означает, что мы можем в это многомерное пространство проникнуть.
— Ильич, а ведь если Бом прав, то все сходится. Тогда мозг — это квантовый автомат, который позволяет при определенных условиях в это многомерное пространство выйти. И этот выход связан не только с математическим открытием, как пишет Пуанкаре, а с любым резким приращением информации и обретением новых смыслов. Таков процесс творчества, такова любовь, что-то подобное человек переживает во время смертельной опасности — во время сражения, например, или во время автомобильной катастрофы. В такое же состояние попадает человек в шизофреническом бреду, когда все сопрягается со всем, когда человек слышит голоса и ему кажется, будто кто-то ему диктует слова, заставляет его двигаться. Человек чувствует то невероятный подъем, то страшный упадок сил, он не справляется с накатившим хаосом, и он не может или не хочет выходить из этого состояния. Он становится чисто квантовой машиной, без перехода в классическое, сознательное состояние, поэтому с точки зрения нормального сознания все, что такой человек может высказать, — только обрывки, фрагменты распадающегося мира. Но на самом-то деле, может быть, это так только выглядит и человек вовсе не сошел с ума, а, напротив, вышел в то пространство, из которого и черпает «нормальное» сознание — все свои откровения, выйти-то вышел, вот только вернуться забыл. Или другими словами: есть классическое пространство — космос, и он погружен в самый настоящий многомерный квантовый хаос как в некую объемлющую метасистему. И мы, если повезет, можем выйти в этот хаос, а если повезет еще раз, можем оттуда вернуться, и тогда нам откроется гармония классического мира.
Мы замолчали. Потрясенные глубиной и ясностью картины. И только прихлебывали пиво. Но скептический Ильич заметил:
— Дело за малым. Осталось только провести корректное доказательство нашего осмысленного бреда. Как говорит Пуанкаре, у озарения бывают и ложные срабатывания.
— Да, осталась сущая фигня.
И мы, крайне довольные собой, отправились на прогулку по городу Елгаве. И очень радовались своему уму и проницательности. По дороге мы еще что-то пили, добавляли, закрепляли, лакировали, освежали и почти не закусывали. Когда наконец мы добрались до дома Сергея Ильича, нас хватило только на то, чтобы, не раздеваясь, попадать на постели и перейти в чисто бессознательное состояние. Родители Сережи, вернувшись с работы, застали два недвижных тела. Но они отнеслись к нашим поискам истины сочувственно. Конечно, дело это трудное и не всякому оно по силам.
70
После университета Аркадий пошел работать в очень достойное место, какое-то номерное НИИ на Калужской — недалеко от дома, где он поселился со своей молодой женой — Эдмундовной.
Вообще-то в этой квартире проживала еще и его теща. Но она ушла к своему другу. И молодые наслаждались свободой и самостоятельностью.
Я бывал у них нечасто. Не знаю, нравилось ли мне. Все было незнакомое, не мое. Аркадий был деятелен и отчужден. Он работал много и с удовольствием. Он постепенно вырастал в настоящего программиста. Я помню, как он рассказывал мне о VM — новой операционке, которую начали ставить на еэски.
Я вел расслабленную жизнь. По распределению попал в Институт метрологии, но явился устраиваться на работу только в октябре, а не первого августа, как положено. И мне радостно сообщили, что мое место сократили. Я не возражал. Единственное, что мне несколько докучало, — хроническое отсутствие денег. Я сказал родителям, у которых, за неимением лучших вариантов, поселился и очень тяготился этим, что на работу я уже устроился. Иначе было и нельзя, поскольку отец меня бы просто съел. Перепилил и съел. Денег в семейный бюджет от меня не требовали, но хотя бы продемонстрировать свою первую зарплату было необходимо. И я не придумал ничего лучшего, как попросить у Аркадия взаймы — на пару дней. «Зарплату» я родителям показал, но деньги Аркадию вернуть за недосугом «забыл». Как-то непроизвольно я их потратил на свои неотложные нужды. Речь шла о крупной сумме — 50 рублей.
Ко мне в «Гульбарии» подошла Лиля и крайне сурово сказала:
— Ты что делаешь? Они же голодают, у них денег вообще не осталось. Немедленно верни.
Я слушал ее и кивал головой, возразить было нечего. Я смотрел на нее и не мог отвести взгляд. Она была прекрасна во гневе. А мои коровьи глаза на мокром месте ее страшно раздражали.
— Все. Завтра же деньги вернешь.
Я деньги занял и вернул. Аркадий был расстроен моим поведением и взялся меня воспитывать. Он объяснил мне, что на работу надо устраиваться. Что надо вести себя прилично со своими друзьями. Что я по сути человек глубоко аморальный — тунеядец и мошенник. Я выслушал его и больше в гости к нему не приезжал. Конечно, он был прав. И Лиля была права. И все кругом были правы. А я был не прав. Все так и есть.
И я пошел на работу. В первую же попавшуюся забегаловку — какое-то СКБ из области учета мяса и молока. Программистом. Программировать я не умел вообще. Но так уж я, наверное, устроен: если меня загнать в угол и заставить работать, я буду работать. То есть в моем случае максима Дмитрия Аполлоновича, говорившего, что свободный труд и труд творческий далеко не всегда одно и то же, подтверждается полностью. Не умею я свободно трудиться. Но если меня поставить в жесткие границы, я буду стремиться вырваться из них и могу раздвинуть бетонные стены, чтобы потом, обретя желанную свободу, затосковать, запить и вообще бросить работать.
Я начал программировать и примерно за год стал весьма приличным профессионалом. Плохо только, что задачи, которые я решал, были пустяковые. Нужно было бросить мою бессмысленную контору, подсчитывавшую объемы мяса, которого нет, и уйти в какое-то более серьезное место. Но я этого не сделал, поскольку полагал, что все это программирование не более чем временное отвлечение, главное дело моей жизни — поэзия. Какая разница, где перебиться пару лет? Скоро-скоро ко мне прискачет Белинский на хромой козе, чтобы меня всего облобызать. Если бы мне кто-то сказал, что я отдам программированию не год, не два, а двадцать, я бы рассмеялся, как Бог, и дал провидцу по шее, чтоб не вякал. Так же как я не поверил когда-то Стечкину, что станем мы в большинстве своем — программистами.