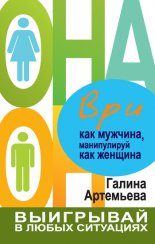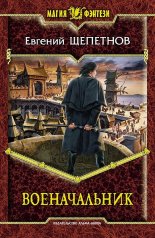Учитель цинизма Губайловский Владимир
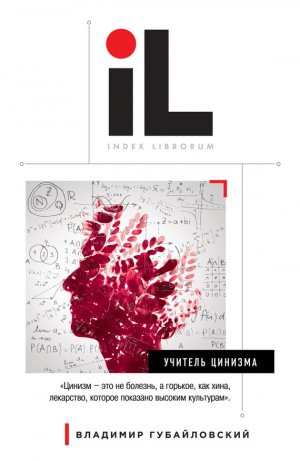
Сидят два человека. Им вместе хорошо, а порознь — нехорошо.
Конечно, нас с Костей многое связывало — и образование, и совершенно искренняя, непоказная любовь к русской литературе. Но мало ли с кем у меня образование общее или увлечения сходные, тут ведь не то совсем.
Мы друг друга не просто понимали, мы друг друга предчувствовали. Мы знали, что внезапная догадка одного что-то действительно откроет другому, и он примет эту догадку с благодарностью.
Я гулял с коляской, программировал, читал, думал и вдруг нечто невероятное прозревал. И точно знал, что об этом необходимо рассказать Косте. И он сразу придумает неожиданное продолжение, и я отвечу, и начнется наш замечательный джем, где солисты будут чередоваться, а благосклонный зритель, ежели таковой окажется, сначала будет сидеть открыв рот, а потом присоединится к ветвящейся импровизации и тоже исполнит соло, а мы будем аккомпанировать… И так будет продолжаться, пока мысль не затихнет или мне не придет время срочно бежать домой — купать младенца.
35
Перемены в стране стали для нас очевидны в 1987 году, в первую очередь, после публикаций в «Новом мире». В 5-м номере появилась статья «Где пышнее пироги», подписанная: «Лариса Попкова». О такой ученой экономистке я никогда не слышал, но рубанула она наотмашь.
Конечно, и до этого были совершенно очевидные сигналы перемен, но эта новомирская публикация встряхнула крепко.
«Где пышнее пироги» — даже не статья, а письмо читателя, совсем короткое, буквально на пару страничек. В нем безо всяких разговоров и научных аргументов (в стиле математических статей, где после формулировки теоремы написано: «Доказательство предоставляется читателю») утверждались простые вещи: социализм и рынок — несовместимы, но только рынок может испечь «пышные пироги». Следствие было очевидным: перестраивать нам нечего, потому что перестроить ничего нельзя — и если мы хотим рынка, то нужен капитализм.
Отвечая в 7-м номере на статью Попковой, маститый ученый, крупный специалист по несуществующей науке — «политэкономии социализма» — этого не понял или испугался понять: «Дальше читатель сам додумается: капитализма мы во всяком случае не хотим — значит, придется отказаться от перестройки, а заодно и от „пирогов“? Так выходит?». Читатель пожал плечами: нет, не так. Кто вам сказал, что мы не хотим капитализма?
Если даже весь из себя «прогрессивный» экономист капитализма не хочет, то власти-то уж точно не хотят. Они немножко поперестраиваются, а потом скажут: «Але, гараж! Харэ, блин!» — и возьмут курс прямо на Северную Корею. И все опять сурово подмерзнет. И мы еще раз переживем не «оседание наста» и «гром ледохода», за которыми приходит весеннее тепло, а январскую оттепель: покапает, покапает, а потом морозы так саданут, что слезы из глаз.
Но то, что письмо Попковой появилось в солидном журнале, означало: какая-никакая, а свобода слова становится фактом, и Совок предоставляет возможность публично высказаться даже своим жестким оппонентам. Может, и временно, но что-то переменилось.
Костя приехал к нам с огромным черным терьером — Басей. Это была собака Костиного приятеля, который куда-то временно свалил и оставил лохматое животное на его попечение.
Оля встретила Басю с восторгом — она любила больших собак. Когда мы увидели на обложке «Огонька» фотографию, на которой нездешней красоты огромный ньюфаундленд окружен детьми, Оля поняла, что это именно тот идеал бытия, к которому следует стремиться, и заявила, что нам обязательно нужен именно водолаз. Проблема была только в одном — нам негде было жить, мы скитались по съемным дачам, и вырастить в столь неопределенных условиях такую ответственную собаку непросто. Бася хоть и не водолаз, но размерами вполне соответствовал Олиной мечте. Так что Костин визит оказался источником необычайного Олиного воодушевления.
Когда Бася ложился, он делал это с каким-то жутким грохотом — падал на пол, гремя всеми своими мослами, и казалось, что опрокинулся скромных размеров шкаф.
Оля баловала Басю всякими собачьими вкусностями, а мы с Костей предавались интеллектуальным забавам — на этот раз говорили о Пастернаке. Я как раз разродился сочинением о любимейшем Борисе Леонидовиче.
Статья моя писалась не просто так: общительный Костя познакомился с сыном Гаспарова, и я рассчитывал, что он передаст мое сочинение самому Михаилу Леоновичу.
У Пастернака есть стихотворение «Поэзия». Написано оно в 1922 году и как бы подводит теоретический итог его практическим открытиям.
- Поэзия, я буду клясться
- Тобой и кончу, прохрипев:
- Ты не осанка сладкогласца,
- Ты — лето с местом в третьем классе,
- Ты — пригород, а не припев.
- Ты — душная, как май, Ямская,
- Шевардина ночной редут,
- Где тучи стоны испускают
- И врозь по роспуске идут.
- И в рельсовом витье двояся, —
- Предместье, а не перепев, —
- Ползут с вокзалов восвояси
- Не с песней, а оторопев.
- Отростки ливня грязнут в гроздьях
- И долго, долго, до зари,
- Кропают с кровель свой акростих,
- Пуская в рифму пузыри.
- Поэзия, когда под краном
- Пустой, как цинк ведра, трюизм,
- То и тогда струя сохранна,
- Тетрадь подставлена, — струись!
Вот это стихотворение я и решил подробно прокомментировать. Работа продвигалась вполне успешно, пока не возник непреодолимый барьер: поэзия — это Шевардино. Если другие слова можно как-то «переименовать», придумать им новые смыслы, то с «Шевардино» ничего получалось: «Шевардина ночной редут» — это абсолютно однозначно и потому совершенно непонятно. Почему, например, не Бородино? Я знал пастернаковскую поэзию хорошо. Не то чтобы я мог прочитать наизусть любое его стихотворение, но любое, как мне казалось, мог опознать по одной строке (почти любой) и припомнить, если приспичит. Ну вот приспичило.
Мы снимали в дачном домике крохотную квартиру — комната и кухня. Работал я (как и всю жизнь) ночами. Оля спала. Девочка Кузя тоже спала. А у меня на кухне лежал матрасик — на нем можно было расслабиться и подумать, если за столом додуматься не удавалось. И я спросил себя: «Почему Шевардино?».
Я был уверен, что где-то в пастернаковских стихах есть ответ. Лег на матрасик, закрыл глаза и сосредоточился. Перебирать в памяти все пастернаковские строки — бессмысленно. Попарных сравнений необозримо много, причем искать нужно не текстовое совпадение (Шевардино у Пастернака больше нигде не встречается), а смысловое, то есть сканировать семантические гнезда, разветвленные, ассоциативно связанные пучки текстов. Решить такую задачу прямым перебором — практически нереально.
Я лежал, закрыв глаза, а на обратной стороне век что-то вспыхивало и гасло. Это продолжалось около получаса. И это было предельное напряжение. В памяти медленно с ленцой и неохотой выплыло: «…в лагере грозы полнеба топчется поодаль…». Поднялся почти без сил. Но я вспомнил. Каков механизм этого припоминания — не знаю.
В пастернаковской «Июльской грозе» есть такие строки: «Не отсыхает ли язык У лип, не липнут листья к небу ль В часы, как в лагере грозы Полнеба топчется поодаль? И слышно: гам ученья там, Глухой, лиловый, отдаленный. И жарко белым облакам Грудиться, строясь в батальоны. Весь лагерь мрака на виду…». Эта текстовая параллель многое прояснила.
Поэзия — не сама гроза, а ее предчувствие, напряженная тишина ожидания, это именно Шевардино, пролог великой битвы. Сама гроза в «Поэзии» — ненаблюдаема, она как бы выпадает из поля зрения, потому что она случайна — у нее нет достаточного основания. Она не связана напрямую с предшествующим рождению стиха состоянием мира. Стихи рождаются в точке сингулярности, в точке разрыва реальности. Поэзия — это классический процесс, а сам акт творчества — квантовый. Классический процесс можно увидеть или почувствовать: тревога, смута, неопределенность, потому что грядущий разрыв (взрыв) не позволяет увидеть будущее. И наблюдаемы последствия — цинк ведра, кропаемый акростих и т. д. Поэзия — это трюизм, играющий роль формы для отливки. Чем форма крепче и проверенней, чем она привычней, тем больше шансов, что она выдержит, когда поэт выльет в нее кипящую лаву слов.
Статью-то я написал, но мой строгий и разборчивый Костик сказал, что статья состоит пополам из лихости и беспомощности и показывать Гаспарову нечего. Я расстроился, но смирился — статья и вправду вышла неблестящая.
Мы с Костей трепались и ходили по грибы. Бася, который за нами увязался, пугал грибников, внезапно возникая перед ними из зарослей орешника. Конечно, если такая морда вдруг выглянет из-за кустика, веселого мало.
37
Костя дружил с Лерочкой. Она была дама решительная — все время воевала с советской властью. Костя относился к Лерочке сочувственно и помогал, чем мог. Она придумала проводить регулярный семинар «Демократия и гуманизм» и ничтоже сумняшеся попросила Костю это не самое законопослушное собрание приютить. И он ей не отказал. Если я шел к Косте в часы этих Лерочкиных семинаров, то видел стоящую у подъезда черную «Волгу». Машина всегда была одна и та же, мы даже номера выучили. Доблестные органы Лерочку внимательно пасли, но брали только после акций.
Например, придет мужественная Лерочка в ГУМ (именно ГУМ она почему-то особенно любила) с пачкой листовок, заберется на третий этаж и, как бендеровский сеятель, сеет, только не облигации 3 % займа, а что-то духоподъемное — типа «Долой кровавый режим», «Да здравствуют демократия и гуманизм». При чем тут «демократия» и «гуманизм» — непонятно, но ведь это и не важно. Поднимет человек около фонтана такую листовку, оглянется воровато, спрячет на дно сумки. А потом дома достанет, развернет, разгладит и почувствует себя борцом за свободу.
А Лерочка радостно сеет свое разумное и правильно понятое доброе, пока ее под белы руки не повинтят. Менты в конце 1987-го были вежливые, сил просто нет: «Валерия Григорьевна, мы должны вас задержать за нарушение общественного порядка». Она, конечно, крикнет с третьего яруса про сатрапов и пойдет с ними в отделение протокол составлять. Составят протокол. Посидит она в обезьяннике. Потом приходит майор в голубом мундире с голубыми погонами и сокрушается: «Валерия Григорьевна, опять вы за свое. Что с вами делать, даже и не знаю». И отпускает домой.
Такие теплые погоды установились уже к концу восьмидесятых, а случалось, и крайне жестко с Лерочкой обходились. Но она была ко всему готова и летела навстречу светлому будущему, как ошарашенный паровоз. А вот Костя не был готов — ни в стену, ни всмятку, ни об рельсы пополам — другие у него были в жизни приоритеты.
Но и Косте тоже перепало, немного, но перепало. После одной Лерочкиной акции Костю цепанули на Лубянку. И обыск на Чертановской провели. Все перерыли. Машинку изъяли. Костя очень печалился, что не вернули книжку Николая Олейникова, которой он очень дорожил, — книжка и правда была отличная — «YMCA». Провели с ним беседу профилактическую и выпустили часа в четыре утра. Вышел он на ночную площадь. Изморось. На душе хреново. Денег на такси нет. И пошел пешком к себе на Чертановскую. Пока шел, метро открылось. Доехал. Дома все вверх дном. Ничего убирать не стал, упал на кровать, не раздеваясь, и уснул.
Потом мне говорит: «Я никак не мог понять, что же меня не устраивает в этой борьбе. Все вроде правильно. Цели — святые, методы — вполне гуманитарные. Взрывать вроде ничего не надо. Одно только просвещенье неразумных народных масс. Но почему-то это вот поперек характера. А потом я прочел нобелевскую лекцию Бродского и что-то понял. Если за что-то бороться, то бороться, наверное, надо не за правду — никакой правды ты все равно не знаешь, она меняется, как змеиная кожа, сегодня одного цвета, завтра другого. Бороться надо… даже, наверное, не бороться, а служить красоте — потому что красота непременно нравственна, и если ты красоту чувствуешь, то никогда подлости или какой другой дряни не сделаешь. Стало быть, красота-то важнее. Ее распознать можно, а с правдой все как-то текуче получается». Мне его построение убедительным не показалось: «Может, так, а может, и нет. Вот помнишь некрасовское стихотворение „Человек сороковых годов“ — „Я не продам за деньги мненья, без крайней нужды не солгу… Но — гибнуть жертвой убежденья я не могу… я не могу“ — что-то очень похоже выходит. Пока мы все „за красоту“, кто же будет гибнуть „жертвой убежденья“?» — «Нет, гибнуть жертвой убежденья надо, но только это должны быть твои убежденья, а не чьи-то не пойми чьи. А вот тут проблема — убежденья-то чаще всего чужие, просто ты их как заразу подхватил».
Оля звала Лерочку «выпускницей», поскольку та обычно появлялась на наших посиделках, откуда-то выпущенная. Она всегда где-то протестовала, голодала и вообще вела активный образ жизни. А мы пребывали в самозамкнутом состоянии. Впрочем, это относится, скорее, ко мне — Косте такого полного самозамыкания не хватало.
38
На Чертановской я познакомился с Сержом Муровым. Серж любил выпить, но всегда старался выпивку так обставить, чтобы она была не просто заливанием глаз, а чем-то возвышенным. Я то точно знал, что чем-то возвышенным она становится граммов после 400. Но Муров так не считал. Он был любителем изысканных закусок и застольных ритуалов. И был убежден, что самое главное в любом застолье — первая рюмка. Только она одна — прекрасна, а прочее — последствия, иногда предсказуемо тяжелые. Впрочем, случалось, что он, забыв все собственные правила, срывался в беспросветный запой, — это было тягостное зрелище, но не мне его осуждать.
Муров падал на Чертановскую всегда внезапно — то ли с соседней крыши, то ли из снеговой тучи — и начинал, прихохатывая, пересказывать Мамлеева. Делал он это исключительно бойко. А читал невероятно много. И все помнил. Учился Серж в Плехановском институте народного хозяйства на бухгалтера. Играл в футбол очень прилично — за молодежную команду «Динамо». «Спартак» не любил.
Муров привел на Чертановскую свою знакомую девушку — Таню Полежаеву.
Вообще, в моем сбивчивом рассказе много Тань. Кажется, их даже больше, чем допустимо, и запутаться очень легко в этих Танях. Но это все разные Тани. И они друг с другом даже знакомы не были. Виноват не автор этих правдивых заметок, а советские родители, чересчур внимательно читавшие в юности «Евгения Онегина» (Оль, кстати, тоже хватало).
Муровская знакомая была девушка трудной судьбы. Не совсем как у Венички Ерофеева, но похоже. Ее родители были большие ученые. Папа — астроном и чуть ли не академик, мама — филолог. Жили они в знаменитом академическом кооперативе на улице Вавилова. Папа из Франции не вылезал. Что-то он в небе высматривал — из Европы, наверное, видно лучше — и присылал в родной институт ящики с оборудованием, которые не досматривали на границе в связи с особой хрупкостью и ценностью содержимого, и потому в этих ящиках, кроме всяких научных приборов, находилось место для десятков запрещенных книжек — «YMCA», «Ардис», «Издательство имени Чехова» и даже «Посев», что было совсем рискованно.
Танечка в нежном возрасте объехала с бабушкой всю Европу, что для советского детства, мягко говоря, не типично.
Ее мама хранила драгоценности, прикалывая их к внешней стороне оконных штор. Оказывается, жемчуг нельзя долго хранить в темноте — он умирает. А вот если приколоть к шторам на восьмом этаже — он и на свету, и не найдут его никакие воры.
Питались они академическим спецпайком. Такая образцовая номенклатурная семья. С элементами сладкой жизни.
Танечка неожиданно в этой сладкой жизни разочаровалась и уехала в монастырь — в Печоры. Там она какое-то время жила послушницей. Но монахиней так и не стала. Не взяли ее по младости лет. Она вернулась в Москву. И на какое-то время остановилась у Кости. Задержалась ненадолго. Собралась и рванула в Холуй — село в какой-то глуши в Ивановской области — учиться иконописи. Там в жуткие морозы она жила в дырявой как решето, продуваемой насквозь избе, спала не раздеваясь, застудила придатки и вернулась в Москву болеть. Но решимость ее не пропала. Она с гордостью показывала пачечку сусального золота, с которым училась работать.
Ее духовником был отец Александр из церкви Воскресения Христова в Кадашах. Она считала его истинно праведным и склоняла Костю к православной вере. А ему это было интересно. И он, кажется, из чистого любопытства крестился.
39
Люди все шли, и шли, и шли. Появился человек, смертельно больной туберкулезом. Костя познакомился с ним на каком-то вокзале и пригрел. Человек этот был высок ростом и невероятно худ, а когда-то явно был красавец-мужчина. Но болезнь его доедала. Он варил по утрам овсянку, в чем находил несомненное сходство между собой и английской королевой. Почти ничего, кроме овсянки, он есть не мог. Рассказывал, как попал в лагерь по наркотическому делу — советская власть такие шутки очень не любила — и провел на нарах пять горьких лет. Там и заболел. Человек он был тихий и симпатичный. Родом из Благовещенска. Весело вспоминал, как в юности был гитаристом и с товарищами играл на танцах. Любили ребята своеобразно пошутить: сыпануть перцу прямо на пол — едучая взвесь поднималась и летела девкам под юбки. И они, ошалев от нежданной обжигающей напасти, сигали прямо с набережной в Амур. Потом он так же тихо, как и появился, бесследно пропал.
Появился молодой человек, который представился просто и скромно: «Поэт». Увидев на моем лице некоторое недоумение, он объяснил: «Ну, я поэт, по должности». — «Это как, простите?» — «Я в театре служу поэтом. Если что надо зарифмовать — рифмую, песенку какую могу написать, куплеты комические». Я посмотрел на него с уважением — мне случалось встречать настоящих поэтов. Определялась такого рода номинация довольно неопределенным понятием «талант». Но чтобы вот так просто — по должности… Редкая, прямо скажу, работа. И поэт этот тоже надолго не задержался.
Нечасто, но регулярно заглядывала и Танечка-маленькая в черной кожаной мини-юбке. Она приходила, пила чай и молчала. Костя ее визитами несколько тяготился. И здесь объяснять, собственно, нечего, поскольку все читалось у Танечки на лице. Она любила моего друга нежно, преданно и безнадежно.
Этот нескончаемый поток людей, разговоров, книг, напитков, впечатлений Костю абсолютно устраивал. Я спросил: «Но ведь ты же совсем не бываешь один. Когда же ты думаешь?». Его ответ меня поставил в тупик: «А я не думаю. Я просто наталкиваюсь на вопросы и обсуждаю их с другими людьми, и эти другие люди приносят мне решение. Я как Анна Шерер, завожу водоворотик и жду, когда всплывет». — «Но ведь ты не контролируешь ситуацию. А вдруг не всплывет?» — «А вот это уже не важно. Если не всплывет тот ответ, который я жду, может, всплывет ответ на другой вопрос. Главное, чтобы моя домашняя мельница постоянно молола муку. Процесс важнее результата. Тебе, интроверту и рационалисту, этого не понять».
40
Суббота. На Чертановской четверо: Костя, Танечка Полежаева, Серж Муров и я. Мы таким составом давно не собирались. Мы рады друг другу. Сегодня мужчины чуть-чуть увлечены Танечкой. Это придает встрече тонкий эротический подтекст, который тонизирует остроумие мужчин: они все немного распускают хвосты, соревнуясь за благосклонную улыбку дамы. А поскольку все понимают, что это игра без роковых последствий, все происходит легко и необременительно.
Муров говорит: «Надо взять водки и отметить нашу не столь неожиданную, сколь желанную встречу».
Мы все соглашаемся с таким нетривиальным предложением. Распределяем обязанности. Костя говорит, что займется квартирой, дабы наш пир трех князей и одной княжны состоялся в идеальной чистоте и порядке. Таня берет на себя ответственность за вареную картошку. А мы с Муровым отправляемся в магазин за водкой и закуской. Костя нас наставляет: «Обязательно купите селедку. Баночную, пряного посола, и огурцы маринованные, если найдете». Мы киваем и выходим на Симферопольский бульвар.
Зима. Хмурый московский день. Рябой от грязи снег. Мы говорим о футболе, который обоих живо интересует. Времени у нас полно, поскольку на часы не посмотрели и вляпались в обеденный перерыв в продовольственных и винных магазинах — с 13 до 14 часов.
Водка в магазине есть. Народу немного. Антиалкогольная кампания в прошлом. Обострение у властей прошло. Отправляемся за закуской. Покупаем пряно посоленных сельдей и огромную банку маринованных помидоров и огурцов «Глобус». Мы бы купили банку поменьше, да нету их поменьше — не встречаются в окружающей нас действительности.
Идем груженые. Муров несет тяжелую сумку, а я обнимаю «Глобус», как крупного младенца — нежно и твердо.
Поднимаемся на пятый этаж. Нас уже ждут. Картошка вареная, горячая, укрыта чистым полотенцем, чтобы не остыла. Открываем селедку. Танечка ее аккуратно разделывает — вынимает хребет, выбирает косточки, режет небольшими строгими фрагментами. Репчатый лук тонкими полукольцами, немного подсолнечного масла. Мы выкладываем помидоры и режем огурчики.
Накрываем стол на четверых. Водка уже охладилась в морозильнике. Разливаем.
— Хорошо пошла, курва!
— Трансцендентально!
Начинается беседа. Танечка молчит и улыбается. Муров травит байки и сам громче всех смеется. Мы с Костей подаем ироничные реплики, которые не позволяют Сержу особенно растекаться. Муров прямо тут же, как джамбул-профессионал, слагает «Песнь о водке», переложенную пространными цитатами из классики и кулинарными отступлениями, как стерлядь в Грибоедове раковыми шейками и свежей икрой.
— Водка — напиток богов и смертных, все равны перед нею. Она великолепный аперитив. Она будит вкусовые железы, и они приходят в состояние повышенной чуткости. Они взведены как курки. Чехов пишет в «Сирене»: «Ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом этак не спеша, поднесете ее, водочку-то, к губам и — тотчас же у вас из желудка по всему телу искры…». Водка мгновенно катапультирует самую хмурую компанию в пространство веселья и чудесного единения. Ее «мокрый пламень» крепко встряхивает организм, стирает пыль повседневности и готовит к празднику. Пить водку следует одним большим глотком, запрокинув голову, как пианист, а не цедить по глоточку. Так можно и весь эффект растратить понапрасну. Закуска под водку — это поэма. Профессор Преображенский рекомендовал закусывать непременно горячим. Но не это главное. Закуска обязательно должна быть резкой — замечательны крохотные маринованные корнишоны. Чеховский герой говаривал: «Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки… Но налимья печенка — это трагедия!». Как не вспомнить Мышлаевского, который говорил Лариосику, утверждавшему, что водки он не пьет: «Как же вы будете селедку без водки есть?». Водка и селедка — нераздельны и неслиянны. Пора, пора наконец всерьез увлечься классикой и закусить налимьей печенкой! Так выпьем же сей напиток богов и закусим благословенною балтийскою сельдью!
Хорошо, что сегодня суббота, что никто никуда не спешит, что мы есть, что мы вместе сидим за столом и не знаем, что такой вечер никогда не повторится.
41
Мой начальник Женя Залещук не то чтобы был великий программист, но, безусловно, выдающийся мастер разговорного жанра. Он знал какое-то непредставимое количество забавных и поучительных историй и умел эти истории рассказывать.
Женя разведал по каким-то своим каналам, что в Москве строится МЖК — огромный молодежный жилищный комплекс на три тысячи квартир, и предложил мне поучаствовать в безнадежном предприятии — попробовать туда вписаться.
МЖК — это была такая комсомольская затея. Вот давайте сделаем так, чтобы комсомольцы (беспокойные сердца) строили себе дома, а потом в них жили, вместе обустраивали грядущий коммунизм и проводили культурный досуг. Каким образом они будут все это строить, если они и не строители, и не архитекторы, и ничего у них нет, кроме желания в этих квартирах поселиться? Дом-то построить — это не сортир на даче. Да и сортир пока построишь, сто потов сойдет. Нужна ведь какая-никакая квалификация. Разнорабочих на современной стройке особо много не надо. Не Днепрогэс, чай, бетон ногами не месят. Да и землю копают все-таки экскаватором.
Начальственное воспаленное воображение по поводу МЖК неожиданно стало воплощаться в жизнь. И такие комплексы появились по стране. И комсомольцы, а часто давно уже не комсомольцы, а просто работоспособные бездомные граждане за будущую квартиру работали на стройке бесплатно в свободное от основной работы время. Этакое хобби — песочек покидать часочек-другой. И вот Женя про такое МЖК узнал. Но узнал слишком поздно. Комплекс достраивался, разнорабочие были не нужны, а квартиры поделены. Но поскольку и у меня и у Жени никакого другого варианта получить собственную жилплощадь в перспективе ближайших лет двадцати не просматривалось, мы решили поиграть в эту игру с мизерными шансами.
Пришли в это МЖК. Сидит народ и что-то такое активно впаривает начальству. И начальство этот народ не прогоняет, а внимательно слушает. Оказалось, есть такие вполне реальные вещи — «целевые программы», и под них выделяется ни много ни мало — 200 квартир. Эти целевые программы были направлены на нездешнее развитие комплекса после того, как он будет достроен и заселен. Например, один великовозрастный комсомолец предлагал построить подъемник на спуске к Москве-реке и короткую, но вполне себе действующую горнолыжную трассу. К нам это отношения не имело. Но был и другой проект — создать компьютерную сеть, которая объединила бы ДЭЗ, школу, детские сады, поликлинику и жильцов. И вроде был шанс получить за квартиру работающую Эсэмку в качестве сервера, и персоналки где-то туманно прорисовывались, а компьютерный класс для школы был уже получен. Квартиры и были той валютой, на которую собирались развивать этот МЖК, а тверже валюты не бывает. Если тебе такое светит — да только брезжит, — ты эту Эсэмку вынесешь по частям под полой через любую охрану, соберешь — и будет работать как часы.
А вот это было уже про нас. И Женя начал методично проталкиваться в МЖК. Мы приходили в пустую квартиру, где заседало правление, как на работу, — почти каждый вечер, и мелькали, и участвовали в каких-то обсуждениях, правда, на непонятных условиях и с невнятными правами, но поскольку в компьютерах мы разбирались неплохо, к нам стали прислушиваться.
В этом клублении Женя чувствовал себя превосходно, а я еле держался. С моей точки зрения, все происходящее было тягостным бездельем. Вот программу написать — это пожалуйста, это без проблем. И обязанности наши мы с Женей поделили так: он пробивает проект, я пишу софтину, какую попросят, мы получаем по квартире, и наступает полное счастье.
В один из вечеров, когда все уже наговорились до полного изнеможения, речь как-то боком зашла о загадочной русской душе. И Женя рассказал историю.
На одной подмосковной птицефабрике затеяли радикальную модернизацию. А чтобы не пустить деньги на ветер (как всегда), кто-то больно умный решил заключить дорогущий контракт с голландской компанией, монтировавшей разделочные куриные линии, способные быстро и без потерь превращать квохчущее множество в готовых к употреблению бройлеров. Голландцы приехали, посмотрели, покивали головами и сказали: «Все будет ОК».
Привезли из Голландии все оборудование — вплоть до гаечных ключей и крестовых отверток, — и правильно сделали: если бы решили закупать инструмент на месте, то никогда бы не закончили. Линию собрали, наладили и запустили месяца за два, что само по себе выглядело как чудо. Никогда бы местные товарищи за такой срок даже из готовых комплектующих ничего толкового не собрали — минимум годок-другой, а там, глядишь, материалы и комплектующие куда-то подевались, надо новые заказывать, и так далее по кругу.
Работала линия так. Живую курицу подвешивали за ноги на транспортере и пускали в дело. Сначала ее окунали в крутой кипяток, перья у курицы вставали дыбом, и ее — еще живую — пропускали через аэродинамическую трубу, которая все перья с нее аккуратно сдирала, и только после этого курицу провозили над металлической полоской с высоким напряжением, которой она касалась гребешком. Разряд курицу убивал, и она, уже начисто ощипанная, шла дальше — на разделку, где ее потрошили, обрубали лапки и голову, паковали и отправляли по магазинам.
Голландцы все отладили, персонал обучили и уехали. Через полгода они поинтересовались, как идут дела, и были неприятно удивлены: производительность линии оказалась в раз десять ниже, чем у точно такой же, работающей в Голландии. Неленивые разработчики приехали посмотреть, в чем же дело. Приехали и ахнули. Местные умельцы линию перемонтировали. В самом начале процесса они поставили электрическую полоску — курицу сразу убивали током, и только потом все остальное. Но сколько ты мертвую курицу в кипятке ни купай — перья у нее дыбом не встают, а, наоборот, обвисают, и аэродинамическая труба почти бесполезна — курица остается неощипанной. И на российской линии в дополнение к голландским новациям поставили мужика, который, матеря на чем свет стоит хитроумных изобретателей, вручную выдирал перья — получалось долго и плохо. Когда разработчики указали на явное нарушение технологии, им ответили: «Это, может, у вас все такие безжалостные, а мы живого куренка в кипяток кунать не могем». Голландцы подивились нездешней русской доброте и уехали.
Женина байка имела успех оглушительный. Она не вызвала ни у кого сомнений: а так ли было-то, да и вообще было ли, не является ли эта история сочинением на заданную тему? Рассказ выглядел как несомненная правда. Да, конечно, только так и могло, и должно быть. Почему? Неужели какая-то парадоксальная доброта и фундаментальная глупость русского человека настолько очевидны?
Когда все отсмеялись, Женю отозвал в сторонку один из главных эмжэкашных комсомольцев и сказал: «Я вижу, ребята вы бравые, но квартиры получить вы сможете только в одном случае: если уволитесь со своей работы и придете в нашу поликлинику — ее компьютеризовать. Тогда шанс есть и высокий». Мы, ни секунды не колеблясь, так и поступили.
42
Откуда взялись в Советском Союзе такие сильные программисты при таком удручающем состоянии вычислительной техники? Это совершенно непонятно. На колене ведь писать не научишься.
А то, что наши программисты не хуже, стало очевидно уже в свободные времена: они выдержали конкуренцию с очень высокой американской программистской культурой. А там-то с машинами все и всегда было лучше всех.
Советский программист всегда работал на устаревшей, непрерывно падающей технике, на дырявой операционке, которую плохо перекроили из американского аналога, на ворованном компиляторе, без документации. Написать в таких условиях хоть что-то работающее — это чудо, и это — подвиг. Написать что-то работающее устойчиво — нельзя.
Свою лучшую программу я смастерил для школьного компьютера БК-0010, на котором не работало ничего, кроме копеечной демонстрашки. Я еще вспомню об этой истории.
Но стесненность в технических средствах компенсировалась нечеткостью, а иногда и полным отсутствием внешних обязательств — мы могли писать все, что хотели, экспериментировать, с чем хотели, и никто у нас над душой не стоял, и сроки давили не шибко. А мы самовыражались, преодолевая нечеловеческие трудности, созданные нам глупостью родного государства, которое, ориентируясь на собственное представление об оптимальной стратегии, решило, что воровать софт выгоднее, чем разрабатывать, и сделало ставку на цельнотянутые у американцев Еэски и Эсэмки.
В таких условиях ничего действительно стоящего написать нельзя, но можно научиться очень хорошо писать. Было бы желание. А желание у нас было. На вопрос: «Зачем ты в десятый раз переписываешь программу сортировки, если ускорять ее не надо никому кроме тебя?» — настоящий советский программист только презрительно смотрел на вопрошавшего. О чем можно говорить с профаном? И вдруг, просветлев лицом и воскликнув: «Так вот где тормоза!» — отворачивался к экрану (а то и к распечатке) и погружался в код.
Стесненность в средствах, вагон свободного времени и творческий порыв рождают шедевры.
Мы писали эмуляторы, просто чтобы пошла на твоей машинке программа, которая приглянулась на чужой; редакторы, помещающиеся со всем функционалом в 16 кило оперативки; обработчики оконных интерфейсов, даже не догадываясь, что они так называются. Нашей библией был третий том великой книги «Искусство программирования» Дональда Кнута — «Сортировка и поиск». Мы его читали и над ним думали. Сколько надо иметь свободного времени, чтобы заниматься такой фундаментальной ерундой, трудно даже представить. Особой фишкой было написание систем управления базами данных. Чуть ли не в каждой конторе была своя. Мы разбирали структуры данных без всяких описаний — просто анализируя и сравнивая дампы, перепахивали тонны кода, ползая по нему отладчиком. B+-деревья мы знали лучше, чем тополя под окном.
Если после такой школы попасть в нормальные условия, можно писать уже что угодно — и делать это быстро, точно, оптимально. Вот только захочется ли? Захотелось не всем. Потому что это уже была работа и рутина, а не увлекательная интеллектуальная игра. Но те, кто смог с собой совладать, добились успеха.
Впрочем, была у этой нашей забавы и оборотная сторона: мы предпочитали все делать сами — вручную, не используя готовые библиотеки, это и понятно — библиотек-то было крайне мало, но писать все с нуля — крайне неэффективно. Любая копеечная задача обобщалась до вселенских масштабов и становилась практически нереализуемой: если приспосабливать бытовой пылесос для уловления межзвездной пыли, вряд ли он когда-нибудь заработает. Мы не чувствовали сопротивления среды. Мы не учились делать проекты. Мы плохо понимали, что такое deadline. Мы были детьми и жили в кефире, как весь советский народ, впрочем.
43
В Костиной квартире появились «милосердные» люди. Это была самодеятельная организация помощи инвалидам. И Костя не только с удовольствием предоставлял свою жилплощадь для милосердных сборищ и склада протезов, но и сам принимал самое живое участие в деятельности этих ребят.
Это были люди для меня не очень интересные и совсем чужие. Они были по большей части бодры, веселы и абсолютно здоровы и занимались богоугодным делом. По мере того как их становилось все больше, меня становилось все меньше.
Костя и девушка по имени Лидок занимались весьма щепетильным делом: закупками и распределением протезов мужских половых органов. Есть и такая форма инвалидности, и, надо сказать, очень обидная форма.
Протезы закупались через западный благотворительный фонд, а до страждущих их уже доводили Костя с Лидком. Как уж этот протез там крепится, я плохо себе представляю, видимо, это зависит от характера травмы. Но помню, что непосредственно переговоры вела как раз Лидок. И Костя все удивлялся: «Какая она смелая девушка, вот так запросто обсуждает по телефону такие интимные подробности». Но когда дошло до примерок, тут и Лидок что-то засмущалась. Все-таки и для нее подобные моменты оказались совсем непростыми. Да и самим инвалидам, как выяснилось, легче иметь дело с мужчиной. Но Костя устранился. Решали милосердные товарищи эти проблемы без него.
Костя менялся. Он как-то неожиданно быстро стал этаким гуру. Знатоком всего, деятелем и сеятелем. Видимо, трудно, помогая другим, не возвыситься в собственных глазах.
Он и возвысился. Не хватило самоиронии, вероятно. А такого рода возвышение — вещь довольно опасная, потому что всегда чревато падением, и еще неизвестно, как ты это падение переживешь.
Костя решил резко поменять свою жизнь. Милосердная деятельность очень укрепила его уверенность в собственных силах, и он полагал, что теперь-то может добиться всего, чего захочет. А значит, сколько же можно заниматься всякой фигней — программки писать для каких-то непонятных лингвистов? Пора социализироваться в литературе по серьезному. Способ социализации он выбрал самый простой — Литинститут.
Я отнесся к этому его решению с некоторым недоверием, но сказал, что готов ему помочь, ежели таковая помощь понадобится. Костя кивнул: «Наверняка понадобится. Я хочу, чтобы ты прочитал мою новую статью и помог мне подготовиться к экзамену по истории, если до экзаменов дело дойдет. Пока-то надо еще творческий конкурс пройти». Я сказал: «ОК». Но про себя подумал: «Конечно, я историю знаю неплохо. А для школьного уровня так и вовсе хорошо. Но ведь чтобы кого-то к чему-то готовить, нужно еще понимать, как это делать». Купил программу для поступающих в вузы. Собрал школьные учебники и еще целую груду всякой дополнительной литературы. Что-то пришлось докупать, поскольку не все отыскалось в моих закромах. Занимался я школьным курсом с удовольствием и представлял себе, как все это весело и, главное, быстро Косте изложу. Я даже придумал некий мнемонический язычок, специально для шпаргалок.
Но, как отметил дальновидный Костя, сначала надо было пройти творческий конкурс. Поскольку поступать Костя собрался на отделение критики, надо было подать на конкурс две статьи. Статья о Веничке в связи с наступившими свободами оказалась очень кстати. А вот вторую надо было еще написать. Тему Костя выбрал актуальнее некуда — о лермонтовской «Тамбовской казначейше». Когда он мне это сообщил, я немного обалдел: «Родной, отчего же не про Симеона Полоцкого или уж сразу о композиции „Илиады“? Там, кстати, есть над чем поразмыслить — очень своевременная книга». К моим подначкам Костя отнесся холодно.
Статью о казначейше он написал. Идея была прямо-таки революционной: Костя доказывал, что на самом-то деле тамбовский казначей проиграл жену нарочно — достала она его, просто глаза бы не глядели, и он решил таким изящным образом от нее избавиться. Я Косте не поверил, поскольку ничего такого у Лермонтова не увидел. Ну да ладно, главное, чтобы они взяли. И эти таинственные «они» взяли. Но эти «они», может, для меня были таинственные, но не для Кости. Курс набирал критик Игорь Виноградов. Поэт Сахаров, питавший к Косте чувства исключительно теплые, — староста кружка все-таки — написал остроположительную рекомендацию, да еще и частным образом похлопотал. Были мобилизованы все необходимые ресурсы, и творческий конкурс Костя прошел на ура. Предстояли экзамены. Они, конечно, мало что решали, но хоть какие-то знания продемонстрировать не помешало бы. Так что моя работа, кажется, была весьма кстати.
Но когда в заранее условленный день я пришел к Косте со своими разработками, он сделал вид, что забыл о своей просьбе. А я мало того что потратил изрядное время на эту самую подготовку к подготовке, но и был вынужден отменить нашу с Олей поездку в Михайловское, куда мы очень хотели выбраться. Мы даже договорились с любимой тещей, оставили ей на несколько дней Кузю, и у Оли замаячил просвет в милом детском аду, который, конечно, очень мил, но в больших дозах еще и утомителен очень. Пауза была ей необходима. И вот из-за Костиных экзаменов поездку пришлось отменить.
Воронич… Сороть… Кучань… Оля выходит из холодной озерной воды — ее розовое тело светится в закатных лучах… Не случилось.
А Костя «забыл». Он бодро рассказывал мне, как готовится к экзамену, какие книжки читает, карточки какие-то с датами показал. А я смотрел на него и никак не мог поверить, что все так просто. Что мой немалый вообще-то и ненужный мне самому труд просто так взяли и вычеркнули за ненадобностью. Вполне возможно, что затея с подготовкой Кости к экзамену была нелепой: какой из меня, в конце концов, профессионал-репетитор? Ведь никакой. Наверное, Костя сам подготовился лучше, все-таки не дурак же он круглый, чтобы не разобраться с таким детским курсом, да и экзамены эти были если и не вовсе формальностью, то и не слишком трудны — главное уже было решено. Если бы мой друг позвонил мне и сказал, что не нуждается в моей помощи, даже если бы он просто извинился, когда я приехал к нему со всеми моими разработками и мнемоническим языком, я бы понял. Но он «забыл».
Я смирился и со вздохом простил Костину забывчивость. Но что-то было в этом не вполне нормальное, какое-то нарушение коммуникации.
45
В Литинтитут Костя поступил. В семинаре Игоря Виноградова сразу стал старостой. Произвел сильное впечатление на своих профессоров. А профессора были у него серьезные. Мариэтта Чудакова его просто полюбила. И познакомила со своей аспиранткой Аней Герасимовой, которая писала у нее диссертацию по обэриутам, одно из первых в СССР филологических исследований, посвященных этим прекрасным поэтам. Вот тогда я Косте даже позавидовал, поскольку песни Ани Герасимовой — мне более известной как Умка — знал и любил.
А Костя стремительно вырастал в собственных глазах, на дрожжах окружающего восхищения. И делал все новые смелые и решительные шаги в блестящее будущее, открывающееся перед ним с каждым днем все шире.
Был теплый сентябрьский день. Мы встретились в «Копакабане», придворной литинститутской забегаловке на Большой Бронной. Встретились не просто так. Костя решил, что он совсем самостоятельный и пора заняться настоящим делом. Он уволился с филфака и придумал, что более правильно делать самостоятельные проекты для нарождающихся программистских шарашек, вроде кооператива С-77, в котором я работал. Кооперация наша занималась всем, что подвернется, но специализировалась на поставках персоналок и разработке софта для строительных организаций.
У Кости появился заказчик. Маленький человечек Гоша. Бойкий, все время куда-то спешащий, деятельный, но не так, как наши знакомые активные раздолбаи, Гоша этот правильно деятелен — он деньги зарабатывает. А деньги вдруг закапали. Неожиданно треснул бронированный сейф, в котором хранились «безналичные рубли», и сквозь эти еще крохотные щелочки появилась возможность их превратить в наличные. Эти «безналичные деньги» — понятие виртуальное. Они не есть, а как бы есть. И некоторые умелые люди могут совершить этакую материализацию чувственных идей. Всем ясно, что если, не дай Бог, не то что все эти «безналичные деньги» — просто цифры на счетах каких госконтор — превратятся в наличные, но даже если малая часть этих виртуальных богатств материализуется — экономика рухнет. Ну нету здесь такого количества товаров, чтобы их на эти как бы деньги покупать, просто нету. Эти «безналичные» не обеспечены ни золотым, ни товарным запасом, ни валовым продуктом, ничем вообще. Их же не мерил никто. Так — плюс-минус миллиард, да и то вбуханный в какой-то хронический недострой. И ясно, что перепадет только первым. Вот Гоша и суетится. Схема проста как грабли. Доступ к «безналичному» океану имеют госпредприятия, а обналичить можно через кооперативы, которые как бы что-то для госпредприятий делают. Собственно, мой родной С-77 так и живет. Кое-как живет, но хоть как-то.
Прямо в том же здании, где располагается наш С-77, пару комнат занимает небывалая контора — коммерческий банк. Но мудрый Женя говорит банковским ребятам: «Я поверю, что вы настоящий банк, если у вас появится хранилище наличных. Пока этого нет, вы — чистая фикция». И это правильно. Между безналичными и наличными — бездна. А доступ к золотой капели, подтекающей из госконтор, совсем не прост.
И Костя зовет меня поучаствовать в подобном проекте. Калиострой поработать. То, что он уволился с филфака, мне совсем не нравится. Хоть какая-то, но все-таки определенность. Костя полон идей и планов. Я скрепя сердце соглашаюсь попробовать — у меня и своей работы выше головы, но не могу отказать любимому другу. Завтра едем к Гоше.
46
Гоша руками машет и все время повторяет: «Да там все элементарно. Не бином Ньютона». Знает ли он, что такое бином Ньютона, я не уверен. «Есть районное объединение автосервисов». Ну вот появилась корова, которую следует доить. «Головная контора в Люберцах, а сами автосервисы разбросаны по всему району. Я придумал сделать сеть сбора данных. Саму сеть будут делать другие люди. Они предлагают радиорелейную связь. А от вас я хочу вот что. В каждом автосервисе ставим компьютер и на него программу ввода данных — детали всякие, накладные, расходные, сколько, чего, почем, заносим в машину и данные по сети передаем на центральный компьютер. А там их собираем и отчеты выводим на принтер. Информация передается оперативно. Все все знают. Красота! Я сразу плачу авансом половину стоимости программ. Три тысячи». Костя смотрит на меня. Он ничего не понимает. Я все понимаю. Работать не будет. По тысяче причин. Но продолжаю слушать, поскольку наша цель не запустить систему, а деньги получить. А это не одно и то же. Я уточняю: «Какие компьютеры вы собираетесь ставить в автосервисах?» — «Специально для этого закупаем партию компьютеров БК-0010». — «Это что за зверь?» — «Школьные машины. Для компьютерных классов. Сейчас их производство мощно разворачивается. Они дешевые, но от них много и не надо. Ввести данные и сохранить на бытовом кассетном магнитофоне. А центральная машина — ЕС-1041 — советская персоналка». — «Эту я как раз знаю. А как передавать?» — «Ребята, которые сеть делают, установят устройства, которые считывают данные с БК и передают в сеть». — «Нам надо подумать». — «Вы только думайте быстро. А то мы другим отдадим, желающих-то полно кругом». Мы откланиваемся. Выходим на улицу.
Костя смотрит на меня выжидающе: это его первый проект, он на него очень рассчитывает. Надеется, что это такое мощное начало, а дальше все будет круче и круче, вперед и вверх, а там… Ну ясно, что там — золотые горы свободы. Деньги сразу предлагают — и это не зарплата на филфаке. Даже сравнивать неудобно.
Я молчу. Опять разводилово. Ох, да когда же мы хоть что-то дельное напишем!
— Ну, не молчи. Что ты думаешь?
— Костя, работать ничего не будет. Сеть они не сделают. Какие, блин, радиорелейки? Они что, прифигели там? А если не прифигели и сами все понимают, значит, делать и не будут.
— Но почему ты все время думаешь про сеть? Это же не наша задача.
— Если бы это была наша задача, я бы сразу ушел и не думал бы, и не молчал. В том-то и дело, что можно попробовать проскочить.
— Знаешь, у меня последнее время с деньгами трудности. Но это не главное, просто хочется попробовать серьезное дело.
— Хорошо. Давай попробуем. Звони этому Гоше. Только пусть уж они нам эти Бэкашки дают.
47
Аванс мы получили буквально на следующий день. А дальше весь проект лег, естественно, на меня, поскольку Костя, во-первых, был очень занят, а во-вторых, ничего делать толком не умел.
Привезли две Бэкашки. Поставили на мой рабочий стол прямо в родной кооперации. Женя посмотрел, послушал мой печальный рассказ, головой покивал и сказал: «Ох, ребята, похоже, вы вляпались». — «Похоже. Ну что же делать, если такова непреодолимая сила обстоятельств». Каких именно обстоятельств, я уточнять не стал.
Программа для ввода данных на Бэкашке была простейшая. Но Бэкашки эти делали люди, которые и не рассчитывали, что на этом металлоломе кто-то будет работать. Тем более программы писать. Там все было сделано не для работы, а для ее демонстрации.
Короче, ситуация оказалась элементарная, потому что ответ был один — прямой и строгий — аванс надо возвращать. Я-то свою половину вернул бы тут же, но ведь и Косте пришлось бы поступить также.
Пришел коллега Сорочкин — крутой профессионал. Я говорю: «Вот такая жопа нарисовалась». Сорочкин взял листочки с документацией. Покрутил. «Эту жопу можно объехать, но на очень хромой козе. Гонишь графическую память поганой метлой, чтобы оперативку не засирала — и вот у тебя 27 кило для ассемблерной программы и для твоих данных. И можешь писать и ни в чем себе не отказывать. Ассемблер здесь от PDP, ты его должен помнить. Документацию я тебе дам. Но ассемблировать, это тебе не на Бэйсике лабать. Пошли ты по матери эту затею».
Я эту затею не послал и программу написал на ассемблере. Это был безусловный шедевр. Я разместил на кончике иглы 1000 ангелов. Вот кому это было надо? Точно не Гоше. Его бы и один вполне устроил.
Кончился весь этот наш с Костей проект полным провалом. Программу-то для Бэкашки я написал, но до конца дело так и не довел. У меня банально не хватило времени на рисование отчетиков для центральной машины. И мне все-таки пришлось вернуть аванс. Весь — за нас обоих с Костей. У него денег просто не было.
Костя прекрасно понимал, что взял деньги и устранился. А всю ответственность свалил на меня. И было ему очень совестно.
Пока я бился над этой программой, Женя ходил и молча смотрел на мои муки. Когда все кончилось обломом, он между прочим рассказал одну из своих историй.
— У меня есть знакомый. Он провернул замечательный проект: издал книжечку стихотворений Набокова — 10 страничек на скрепке — тиражом 100 тысяч. Продал тираж буквально за месяц и купил квартиру в центре.
— Да видел я эту книжечку…
— А вот не торопись. Конечно, для такого начитанного, как ты, это несерьезно. Но ведь таких немного. А людей, которые что-то про Набокова слышали, но ни строчки не прочли, — куда больше. Они пришли и эту убогую набоковскую книжечку купили. Качественное это издание? Даже смешно спрашивать. Успешен ли этот проект? Тоже спрашивать не надо — квартира-то вполне себе есть, и он в ней живет.
— То есть главное — впарить тупому, как полено, потребителю любое дерьмо, а там и трава не расти.
— Почему дерьмо? Стихи-то отличные, и прочли их многие. Так что прямая польза для народного просвещения.
— Но ведь есть объективное качество продукта…
— Теперь ты говоришь, как голимый совок, потому что ничего не понимаешь в «качестве». Если все что угодно с руками оторвут, все по штуке в одни руки, отсутствует обратная связь, и настоящий контроль качества невозможен. И ничего не поможет — ни ОТК, ни знаки качества, ни прочая мутотень. Потому что никакого объективного «качества», за которое в Совке горло драли, не бывает. Здесь нужен рынок.
— Вот я и говорю, навалить дерьма на лопате — и пусть хавают…
— Опять ты про то же. Вот ты написал очень крутую программу. И чувствуешь себя молодцом. Но ведь если посмотреть строго — ты же всех подставил и себя самого тоже. Что значит один очень хороший модуль в неработающей системе? Чем он лучше очень плохого? Ничем. А проект не сложился. Может, и нужна-то была как раз копеечная демострашка — первый черновой набросок, но не одного модуля, а всей системы. Если бы она вся задышала, тогда бы и переписывал.
— Да такой демострашкой никакой бухгалтер не стал бы пользоваться!
— А твоей суперпрограммой пользуется? Откуда ты знаешь, что эта демострашка для бухгалтера? Может, она для одного контрольного показа, и ты бы сам за клавой и сидел. Показали бы — по рукам ударили. Получили новое финансирование — и дальше развивай, доводи до совершенства. Или хоть бабок срубили бы немного.
— Если я знаю, как сделать лучше, я должен сделать лучше.
— Золотые слова! Но только если ты на самом деле знаешь, что лучше, а не из пальца высосал. А узнаешь ты, когда у тебя этот продукт купят. Купят, понимаешь? Мани-мани. Если купили, гарантия некоторая есть, что ты сделал не хорошее, не качественное — это все вещи эфемерные, — а что-то нужное, полезное. Мы с тобой про несделанную работу не говорим — техзадание нужно выполнять. Но сделать-то можно очень по-разному. Ну вот нужен сейчас Набоков на скрепке, как воздух, — и все жители этой страны готовы отдать за него последний рубль, а больше — даже за наилучшего Набокова не готовы, потому что нету у них больше! А ты не продукт делаешь, ты самолюбие свое хочешь потешить, пишешь, как тебе нравится. Тогда не жди, что тебе за это кто-то заплатит. Все наоборот — это тебе придется за это платить. Вот ты сейчас обжегся — и хорошо, поскольку не до смерти. Значит, окрепнешь. Давай просыпайся, кончился Совок.
— А как же стихи?
— Стихи они для вечности, а про этот сегмент рынка никто ничего не знает.
— Женя, откуда ты такой умный?
— Учителя хорошие были, — неопределенно ответил Женя и куда-то засобирался.
49
Последний Костин день рожденья на Чертановской. Собралась небольшая компания. Выпускница Лерочка, Таня Полежаева — обычно-то она ходила в каком-то труднопредставимом прикиде, а тут пришла в элегантном платье с аппликациями и выглядела просто блеск — глаз не отвести, Танечка-маленькая в вечной своей кожаной юбке, милосердный Лидок, Муров, со своими льняными кудрями. Мы с Олей.
Мы немного выпивали, и разговоры были какие-то легкие — ни о чем, никаких трудных вопросов. Лерочка гладила кота. Оля, убежавшая на несколько часов от детских забот, была весела и расслаблена. Муров все время заводил на магнитофоне Гребенщикова: «И можно говорить, что ты играешь в кино о людях, живущих под высоким давлением, но с утра шел снег».
И Костя был тих и как-то особенно мил — с него вдруг слетела вся его загурелость. Он больше слушал, совсем мало говорил. Впрочем, это и не требовалось. Муров старался за всех.
Костя уже знал, что Чертановская кончилась. Хозяин квартиры потребовал, чтобы Костя съехал. Хозяин этот собирался делать ремонт и сдавать жилье некоему кооперативу гостиничного типа совсем за другие деньги, каких у Кости быть не могло. Начинались новые времена.
А в Литинституте, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, тоже необходимо хотя бы немного учиться. Виноградов просил Костю переписать статью о Веничке. А у Кости все руки не доходили. Надо было сдавать экзамены, а это Костю очень расстроило. Одногруппники сделали ему почти все контрольные и курсовые, но что-то все-таки надо было и самому. Ну чуть-чуть напрячься. С деньгами тоже было плохо. Аванс он давно потратил. Да и понимал, что аванс-то ведь не его. Ничего он для него не сделал. А других проектов, которые возникали в Костиной голове в период активности, почему-то не случилось.
Когда Костя сказал, что это его последние дни на Чертановской, я отнесся к его сообщению абсолютно спокойно. «Ну и ладно. Обретешь покой и волю. Что-нибудь стоящее напишешь». — «Может, и напишу». Уверенности в голосе не было никакой.
Оля дохаживала последние дни. Она была полностью погружена в себя. И к себе настороженно и чутко прислушивалась. Живое существо дрыгало ножкой, двигалось. Оно уже было почти человеком.
Около полуночи Оля сказала: «Пора». Мы собрали ее вещички и пошли. Было прохладно и совсем тихо. Деревья голые, а снег уже стаял, только кое-где грязные сугробы, как скомканные бинты. Сравнение неприятно кольнуло. Мы решили немного пройтись. Шли и тихо переговаривались. Оля вздохнула: «Беременность — это как приговор. Обжалованью не подлежит. Никуда не денешься — придется рожать. Ну, давай поедем».
Тормознули машину. Водитель посмотрел на Олин живот. Кивнул: «Я аккуратно. Минут через пятнадцать будем на месте».
Я сдал Олю в приемный покой. Мне вынесли ее одежду, и я поехал домой. Сел к столу и решил немного поработать…
Будит любимая теща: «Просыпайся, просыпайся! Оля звонила. Она в порядке. Мальчик! Сын!». Никакой такой радости я не чувствую, только облегчение. Хорошо, что с Олей все хорошо. Бабушка всплескивает руками: «Я ее спрашиваю, какой он, прекрасный наш мальчик! А она говорит: „Как дедушка с похмелья, очень похож“. Ну как она так может говорить!». Оля верна себе. Никакой пафос к ней не липнет.
И постепенно до меня начинает доходить, что у меня родился сын… Сын… Сын! Наследник. Да вот будет ли что наследовать-то?
С именем младенца у нас возникли проблемы. Я хотел назвать его просто и скромно — Платон. Оля не возражала. Но взбунтовались бабушки и дедушки. Им Платон категорически не нравился. У них были свои версии, но они не нравились нам. Младенец жил себе и вес набирал. Безымянный. И совершенно по этому поводу не расстраивался. Но нужно было выписывать свидетельство о рождении — придавать свершившемуся событию официальный статус. Оля предложила — Арсений. Мне очень понравилось. Но опять это не устроило старшее поколение: «Ну что это за имя? Сенька? Вы ребенка не любите совсем».
И мы сдались. Раз уж нет согласия — оставайся безымянным. И назвали ребенка просто Иваном.
Как-то маленький Ваня задумчиво сказал:
— Все-таки, папа, мы с Кузей маму любим больше, чем тебя.
— Почему?
— Мы с мамой дольше знакомы.
Возразить трудно.
51
С квартирой все получилось, хотя в это и трудно поверить. Я написал набросок софта для поликлиники. Его радостно приняли и зачли как выполнение целевой программы.
Потом все стремительно разладилось, машины не купили, сетку — не то что на весь огромный комплекс, но даже на одну поликлинику — не протянули. Но нам-то что? Квартиры есть. К тому же в МЖК организовался С-77. И мы начали работать над своими проектами.
Так мы верхом на недощипанной курице и въехали в рай. А когда родился Ваня, нам вместо запланированной двушки дали трехкомнатную.
Получение квартиры я отпраздновал стихами. Правда, не про «халтурные стены московского злого жилья», а помягче: «И гордо голову держа, домовладельцем краснорожим с тринадцатого этажа плюю на головы прохожим». Но это наша двушка, в которую мы так и не успели въехать, была на тринадцатом, а трешка — уже на первом. Квартиры на первом этаже заселять вообще не планировалось, но жизнь поменялась, и их тоже раздали страждущим. Оле так нравилась наша первая квартира, что она даже хотела от трешки отказаться, — на первом этаже не было балкона, а если нет балкона, то где же будет жить наш водолаз, которого мы непременно заведем? Ему ведь жарко в квартире. Тогда мудрый Женя сказал: «Если вы без балкона не выживете, я лично приду и вышибу стену — в любой комнате на выбор. Будет — большой балкон». И Оля смирилась.
Мебели у нас было совсем мало: наша двуспальная тахта, Кузина кушетка да Ванина детская кроватка. И еще круглый стол — он растопырился всеми своими четырьмя ногами, и внести его через дверь не удалось. Пришлось подавать через окно — благо первый этаж. Квартира стояла пустая и казалась огромной.
Костя перебрался на дачу в Салтыковке. Это было довольно запущенное строение. Но жить там было можно. Туалет — на улице, зато вода в доме. Уже кое-что. Столько лет мы на таких дачах обретались — ничего страшного. В Литинституте все постепенно сходило на нет. Костю еще не отчислили, но появлялся он там, даже на семинарах у Виноградова, все реже.
Он вернулся на прежнюю свою работу — на филфак. Его встретили с радостью, но он-то понимал, что это фактически признание своего поражения.
Но главное, чем отличалась Салтыковка от Чертановской, — она была далеко, здесь не было телефона, и почти никто из постоянно толпившихся на Чертановской гостей сюда не добирался. Иногда наведывался я, иногда Таня Полежаева. Мурова я не встретил ни разу. Здесь стояла абсолютная тишина. А тишина располагает к размышлениям. И не всегда приятным.
Я приезжал. Мы разговаривали о поэзии или о Толстом, но скорее по инерции. Чувствовалось, что время разговоров заканчивается. Что будет дальше — неясно, но точно не разговоры. О чем тогда думал Костя, я узнал позднее.
Когда начался дачный сезон, из Салтыковки пришлось уезжать. Жить негде. Денег нет. С ценами творится что-то непонятное. И Костя поселился на Павелецкой у знакомого, которого ему порекомендовал отец Александр. А Костя стал вполне воцерковленным прихожанином. Денег за жилье с него не брали, у него даже была отдельная комната, но он должен был помогать ухаживать за престарелым инвалидом — отцом хозяина квартиры. Представить Костю в роли сиделки я не мог. Поэтому старался не представлять.
В начале июня мы встретились на Павелецкой и бродили в районе вокзала. Пахло бензином. Летел тополиный пух. Мы зачем-то перелезли через ограду и долго рассматривали стоящий за стеклом паровоз, на котором привезли труп Ленина из Горок. Потом я проводил Костю домой к его санитарным обязанностям.
Он смущенно сказал: «Знаешь, я что-то последнее время часто размышляю — то ли из окна прыгнуть, то ли повеситься. Широкий выбор возможностей». Я не придал его словам никакого значения. «У меня тоже бывает. Я как-то погрузился в черную меланхолию и заявил Оле, что пойду прыгать с 22-го этажа. На что Оля совершенно спокойно прыснула мне прямо в физиономию из газового баллончика. И я вместо того чтобы с балкона прыгать, весь в слезах и соплях отправился в ванную промывать глаза. Больно было по-настоящему». Костя рассмеялся: «Оля — молодец». — «Молодец».
Прощаясь, Костя, как будто вдруг что-то вспомнил, посмотрел на меня и сказал:
— Мне всю жизнь все что-то дарили. А я не знал, что подарки-то надо отдаривать.
53
Бесцельность нашего существования была самозамкнута и полна. Было в этом что-то эстетическое. Но оказалось, что такого рода система неустойчива для внешних колебаний, даже малых. Оказалось, что она может существовать только в идеальном пространстве, где прагматические цели отсутствуют. Оказалось, что наш малый мирок, как глубоководная рыба, способен выжить только при сильном внешнем давлении, как некий паллиатив деятельности.
Когда давление упало и прагматические цели стали реальностью, люди из этого мирка стали уходить. У кого-то появилась возможность влиять на политический климат в стране, кто-то уехал в командировку в Китай, кто-то серьезно занялся журналистикой, как Муров, кто-то стремительно учился делать деньги, и некоторые в этом непростом занятии преуспели.
Если другие обитатели нашего малого мирка лучше или хуже, но осваивались в новых условиях, то сам центр — любимый наш Костя — завяз в этом мирке по самые ноздри и что ему делать — не понимал. Востребованы оказались качества, которых у него просто не было, например ответственность и упорство в достижении цели.
Весь Костин капитал состоял из неопределенных надежд и неотработанных авансов, и предъявить что-то серьезное он не мог. Нельзя же всю жизнь носить свое сочинение о Веничке как медаль.
Костины отношения с родителями для меня всегда были загадкой. Я ушел из дому в 18 лет, но все-таки меня мои родные и выручали и поддерживали, и, наверное, окажись я совсем без жилья, мог бы вернуться и какое-то время пожить у родителей. А Костя не мог. Кажется, единственным родным человеком, с которым он поддерживал более-менее постоянную связь, была его бабушка. У нее была комната на «Киевской», и Костя ее регулярно навещал.
В свой день рожденья я позвонил Косте на «Павелецкую». «Костя, приезжай, посидим». Костя ответил странно: «Почему бы и нет?». И приехал. Праздновали вчетвером — мы с Олей, Сергей Ильич, аспирантствовавший на мехмате и очень кстати застрявший в Москве по случаю приемных экзаменов, и Костя. Он меня поразил — приехал с подарком. Это просто был не Костя. И с каким подарком! Он преподнес мне переплетенную ксерокопию «Вех». Я просто не поверил своим глазам.
Мы немного выпили. Костя выглядел вполне бодро, несмотря на все свои проблемы. Он продекламировал:
— Свисаю с вагонной площадки, прощайте. Прощай мое лето, пора мне…
Ильич хмыкнул.
— Прости, Костя, но наш именинник этой «Сигулдой» притомил еще в Сигулде лет десять назад. Он тогда нам с Аркадием ее раз пятьдесят прочитал и в целом, и по частям. На всю жизнь хватит.
Костя не сдавался:
— Я буду метаться по табору улицы темной…
На этот раз его остановила Оля:
— Вы бы, господа литераторы, что-нибудь разное читали. Я уже про этот табор слушать не могу.
Костя горько усмехнулся:
— Значит, все вытоптано.