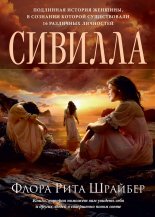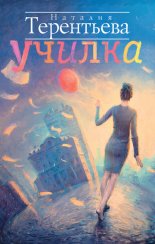Обращение в слух Понизовский Антон

Я не поленился, проверил все поцелуи. В двух главных романах.
Целуются у Достоевского — сразу скажу — активно: сестры с братьями, братья с сестрами, братья с братьями, в том числе в губы (так было принято у мужчин в России), целуют руки, ноги… о да-а! Дико любят целовать ноги — не в эротическом смысле, а в смысле унизиться — ноги, следы этих ног, сапоги целуют неоднократно… Главные персонажи целуют родную землю — хотя автор вынужденно признает, что родная земля грязновата… «Как стоял — так и упал он на землю! Стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастием…» Целуют письма, портреты, могилки, мертвую лошадь… Не помните? По-омните: «С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы…»
— Тьфу! — сказала Анна.
— Дарлинг, это дети в школе проходят. В девятом классе, если не путаю…
Но если все это пугающее разнообразие опустить — и ограничиться поцелуями между людьми а) разнополыми; б) не состоящими в родственных отношениях, — то останется в двух толстых романах — шесть эпизодов. Всего-о!
Шесть маленьких эпизодов. Всё строго поровну: в «Преступлении и наказании» три поцелуя — и в «Карамазовых» три поцелуя.
Мертвые лошади не считаются. Брат и сестра, муж и жена — не считаются. Только мужчина — и посторонняя женщина.
Вы представляете? На два здоровенных романа — один вообще эпопея четыре тома — по три поцелуя между мужчиной и женщиной. Просто рекорд.
В числе шести эпизодов — один особенный. Вот он.
Дмитрий Федорович Карамазов, Митя, двадцать семь лет, везет Грушеньку, двадцать два года, с бубенцами на тройках кутить, ну и целует, в процессе… Грушенька приговаривает в перерывах: «Целуй меня, целуй крепче, вот так. Любить, так уж любить!..» («Стрелять так стрелять» хочется добавить…) «…Раба твоя теперь буду, раба на всю жизнь!.. Целуй!.. Стой! Подожди, потом, не хочу так… — оттолкнула она его вдруг: — Ступай прочь, Митька, пойду теперь вина напьюсь… пьяная плясать пойду…» и так далее.
Не знаю как вам, а мне как-то не особенно эротично. Вроде идут по программе: на тройках приехали — ну, шампанское, пляски, это, цыгане, ну и поцелуи тоже в наборе… В ассортименте. Положено вроде: на тройках приехали… Но целуются — а сами думают о своем…
И все же, при всех оговорках, сцена с Митей и Грушенькой — это что-то особенное. Это что-то, я бы сказал, из ряда вон выходящее.
Знаете, что здесь особенное? Возраст женщины.
Двадцать два года — не то чтобы сильно много, но все-таки половозрелая…
— Как неприятно ты выражаешься, — сморщилась Анна.
— Да. — Дмитрий Всеволодович не то согласился с женой, не то заключил свою предыдущую фразу. — В то время как остальные пять из шести эпизодов… Я повторяю! это шесть эпизодов на два огромных романа, главных в творчестве автора: и из этих шести эпизодов в пяти — мужчина целует девочку. Не взрослую женщину, а — Достоевский подчеркивает это — девочку!
И пять раз из пяти — на фоне страдания, сопротивления, унижения, принуждения…
Номер раз. Тот же Митенька Карамазов:
«…в темноте, зимой, в санях, стал я жать одну соседскую девичью ручку, и принудил к поцелуям эту девочку, дочку чиновника, бедную, милую, кроткую, безответную. Позволила, многое позволила в темноте…»
Это — раз. Не говорится, сколько лет было «девочке», говорится только, что «девочка». «Бедная, безответная»…
Номер два. Это уже «Преступление и наказание». Раскольникова целует Соня. Юридически говоря, Соня — взрослая, хотя по самой нижней границе, ей восемнадцать — но в описании автор все время упорно подчеркивает: «…девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на девочку… домашнее платьице… оробела, как маленький ребенок…» И снова, очень настойчиво: «…худенькое и бледное личико…» Вот! «В лице ее, да и во всей ее фигуре, была одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком». Главная, особенная, характерная черта: девочка, маленький ребенок. Это особенно важно автору, в первую очередь.
Три. Свидригайлов целуется с девочкой, ей пятнадцать: «Можете себе представить, еще в коротеньком платьице, неразвернувшийся бутончик, краснеет, вспыхивает… детские еще глазки, робость, слезинки стыдливости… Светленькие волоски, губки пухленькие…» Так…
Номер четвертый. Алеша Карамазов целуется с Лизой, четырнадцати лет… Лиза, если помните, инвалид, она не ходит…
И наконец, номер пятый — к вопросу о пухленьких губках — десятилетняя девочка Полечка. «Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело, по-детски, на него смотревшее… положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть, — он сам не знал почему…» — прочитал Дмитрий Всеволодович с особенным выражением. —
«— А кто вас прислал?..» Бла-бла-бла… Вот:
«— А меня любить будете?
Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его… Тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу… Прижимаясь к нему все крепче и крепче… Заплаканное личико…
— Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться! — горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его… Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес, и… девочка ушла в совершенном от него восторге».
Этот номер с девочкой Полечкой и пухленькими губешками особенно крут, если учитывать, что две минутки назад у девочки Полечки помер папочка.
Две минуты — буквально! Ну, пять. На глазах у ребенка умер отец! раздавленный, как все помнят, телегой. Раскольников произносит небольшой абзац текста — уходит — его на лестнице догоняет дочка раздавленного отца и ап! — «по-детски весело засмеялась», «тянется теплыми губками» и «ушла в совершенном восторге»!..
Смотрите: не просто «маленькие», не просто «слабенькие» — еще желательно, чтобы была инвалид, а еще лучше, чтобы отца задавило, чтобы было какое-нибудь унижение, чтобы слезинки поблескивали — вот тогда прямо совсем хорошо…
Дмитрий Всеволодович выпил воды. У Федора на душе было тяжко, но слушал он со вниманием.
— Надо признать, — продолжал Дмитрий Всеволодович, — что все эти эпизодики с детскими личиками и безответными губками — эпизоды короткие, не центральные. Ощущение, что все они где-то сбоку, наскоряк, в какой-то темной подворотне… то на лестнице темной узкой кривой… то в санях под пологом, в темноте, как-то криво все, наскоро, неудобно, негде автору от души развернуться…
Оно понятно: «Лолиту» когда у нас напечатали? Что-то лет через сто после «Преступления и наказания»? И то был страшный международный скандал. Так что Федор-Михалычу в тысяча восемьсот шестьдесят каком-то году тему пухленьких детских губок не стоило слишком уж развивать… Костей не собрал бы. Так что — по краешку… кривенько, маргинальненько…
Зато есть описания, где Федор-Михалыч дал жару уже — каламбур! — не по-детски. Есть описания, где уже не намеки по типу «много позволила в темноте» — а все смачно прописано, и что позволила, и кому, и куда; и непонятно, что это вообще такое: то ли ещё художественная литература, то ли уже что-то за гранью… добра и зла…
Чтобы не выглядело как предвзятость, я снова жестко привязываюсь к лексике.
В девятнадцатом веке, в каких-нибудь шестидесятых-семидесятых годах, не в ходу было слово «эротика», «эротичность». Не говоря уже «сексуальность». Использовались другие слова — «наслаждение» и, буквальнее — «сладострастие».
Я начну с более слабого, с «наслаждения».
«Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают…» — говорит Раскольникову Мармеладов. «Ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше».
Мне это нравится: «Оно лучше».
Жена «схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, ползя за нею на коленках.
— И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в на-слаж-дение, милостивый государь!..»
«В на-слаж-дение» Достоевский сам написал по слогам. Он подчеркивает: наслаждение связано с чувством вины. Алкоголика — а Мармеладов клинический алкоголик — наказывают, и в момент наказания он вместе с болью испытывает наслаждение.
Мы эту связь для себя помечаем: преступление — наказание — наслаждение… Здесь же, в скобках, запойный алкоголизм… И, не задерживаясь пока на этом, движемся дальше.
В том же романе — сцена публичного покаяния. В общем-то, психологическая развязка: «Он стал на колени посреди площади, поклонился и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастием».
Обратите внимание, счастье и наслаждение здесь испытывает — кто?
Убийца.
Вообще, если вдуматься: кто главный герой двух самых главных романов Федор-Михалыча Достоевского?
Кому мы сочувствуем что-нибудь страниц пятьсот «Преступления и наказания» и тысячи так полторы страниц «Карамазовых»?
Это убийцы.
В первом случае — непосредственный и реальный убийца Раскольников, во втором случае — убийца, я бы сказал, мистически-коллективный: вы помните, к отцеубийству причастны по крайней мере три брата — Дмитрий, Иван — и Павел Смердяков, который тоже их единокровный брат. Парадоксально, что Дмитрий — ударил и в принципе физически мог убить. Павел реально убил. Но при этом мистически самый виновный — Иван, который в момент убийства находится вообще в другой географической точке — в деревне Чермашне. Чермашню тоже запомним.
Достоевский так строит логику повествования, что виноват в первую очередь Иван, поскольку он ненавидел отца больше всех. А что убил чужими руками — неважно, не суть.
Другой интереснейший момент в двух романах — это описание жертв убийства.
Жертвы в обоих случаях — отвратительные. Тошнотворные. Вы обращали внимание, насколько похожи Федор Павлович Карамазов и старуха-процентщица? Они страшно похожи!
«Старуха была подозрительна… Жиденькие волосы, жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку… Крошечная, сухая старушонка, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом… На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу…» Бр-р. И кстати, вот еще важно: прямо перед убийством Раскольникову «показалось в ее глазах что-то вроде насмешки».
А вот Федор Павлович Карамазов, которому, между прочим, автор дал свое имя:
«Кроме длинных мешочков под маленькими его глазками, подозрительными и насмешливыми, кроме морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему отвратительно-сладострастный вид… Обломки черных, почти истлевших зубов… Брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить…» Ну, понятно. Предел физического отвращения. Алкоголик, что важно. Свел в гроб мать Ивана и Алексея. «Завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство»…
Итак. Оба злющие, жирно-востренькие, мозглявенькие, подозрительные и насмешливые, с морщинистой шеей… Ни разу не жалко!
И кстати, знаете, почему из восьми романов Федор-Михалыча Достоевского — самыми главными оказались в итоге два? Как сами думаете? Я думаю, потому, что читатель чувствует, когда автор пишет по существу.
А по существу два романа написаны про одно: хороший, милый, красивый и тонко чувствующий молодой человек давит старую гниду. Потом весь роман мучается и страдает, читатель сочувствует. Ближе к концу со страдающим молодым человеком случается… что?..
А случается с ним — таинственная история!
В тот момент, когда убийство раскрыто — Митеньку Карамазова замели, Родя Раскольников сам признался, — в этот момент убийца испытывает удивительную расслабленность. Он — буквально — падает, припадает к родной земле — и как в сказке: ударился оземь и обернулся… взлетел ясным соколом!
«Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю… и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастием». Это Раскольников, мы читали.
И про Дмитрия Карамазова читали тоже — ему снится сон про дите именно когда его повязали и вот сейчас отправят в тюрьму: «…какое-то странное физическое бессилие одолело его… прилег на большой хозяйский сундук и мигом заснул». Фактически «упал», «упал в сон», «провалился»…
Ему снится сон про дите — коричневые погорельцы, бла-бла… — «загорелось все сердце его и устремилось к какому-то свету». И просыпается, «светло улыбаясь», «с каким-то восторженным чувством» и «с новым, радостью озаренным лицом»!
Упал он больно — встал здорово. Упал виноватый — взлетел абсолютно счастливый!
Теперь еще раз, чтобы не забыть, весь маршрут, вся последовательность.
Жертва. Предельно мерзкая, отвратительная. Ненависть к ней. Убийство — тайное! Чувство вины. Известие о наказании. Странная слабость, бессилие, размягчение — падает наземь — и счастье!
Что всё это означает?
Поблизости продолжают маячить униженные малолетние девочки, алкоголизм — и крестьянская группа с бурыми неразличимыми лицами. То есть русский народ, который, по Фединому утверждению, кто-то «любит».
Какой странный коктейль. Тем не менее каждый ингредиент — строго на своем месте. Коктейль «Достойевски». Минуту терпения — и мы имеем рецепт!
Федор снова взглянул на Лелю и на Белявского.
Леля слушала очень внимательно.
Дмитрий Всеволодович — как показалось Феде — несмотря на торчащие волосы, на глубокие морщины по сторонам рта, которых Федя раньше не замечал; несмотря на измятость, несвежесть, — выглядел злее и притягательнее, чем когда-либо раньше — и даже чем каких-нибудь тридцать-сорок минут назад.
Федор поймал себя на том, что Белявский ему даже нравится в этом расхристанном виде — и сразу испытал давление ревности: «Если Белявский может нравиться мне — значит, он может нравиться и Леле тоже?..»
24. Разоблачение Достоевского, или Coup du milieu (продолжение)
— От «наслаждения» — к «сладострастию»! — объявил Дмитрий Всеволодович. — По восходящей!
Смотрите: два ударных романа. В двух ударных романах — две ударные сцены. «Ударные» абсолютно буквально: в обеих сценах — секут. Плюс в обеих сценах — присутствуют дети.
В «Преступлении и наказании», как все помнят, бьют лошадь: «Миколка в ярости сечет учащенными ударами кобыленку…» Мне нравится вот «учащенными ударами», потом вернемся. «— Пусти и меня! — кричит один разлакомившийся парень из толпы… — Засеку! — И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения… — Секи до смерти!.. Засеку!..»
Все это время маленький мальчик — собссно, главный герой — порывается оказаться на месте лошади, заменить собой лошадь — ему попадает кнутом — через четыре страницы подробного истязания лошадь наконец дохнет — маленький мальчик к ней припадает, целует морду… короче, пытается с ней максимально идентифицироваться.
Но даже такое педо-зоо-некро — еще цветочки! А настоящие ягодки, вишенки — это, конечно, так называемый «Бунт Ивана».
В главе «Бунт Ивана» Иван Карамазов цитирует — якобы цитирует — якобы из газет — якобы судебную хронику. То есть Федор-Михалыч грамотно обставляется. Барьер аж тройной: во-первых, это не авторский текст. Как бы автор и ни при чем: говорит персонаж. Во-вторых, говорит персонаж на грани безумия — а может, уже за гранью безумия. То есть и персонаж не особо при чем. И в-третьих, даже этот безумный Иван вроде бы не сам выдумал, а вычитал из газет. Таким образом, защитившись тройным барьером, обставившись, Федор-Михалыч пишет что пожелает.
Чего ж он желает, наш любитель народа, интеллигентный наш господин? «Интеллигентный господин сечет собственную дочку, младенца семи лет, розгами… Папенька рад, что прутья с сучками, „садче будет“, говорит он, и вот начинает „сажать“… Я знаю наверно, что есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия…» Хотя вот прокольчик! откуда «знает наверное», если это внутренние ощущения человека, про которого он прочитал в газете? Откуда такая детальная физиология? В девятнадцатом веке не было газеты «Жизнь», тогда не писали так: «…с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше!.. Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок не может кричать, задыхается: „Папа, папа, папочка, папочка!..“» Вот это мне тоже нравится: «дальше, больше, чаще, садче, папа, папа» — мне нравится этот ритм! Так же было с кобылой: «учащенными ударами». В «Преступлении и наказании» лошадь секли три-четыре страницы, при средней скорости чтения две минуты страница — значит, в сумме примерно шесть-восемь минут. В «Карамазовых» дается точное время: пять-десять минут. Куда прозрачнее?.. А вообще, и чего тут догадываться, о чем? Автор сам говорит однозначно: «до сладострастия, до буквального сладострастия». Современным языком это называется «сексуальное наслаждение». «Чаще-садче»…
Между братьями Карамазовыми происходит при этом чудный диалог: «— Мучаю я тебя, Алешка». — Дмитрий Всеволодович прочитал усеченно «Алешк». — «Мучаю я тебя, Алешк, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.
— Ничего, я тоже хочу мучиться, — пробормотал Алеша».
Не вопрос! Главное, автор тоже хочет еще! И еще! Уж у него и младенчиков режут, и девочку семилетнюю секут, и мальчика восьмилетнего — голого, что характерно, — затравливают собаками, и еще одну пятилетнюю девочку — тоже секут, запирают в отхожем месте, я даже детали тут опущу… Это уже Сорокин фактически. Мало, что автор далеко по ту сторону человеческой меры — если угодно, нравственной меры. У меня ощущение, что он меру художественную (что важней для писателя) напрочь уже теряет: все эти мальчики-девочки пяти-восьми-семи лет давят друг друга, мешают друг другу — а Федор-Михалыч все наворачивает, наворачивает, остановиться не может, все громоздит, громоздит!..
— Я не понимаю, — повысила голос Анна, — к чему это?!
— Сейчас молодые люди подумают, что мы с тобой репетировали. Нет, мы не репетировали. Хотя в точности ту же реплику подает Алексей Карамазов брату Ивану — пока оба не входят во вкус, или, как выражается автор, «разлакоми…», «разлакомливаются»: к чему это все?
Это все вот к тому самому, — Дмитрий Всеволодович кивнул в сторону Федора, — что именно любит Федор-Михалыч. Что такое вообще в его понятии «любит», «любовь». И соотвецно, в какой интересной компании оказываются русский народ и религия…
Обратите внимание! я не утверждаю, что Достоевский не любит русский народ. Или, кстати, что он не искренне религиозен. Ни в коем разе. И русский народ, и религия — для Достоевского еще круче, чем мучить маленьких девочек!.. если круче бывает…
Вот вы как сами считаете: круче — бывает? Может ли быть в природе что-нибудь круче, чем сексуальное наслаждение от продолжительных сильных мучений маленького ребенка?
Как ни странно, в случае с Федор-Михалычем — да. Ребеночка, как мы выяснили, имели пять-десять минут — а здесь речь идет о пяти секундах, даже не десяти, а именно о пяти: «В эти пять секунд я проживаю жизнь — и за них отдам всю мою жизнь, потому что — стоят! Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Это не земное… человек в земном мире не может перенести. Надо перемениться физически — или умереть…»
Федор, я вижу, знает, о чем тут речь. А девушек я еще потомлю.
Вот кусочек из воспоминаний: Федор-Михалыч на поселении в Семипалатинске. К нему приезжает старый товарищ. Как раз накануне праздника Пасхи. Цитата: «На радостях просидели всю ночь напролет, не замечая ни времени, ни усталости, говорили и говорили… Коснулись религии… „Есть Бог, есть!“ — закричал Достоевский, вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви, воздух весь загудел. „И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога, проникнулся им. ‘Да, есть Бог!‘ — закричал я, — и больше я ничего не помню. Вы все, здоровые люди, не подозреваете, что такое счастье. Счастье испытываем только мы, эпилептики, за секунду перед припадком… Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем… Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которой страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы — но верьте слову: все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!“»
Речь идет о так называемой «ауре». Непосредственно перед припадком растет активность синхронизированных нейронов… не суть: начинаются галлюцинации. Зрительные, вкусовые; бывают мучительные, бывает, наоборот, эйфория. Михалычу повезло: эйфория. Как настоящий наркотик. Михалыч подсел и честно нам признается: «Все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него». Квинтэссенция жизни — припадок.
Человек-Достоевский говорит «жизнь отдам» за припадок. Достоевский-писатель даже само это слово «припадок» дрожащими пальчиками вставляет как драгоценность, как джювел[6]… Это вам не какая-нибудь «любовь», которую можно транжирить направо-налево: уличное пение «любит», врать «любит», суп «любит», бла-бла: нет, припадок он с барского плеча дарит только главным героям…
Вот Карамазовы. Дмитрий, Иван, Алексей — и четвертый брат Смердяков.
Иван. Видит черта в припадке горячки.
Алексей. В первом томе с ним происходит припадок, которым он очень напоминает отцу свою мать. Та вообще называлась «кликуша» из-за припадков, которые с ней постоянно случались — от них, собсно, она умерла.
Даже Дмитрий, который вроде бы погрубее… Про Дмитрия: «…поднимается из груди его столько любви… до моления, до исчезновения… „И исчезну!“ — проговорил он в припадке какого-то истерического восторга».
Ну, Смердяков просто клинический эпилептик, понятно, — и самый сильный припадок случается после отцеубийства — вокруг чего, собственно, крутится весь сюжет…
«Припадок» мы бережем для своих, для торжественных случаев…
Когда Сонечка узнает, что Раскольников убил старуху, во-первых, она убийцу целует (что само по себе тоже важно: в случае с девочкой Полечкой тоже теплые губки совсем рядом со смертью) — целует, а убийце, в свою очередь, поручает поцеловать родную землю: «Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке…» Раскольников от нее заражается: «…новое ощущение каким-то припадком к нему подступило и вдруг, как огонь, охватило всего. Все в нем размягчилось…» — после чего припадочный падает — и, натурально, целует грязную землю!
Смотрите, как все сливается вместе: земля, родная земля — религиозный восторг — и припадок. И умиление, растворение, исчезновение: «все в нем размягчилось…», «нежного до моления, исчезновения… и исчезну».
Точно такое же чувство — у Мармеладова, когда он описывает, как Христос зовет «пьяненьких»: «И прострет к нам руце свои, и мы припадем… и заплачем…» Обратите внимание: «при-падем», упадем…
У Дмитрия Карамазова, когда тот летит вверх тормашками, падает: «Пусть я низок и подл, но я все-таки и „твой сын, Господи, и люблю тебя!..“»
И точно такое же чувство Федор-Михалыч приписывает народу: «…неустанно верует народ наш в правду, Бога признает, умилительно плачет…»
Смотрите: не чем иным, как этим припадочным размягчением, «у-паданием», «при-паданием» Достоевский оправдывает целый русский народ.
Не мысль! не идея, не знания, не способности — это пусть американцы «там все машинисты», мы не машинисты, мы лаптем хлебаем; не нравственное достоинство — американцы пусть будут «там лучше все до одного»: ничто осязаемое — а исключительно это припадочное умиление, размягчение, которое — якобы — присуще русским и — якобы! — отличает русского от поляка, от немца, американца и прочего смерда. Я «подл и низок» — но зато припадаю и упадаю. Я весь в дерьме — зато падаю, плачу — и все. И — оправдан. И воссияю! И — русский народ!
Умиление, размягчение — «я твой сын» — плач, припадок, падение — русский народ. Зафиксируйте эту цепочку. Запомните это.
Потому что если еще внимательней посмотреть, как бы «зумом» наехать — проявятся неожиданные детали. «Есть секунды, всего пять или шесть: вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг говорите: да, это правда. Здесь только радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость…»
— Откуда эта цитата? — спросил, потирая лоб, Федор. У него запульсировало уплотнение на голове — в том месте, которым он осенью въехал в стеклянную дверь.
— Из «Бесов». Терпение! Всё! Последние два-три штриха — и переходим к постановляющей части!
На первый взгляд, то же самое. Мы уже слышали про гармонию, радость, бла-бла-благоговение… Но если внимательнее посмотрим — таинственный текст! «Вы не прощаете ничего…» Что «прощаете»? Кого прощаете? За что прощаете? При чем здесь вообще: припадок — и «прощаете»?
И дальше: «Всего страшнее, что ясно — и такая радость». Тоже странно: если ясно и радость — то почему «страшнее»? Что страшного в ясности?..
И в восемнадцатый раз: казалось бы, при чем здесь русский народ?
Мутно-белые массы тумана затапливали котловину. Отроги гор были похожи на мысы, ложбины — на бухты. Виднелись полузатопленные дома, деревья. Дорога скрылась, только желтые фары время от времени тускло просвечивали сквозь туман.
Вскоре туман поднялся до «Альпотеля», и все, кроме ближайших домов и елей, исчезло.
— В погожий летний денек, — в голосе Дмитрия Всеволодовича была вкрадчивость, — а может быть, денек был пасмурный — восьмого июня тысяча восемьсот тридцать девятого года Михал-Андреевич Достоевский, батюшка Федор-Михалыча Достоевского, сели в коляску и выехали инспектировать полевые работы в Черемашню. Или, в другом написании, в Чермашню. Родовое имение Достоевских. Вы помните — так называлась деревня, с которой Иван Карамазов и его единокровный брат Смердяков связывают убийство отца:
«— Так зачем же ты, — спрашивает Иван Смердякова, — в Чермашню мне советуешь ехать? Я уеду, и у вас вот что произойдет?!
— Совершенно верно-с…» — отвечает ему Смердяков.
«В это время в деревне Черемашне…» — это уже я цитирую другой источник — родного братца Федор-Михалыча, Андрей-Михалыча Достоевского: «В это время в деревне Черемашне на полях под опушкою леса работала артель мужиков. Дело было вдали от жилья. Выведенный из себя каким-то неуспешным действием крестьян, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, крикнул: „Ребята, карачун ему!..“ И с этим возгласом все крестьяне, в числе до пятнадцати человек, кинулись на отца и в одно мгновенье, конечно, покончили с ним».
То, что «покончили», — правда. Отец Федора… чуть не сказал «Карамазова» — отец Федора Достоевского был убит своими крестьянами и двое суток валялся в поле, пока не хватились.
Но само описание — малоправдоподобное. Откуда эти детали? «Карачун», «закричал „карачун“»… Кто это рассказал? Случайный свидетель? Свидетелей не было, были одни участники — он же сам написал: «все крестьяне набросились…» Кучер? Кучер сбежал, прихватив коляску и лошадей. И главное: тысяча восемьсот тридцать девятый год — это все же не тысяча девятьсот восемнадцатый. Как-то не принято было «кончать» помещика, если помещик на крепостных «накричал»…
Лет через восемьдесят, когда убийство помещика стало считаться делом богоугодным, в местной газетке «Красная нива» был напечатан рассказ. Рассказывали уже потомки тех мужиков: «Бить, конечно, не били: знаков боялись. Приготовили бутылку спирту, барину спирт в глотку весь вылили и платком заткнули. От этого барин и задохнулся».
Похожая версия и у дочери Федор-Михалыча — соответственно, внучки Михал-Андреича: «Его нашли позже на полпути, задушенным подушкой из экипажа. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли еще некоторые крестьяне из деревни».
Окей, убили. Так, эдак: забили мотыгами, придушили подушкой, залили бутылку спирта — убили. Понятно. Но все же — за что? Как в любом детективе, требуется мотив. «Накричал»? Или все-таки было что-нибудь посущественней?..
Племянница Достоевского упоминает в числе убийц некого крепостного Ефимова и некого крепостного Исаева.
У некого крепостного Ефимова была племянница Катя. В возрасте неполных четырнадцати лет ее взяли в дом Достоевских в горничные. После того как умерла жена Михаила Андреича, то есть мать Федор-Михалыча — горничная Катя от барина — родила-а…
Другой крепостной, Исаев, имел дочь Акулину. Акулина была хороша собой. Ее взяли в барский дом, когда ей было одиннадцать лет…
Упоминалась также некая горничная Вера, из-за которой Михал-Андреич подрался с младшим братом своей жены. И так далее…
Вот вам маленькие беззащитные девочки, униженные, обиженные, «слезинки»…
Вот и понятно, почему сын убитого предпочел вегетарианскую версию про «накричал»…
Дальше! «Исчезли еще некоторые крестьяне из деревни. Другие крепостные моего деда показали, что это был акт мести: с крепостными старик обращался всегда очень строго. Чем больше он пил, тем свирепее становился…» Это все пишет Любовь Федоровна Достоевская. «Над крепостными своими глумился систематически. Любил незаметно, со спины подкрасться к работающему крестьянину, первым низко поклониться ему — а за то, что барин поклонился ему первым, отправить тут же на конюшню, на порку…» «На порку»! Помните: «Садче, чаще…» Раз.
Девочки маленькие со слезинками — два.
Алкоголизм — три! Не пьянство по случаю, а настоящий запойный клинический алкоголизм, тут все свидетельства сходятся: «Михаил Андреевич отличался крайней скупостью, подозрительностью…» — помните «подозрительность» у старухи-процентщицы и у Федора Карамазова? — «…подозрительностью и жестокостью. При этом страдал алкоголизмом и был особенно зол и недоверчив в пьяном виде. Близкие жестоко страдали…» Отец Достоевского мучил и унижал свою жену — то есть мать Федор-Михалыча, — и в тридцать семь лет свел ее в гроб — точно так же, как Федор Павлович Карамазов свел в гроб мать главных героев, Ивана и Алексея. Отец Федор-Михалыча Достоевского мучил детей морально, а крепостных — то есть тот самый искомый наш русский народ — мучил и унижал физически, сиречь сек.
Еще цитирую Любовь Федоровну Достоевскую: «Создавая тип Федора Карамазова, Достоевский вспоминал и о скупости своего отца, и об его пьянстве, как и о физическом отвращении, которое оно внушало его детям…»
Видите — вот и «физическое отвращение» подоспело…
Дмитрий Всеволодович вздохнул, отпил «Кристальпа» и вытер рот бумажной салфеткой.
— Летом тысяча восемьсот тридцать девятого года Федор-Михалычу Достоевскому было семнадцать лет. Когда до него дошло известие о насильственной смерти отца, с ним впервые — впервые! — случился приступ с конвульсиями и потерей сознания, позже определенный врачами как эпилепсия.
И вот здесь я еще раз — с чувством и с расстановкой… «Вдруг вы чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг говорите: „да, это правда, это хорошо“… Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость…»
— Но это же Фрейд! — не выдержал наконец Федя. — Старая статья Фрейда про Достоевского…
— Ну и что? — не смутившись, парировал Дмитрий Всеволодович. — Фрейд не Фрейд, но у каждого человека, как говорится, «есть или были родители». Отсюда вообще вся динамика человеческой жизни: борьба центростремительной силы — и центробежной.
Центробежная сила, стремление оторваться: с момента рождения, с перерезания пуповины — и дальше всю жизнь.
А с другой стороны — притяжение, связь: каждый из нас — даже чисто биологически — продолжает в себе родителей. В каждой клетке, в каждой молекуле… Знаете, например, откуда взялась эпилепсия? Папа Фёдор-Михалыча, Михал-Андреич, страдал клиническим алкоголизмом. Алкоголизм вызывает нехватку цинка — и у самого алкоголика, и у его потомства. Братья Федор-Михалыча — Михал-Михалыч и Николай-Михалыч — вслед за папашей стали запойными алкоголиками. А Федор-Михалычу природа выдала несимметричный ответ: ударила по алкоголизму эпилепсией!
Значит, не будь у Михал-Андреича алкоголизма — не было бы писателя Достоевского, и никаких «Карамазовых»… Но эпилепсия — это тоже дефицит цинка!
Наследственные болезни, внешнее сходство, способности, убеждения, любовь к маленьким девочкам… Куда деться? Куда уйти? Куда б ни ушел — все равно человек носит это в себе, в своих атомах, клетках, мышцах, как герпес… Ну? А вы говорите, «фрейдизм»…
Каждый привязан канатом, своей пуповиной.
И в то же время — каждый хочет ее перервать. Если ее не порвать — то не сможешь иметь своих детей, род человеческий прекратится.
Как порвать, как оторваться из этого притяжения, вырваться из гравитации? Надо ускориться, как космическая ракета. Для ускорения нужно топливо. Это могут быть разные негативные чувства: вплоть до «физического отвращения», до желания смерти родителям. Это чувства естественные — оторваться же надо? — но человек их боится, считает себя виноватым за эти чувства, плохим.
А в какой-то момент родители умирают. И — с одной стороны — возникает жгучее чувство мгновенного освобождения: никто не мешает! «гармония совершенно достигнута»!..
И — мгновенно же — страшное чувство вины: «я о нем плохо думал», «он вызывал у меня физическое отвращение», «я желал ему смерти» — и: «я — убийца»!
Это уже не ракета: это две половины атомной бомбы — и ядерный взрыв! Поэтому «больше пяти секунд нельзя выдержать»: атомный взрыв — и теряет сознание!..
Но при этом в самом что ни на есть эпицентре, в самой глубине сердца — и радости, и свободы, и страшной вины — он не один. С ним есть кто-то еще… Кто-то, кому он обязан и тем и другим: и эйфорией, и счастьем, и умилением — и запредельным чувством вины.
Вы помните, что убийц было несколько. Может, пять. Может, десять. По версии Андрея Михайловича, пятнадцать. Никто не знает. Их не нашли. Не судили. Для Федор-Михалыча — они остались безликими, безымянными. Это были какие-то мужики. Простолюдины. Крестьяне.
Это был — русский народ!
Вы понимаете, что в этой точке — все сходится? понимаете, почему он гонит из этой внутренней подсознательной комнаты — немца, поляка и американца? Ему с ними не о чем говорить. Они не виноваты.
И он перед ними не виноват. Не их — не поляков, не немцев, не американцев — его отец по пьяни порол, и не их дочек трахал — и Федор-Михалыч не перед немцами вину наследует, и не с немцами он сообщник в убийстве… вы понимаете, сколько всего тут намешано?!.
— Ох-х… — Федор даже встряхнулся, как будто пытаясь выбраться из-под груза. — Вы сводите к патологии…
— Почему «патология»?! Я же вам говорю: эта амбивалентность — у всех! У Достоевского — просто сильнее. Еще плюс талант…
— Тем не менее веру в Бога вы подчиняете эпилепсии, почему…
— Потому что…
— …почему не наоборот?
— Очень просто. Сейчас объясню.
Вообще, как я пришел к этой теме?
Началось абсолютно не с Достоевского.
Однажды — я был моложе, чем Федя сейчас, еще вовсю была советская власть — мне в руки попался сборничек приключенческих повестей — советский такой — пресоветский сборничек — тоненький, про каких-то разведчиков… назывался «Чекисты»…
25. Разоблачение Достоевского, или Coup du milieu (окончание)
— Сборничек назывался «Чекисты». Матерчатая обложка, на обложке тиснением — герб КГБ: золотом выдавлен щит и меч. Я пролистал: что-то такое возвышенное, романтическое, повести про разведчиков… Вдруг гляжу — фамилия-то знакомая?
Оказалось, что я отлично знаю одного автора — ну больше не самого, а дочку, семью, — но знаю точно, что у него в тридцать седьмом году мать расстреляли, отец в лагере был то ли двадцать лет… долго: а он — публикуется в сборнике про чекистов!.. Я был тогда диссидентски настроенный юноша, я просто ушиблен был: как, каким образом все это сочетается в голове?
— Видимо, — рассудил Федор, — страх?..
— В семидесятые годы? Какой там страх уже. Там не страх. И не ложь, самое главное! Не корысть! Вот что самое интересное. Говорю, я знал эту семью хорошо: и отца знал, писателя — светлый был человек, редких качеств: точно говорю, не страх, не расчет — а искренняя романтика!
«Страх»… А что, вы скажете, у Федор-Михалыча — тоже страх? Перед кем? Тут не страх: тут настоящий душевный подъем, пафос, гимн!
И советская интеллигенция — не ловчилы, а лучшая часть — замешена на том же подъеме и пафосе: вот, сравните!
«Воссияет как драгоценный алмаз всему миру…» Это мы с вами уже учили: Федор-Михалыч про русский народ… «Воссияет…»
«Свети из Кремля нам, сияй-пламеней! Всех солнц во вселенной наш Сталин ясней!» Это Павло Тычина. Вы и имени такого не слышали…
«Алыми звездами башен кремлевских…» — тоже не знаете. Это Евгений Аронович Долматовский, отца у него расстреляли в тридцать девятом году… «Родина слышит, родина знает…»
…что «от востока звезда воссияет»! А это кто? Долматовский тоже? Звезда у кого «воссияет»? Нет, это опять Достоевский, у которого тоже отца в тридцать девятом… — только на сто лет раньше!… И оба хором: «воссияет» и «просияет» — звездами от востока!.. «Сияет над миром…»
«Сияет над миром» — кто это? Достоевский? Опаньки, Лебедев-Кумач: «Сияет над миром наш герб величавый, победно горит боевая звезда!»
«Восстанут, пойдут на великое дело…» — а это? Тоже Лебедев-Кумач? «Вставай, страна огромная?» Ан нет, Достоевский! «От нас издревле деятели народные выходили… Те же смиренные постники и молчальники восстанут, пойдут на великое дело»! «Но мы подни-мем гор-до и сме-ло… знамя борьбы-ы за рабочее де-ло! Марш-марш впере-од рабо-чий народ!»
«И воссияет миру народ наш!» Федор-Михалыч!
У Федора голова пошла кругом.
— «Нам засияет во мгле»… Кто опять засияет?
«Ленинской правдой заря коммунизма! нам засияет во мгле»: Михалков, Сергей Владимирович! Различить невозможно: где Достотовский? Где Долмаевский? Где какой-нибудь Демьян Бедный? Михей Голодный? Иван Бездомный? Сплошной «засияет» да «воссияет», «взвейся» — «развейся»…
Кто обращал внимание, что Достоевский звучит как чистый соцреализм? за полвека до соцреализма: смотрите, как он весь выпучивается, несчастный Федор-Михалыч, весь как пузырь надувается… знаете, почему так беспомощно? Знаете, почему такой неестественный пафос? Потому что задача ставится — непосильная! Поднять себя за волосы — и не только себя, а целое мироздание поднять за волосы, опираясь на пустоту! Смотрите: я объясню, в чем секрет…
Белявский выбросил скомканную салфетку.
— Смотрите сюда. Человеку… ребенку в первую очередь, но и взрослому тоже — нужен определенный порядок. Это базовая необходимость, это даже не в мозговой коре, не в извилинах — а в каком-нибудь гипоталамусе, в мозжечке. Каждую минуту человек должен точно знать, где находится верх, где находится низ.
Вы знаете, что во время землетрясения люди массово сходят с ума? Не от страха! А от того, что стены колеблются и земля плавает. Человек точно знает: земля твердая, неподвижная — и вдруг она плавает, как вода. Человек твердо знает, с младенчества, как он в люльке лежал и смотрел: стены должны стоять вертикально, под девяносто градусов — а они наклоняются!.. Все, готово: человек сходит с ума. Человек не может жить без порядка. Лучше любой порядок: плохой, жестокий, любой — чем вообще без порядка. Такое устройство у человека. Дизайн психики.
Дальше вопрос: на чем строится миропорядок ребенка? Что — в основе миропорядка ребенка? Ессесно, родители. Это ось, ось земли. Мир — вращается вокруг этой оси. И вдруг — представляете, эту ось резко выдергивают, одномоментно, насильственно: в тысяча девятьсот тридцать седьмом, в тысяча девятьсот тридцать девятом, в тысяча восемьсот тридцать девятом — неважно: выдернули ось! Что это такое случилось? Это не просто «психологическая травма» — а это рушится мир! Нужно немедленно — я не говорю «сознательно», я наоборот говорю: в мозжечке, в гипоталамусе — нужно немедленно мир — перестроить! Весь образ мира, картину мира — нужно немедленно перестроить картину! И в первую очередь нужно понять: что случилось с родителями? Что случилось с отцом? Где он теперь находится, в этой новой картине?
Вспомните, как Достоевский любит про «скрытое», «тайное», «в уединении», «в недрах» — даже само слово, «недра»…
— «В недре отчем»… — почти против воли обронил Федор.
— Ось! — воскликнул Белявский. — Ось, вокруг которой вращался мир, не исчезла. Ее воткнули как спицу, вогнали в центр мира — всю целиком — она теперь в самом центре земли, в основании, в «недрах»… Весь видимый мир, новый мир, новый порядок — оп, каламбур — «новый порядок», нью ордер теперь строится над отцом, на отце, на основе отца. Федору как религиознику это должно быть понятно: отец не просто тупо убит, он заклан, принесен в жертву.
Чему? как вы думаете? Чему жертва?
Ответ прост: жертва — самому величайшему, что только можно себе представить. На что хватит фантазии. Вон, спасению мира. Всемирному торжеству справедливости.
В тысяча восемьсот тридцать девятом с этим понятно, двух мнений нет: бог. Самое большое на свете — бог.
И значит — кто получается русский народ? Бого-носец! Вы понимаете? Потому что народ — он технически эту жертву осуществляет, приносит в жертву отца: но он не просто убийца, он «богоносец», он жрец! Понимаете?
И через сто лет — ровно такая же жертва и тот же жрец — только бог поменялся: теперь он называется по-другому, «всех солнц во вселенной наш Сталин светлей!». Сталин, Ленин, заря коммунизма — неважно: главное, был бы канал, куда хлынут душевные силы — нужен противовес, чтобы порядок восстановился, чтобы земля больше не плавала, чтобы стены стояли.
Поэтому именно те, кто больше всех пострадал, у кого боль сильнее, невыносимее — вот они-то как раз громче всех воспевали: «заря коммунизма», и «просияй-воссияй», и «народ-богоносец» как жрец, как орудие нового бога, нового миропорядка — причем не для денег и не от страха, и даже не жизнь спасали, не надо их обижать — они спасали то, что даже важнее жизни: они спасали миропорядок и смысл!..
Достоевский был из них — первый! В чем его уникальность? Почему он востребован и в двадцатом веке, и по сей день, пока полмира — Россия, Китай, пол-Африки, пол-Америки — живет при тоталитарных режимах? Потому что весь ужас двадцатого века — и чувство вины за ужас — все было предварено в личном ужасе Достоевского! Судьба образованных классов, убитых народом, судьба всей, так скажем, интеллигенции — и дети этих же образованных классов, которые верой и правдой пытались служить этому же народу — всё, пожалуйста, в личной судьбе Достоевского!
Отцы — трахали и секли этот народ. Дети несут их вину, и еще страшнее — вину перед отцами, убитыми этим народом. На этом чувстве вины все замешено: и «торжество коммунизма», и религиозный экстаз…