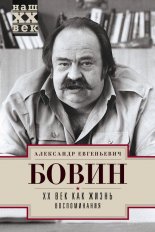Карта Талсы Литал Бенджамин

Мама как-то приоделась, прежде чем выйти к нам. И как ей показалась Эдриен из окна? У нее так порозовела кожа – и горло, и подбородок – как у высокого русского чайника для заварки. Сидела она строго прямо. Я откинулся на спинку посмотреть, сняла ли Эдриен бирку с платья. Да, сняла. Я тогда был еще молод и не понимал, насколько мало мои родители разбираются в жизни. Но, думаю, Эдриен уже разглядела, какие они в глубине души хорошие.
Речь зашла о Галвестоне. Эдриен рассказала, что бывала там в детстве. Компанию «Букер петролеум» это местечко очень интересовало. Они попытались обсудить тамошние рестораны, но выяснилось, что мы ходили в совершенно разные места. Вообще, мне показалось, что мама вела себя довольно демонстративно, прикрывая глаза от солнца: она начала пространно рассказывать Эдриен о домах своих братьев и сестер, о том, в каких школах учились мои кузены.
Я сказал, что нам пора возвращаться, но мама спросила, не хочу ли я показать Эдриен дом. Хотя призналась, что там бардак. Я провел Эдриен через заднюю дверь в комнатушку с телевизором, через тонкую стену было слышно, как мама с папой обсуждают, что еще надо сделать в саду. Мама собиралась тушить на ужин мясо. Эдриен тем временем уже вошла в столовую, там на бюро стояли семейные фотографии. Когда она остановилась перед ними, нежелание, чтобы она лезла в мою жизнь, резануло меня, как зазубренным ножом.
– Пойдем, – сказал я.
– О боже мой, – заворковала она.
– Не надо.
Эдриен распрямилась, уязвленная. Она ждала, что я поведу ее по дому.
Он был небольшим, так что вскоре осталась только моя комната, показать Эдриен свою мальчишескую кровать – ведь в этом было все дело, да? Но она сразу же заинтересовалась моим зеленым блокнотом, который никогда не покидал пределы этой комнаты.
– Что это?
– Мой дневник.
Она смолкла. Искренняя пауза, я думаю. Потом Эдриен повернулась и несколько секунд восхищалась книжным шкафом.
– Я хочу посмотреть все твои книги, – заявила она.
На первом же перекрестке, когда из кондиционера еще шел горячий воздух, я повернулся к Эдриен. Уже можно было расслабиться – она ведь идеально себя показала перед моей матерью – а теперь, когда мы уехали, ей, конечно же, есть что сказать – но тем не менее ее учтивость не была наигранной. Эдриен отозвалась о моих родителях исключительно хорошо. Они ей действительно понравились. Особенно папа. Наехала она на меня.
– Ты так странно себя вел.
– В смысле?
– Как будто не хотел, чтобы мы туда ехали. Я-то думала, ты обрадуешься.
Видно было, что она расстроилась.
– А ты как будто меня стыдился.
Эдриен считала, что я бываю крайне труслив. В этом заключалось ключевое различие между нами. Остальное просто вытекало из него.
Было время, когда она будила меня среди ночи и заставляла выходить с ней на террасу небоскреба. Двадцатый этаж, терраса едва прикрыта от закручивающегося воронкой ветра. В водосточном желобе над головой била крыльями летучая мышь – с наступлением темноты это случалось часто.
– Смотри, – Эдриен вытянула вперед руку, зажав в ней карандаш. Желтый, длинный, поразительно остро отточенный: она держала его кончиком вниз, занеся руку над перилами. Ветер уже пытался его вырвать – она держала карандаш между большим и указательным пальцами, изящно отведя мизинец – а потом выпустила. – Э…
Стремление свеситься через перила и посмотреть с такой мощью столкнулось с ужасом перед возможностью рухнуть с небоскреба, что я утратил равновесие, и мне показалось, что я уже лечу вслед за этим карандашом. Я редко когда так резко выходил из себя. А Эдриен все показывала вниз, ее указательный палец теперь занял место карандаша.
– Это будет новый рисунок, – объявила она.
Это было просто концептуальное положение…
Но я помню, что испытал, положив пальцы на перила и слегка подавшись вперед. На уроках физики нам рассказывали, что, если бросить с большой высоты монетку в один цент, можно убить человека. Внизу, разумеется, никого не оказалось. В центре Талсы-то. На освещенной улице у нас под ногами не было ни души.
6
В августе я получил письмо, которое пролежало в столе два дня нераспечатанным. Ночью третьего дня я дождался, когда родители лягут спать, потом запер дверь своей комнаты и тихонько вскрыл конверт. В нем лежал красивый листок с печатью колледжа: «Заявление на получение академического отпуска».
Эдриен начала петь. Впервые это случилось, когда я читал, лежа на диване; она отложила краски, внезапно материализовалась передо мной и запела. Я удивился. Это было что-то народное. Эдриен заглянула мне в глаза, но ненадолго. И не хотела, чтобы я хлопал. Когда она перешла к следующей песне, я уставился в книгу, делая вид, будто читаю. И с тех пор она стала делать это ежедневно, минут по пятнадцать-двадцать.
Август выдался очень жарким. Мы бесцельно колесили на машине, тренировали чутье. Я набирал скорость очень мягко и редко, и казалось, что наш передний привод – это дышащий зверь, открывающий перед нами свои животные мысли. Я часто понятия не имел – сворачивать направо, сворачивать налево? Предполагалось, что я должен был расслабиться и ехать наугад. Одно из требований воскресных поездок заключалось в том, что все должны были молчать. Абсолютно кинетическое удовольствие. Придумали эту игру фермеры, когда у них только появились машины. Может, Эдриен прониклась идеей при просмотре арт-хауса, из красивых длинных сцен, из дисциплинированного ничегонеделания. Предполагается, что за рулем сидит неразговорчивый дядя, человек, для кого молчание – необходимый атрибут мужественности. Может, это был идеал Эдриен.
Однажды мы приехали куда-то, куда обычно не забирались. Нашли там старую забегаловку, заказали курицу и эль. Есть вернулись в машину. Эдриен выбрасывала кости прямо из окна. «Ты что, действительно такая?» – спросил я. Она кивнула. Она не хотела говорить – словно берегла голос. Так бывало все чаще. Я кости оставил на тарелке, а когда мы доели, отнес весь мусор и выбросил в забегаловке.
Жизнь была лишь тренировкой. В то утро я поднялся вверх на лифте и забрался в ее кровать. Мы ничего особенного и не чувствовали. Нам просто надо было сидеть в моей машине.
– Я эту местность знаю, – сказал я и подъехал к строительному магазину; утопленная стоянка перед ним показалась мне смутно знакомой. – Так смешно, мы столько ездим, когда-нибудь непременно наткнемся на моего отца.
Но наткнулись мы на кого-то другого. На стриженного под ежик парня в зеркальных очках. Как мне объяснили, он учился в Университете Талсы на факультете изобразительных искусств, Эдриен его знала. Она прикрыла глаза рукой от солнца и завела вежливую беседу. Он на лето уезжал, но теперь вернулся и готовился к началу учебного года.
– Мне надо переделать студию, – сказал парень, улыбаясь, как чеширский кот, и показал приобретенную краску – вроде как черная матовая.
– Фотографируешь?
– Портреты. Я планирую весь семестр делать по одному хорошему портрету в неделю.
– Тогда тебе как-нибудь надо снять Джима, – Эдриен меня представила.
Не знаю, осознавала ли она, что говорит. С июля, когда я перестал писать, я мечтал, что останусь тут: стану завсегдатаем на «Ночах ретро», например, но буду не танцевать, а как-то просто присутствовать, благосклонно за всем наблюдая. Буду колесить по городу, сам себе хозяин, и постепенно отращу бороду, как у отца. Найду какую-нибудь работу. Вопрос для жителя Талсы: представьте себе обычный безмятежный день, вы решили съездить куда-нибудь пообедать – какая у вас машина? Я воображал что-нибудь респектабельное. Или, может, пикап. Я буду долговязым и печальным. Подбегу и энергично пожму кому-то руку. На каком-нибудь приеме. На выставке Эдриен, намеченной на эту осень, с бородой с проседью. Уже будет виден возраст. Это месяца через два.
Однажды ночью я приехал домой, разделся догола и заполнил этот формуляр. И оставил в столе, как заряженный пистолет. Это будет самый дерзкий поступок за всю мою жизнь: пропустить год в колледже.
А Эдриен тем временем пела. Тут от меня толку не было; в музыке я ничего не понимал. Я мог отметить, что слышу голос из окна, когда возвращаюсь с улицы, его эхо в лестничном проеме. И его тембр говорил мне куда больше, чем слова. Эдриен училась по записям Алана Ломэкса[15] и другим старым вещам, блюзам и ярким песням-наставлениям. Я физически ощущал в пронзающем голосе Эдриен ее смелость. Она максимально открывалась, показывая все свое нутро. По-моему, человек с моим темпераментом так попросту бы не смог. Но Эдриен была другая. Иногда она начинала визжать, как актриса, пытающаяся научиться плакать по собственному желанию. Всего по нескольку секунд.
Однажды я подошел к ней сзади. Одну руку я положил на плечо, вторую просунул под мышку и обнял. Я чувствовал, как Эдриен живет у себя под ребрами, как тянется вверх ее высокий скелет. Не разрывая объятий, она повернулась ко мне лицом и затянула песню, которую я предположительно знал. «Скажи, видишь ли ты»[16].
Предполагалось, что я буду подпевать.
А я не хотел этого делать. Эдриен всегда понимала меня слишком буквально. Она не осознавала, сколько сил я тратил на то, чтобы воображать наши отношения.
Я не подпевал радио. Не пел в душе. Лишь в школьном хоре я вынужден был бубнить со всеми остальными.
Эдриен смотрела мне в глаза. Она дошла до строчки «бомбы рвутся в воздухе», последнее слово которой даже не поется, оно просто дрожит. Наконец, на «всю ночь доказывали нам» мой голос обрел центр тяжести и будто покатился под горку. Лучше всего я чувствовал свои легкие, и когда песня быстрым маршем подходила к концу, я осознал, что набираю ромкость лишь потому, что голосом совсем не владею. Я абсолютно не понимал, как управлять собственными губами, языком, способными лишь на хватательные движения.
Мы ничего после этого не говорили, но чувствовал я себя лучше. К тому времени мы уже несколько дней не спали вместе. Эдриен подошла к небольшой раковине, в которой она мыла кисти, и налила стакан воды из-под крана. Выпила половину, потом едва отдышалась.
– Хочу тебе кое-что сказать, – начал я.
А потом было уже слишком поздно, говорить пришлось.
– У меня есть возможность пропустить год учебы.
– И что ты будешь делать?
– Ну. Что я делаю сейчас?
Эдриен пошла включить вентилятор.
– Будешь писать? – спросила она, перекрикивая его шум.
– Нет, ну, в смысле… я мог бы писать. Я… – Я расстроился и выключил вентилятор. И махнул рукой. – Ведь очевидно, почему я хочу остаться.
Мы сели на диван.
– Джим. Ты в курсе, что я собрала группу?
– Нет. Я ничего про группу не знал.
– Я именно ради этого начала петь, Джим. В субботу у меня выступление.
– Ну, это здорово. Просто потрясающе.
Она смотрела мне в глаза.
– Но ты все равно расстроен.
– Я не хотел.
– Джим, я взялась за что-то такое, чего разделить с тобой не могу.
– Верно.
– Тебе надо подумать, что будешь делать ты.
В выходные я увидел Эдриен на сцене. Я стоял сзади и наблюдал за ее выступлением глазами знатока; я рассматривал ее джинсы, замечал, что иногда на ее лице мелькает легкое раздражение. Она взаправду визжала на сцене. Напряженно, как будто исторгала что-то из головы. Я знал, какая Эдриен целеустремленная. На фисгармонии играл парнишка, чье имя я только что узнал, и еще один на ударных. Музыку так не зашкаливало, да и не сказать, что Эдриен была чем-то расстроена или что голосила от избытка страсти. Слова шли у нее не от сердца, а скорее от каких-то других частей тела, из диафрагмы, из синусов – из безупречной грудной клетки. Это было то же самое тело-инструмент, которое задом двигалось в постели, тыкало в меня пальцем ноги, когда хотело есть. Иногда оно бывало моим.
Возможно, единственным, что у нас с ней было общим, являлся наш эгоизм. Как я понял, на все выступления – и на другие разнообразные мероприятия – ходили одни и те же люди; кто-то считал, что всего этого неважно чего должно быть больше, и точка. Горячая поддержка местных арт-газет, – да они еще ни разу ни об одной здешней группе ничего плохого не написали, и даже когда со мной заговаривали в туалетах ночных клубов, я знал, что люди хотят кайфовать, хотят, чтобы я кайфовал. Больше всего, конечно, они хотели, чтобы кайфовала Эдриен. Кто помнил ее в прошлых группах, трещали об этом, радовались ее возвращению. Никого ревновать она не заставляла, для этого она была слишком уж как не с нашей планеты. Поклонники попретенциознее обсуждали ее таинственность. Ребята помладше держались на расстоянии, но смотрели на нее, как на существо легендарное и мимолетное, сошедшее к нам ненадолго.
По сути, Эдриен, наверное, не имела склонности к лидерству. Но у нее был дар и чутье художника на то, что принадлежит ей. И она никогда не считала зазорным просить: например, вести переговоры с владельцами клубов о том, чтобы ей разрешили поставить на сцену стол и поджечь. (Это волнующее зрелище заняло минут двадцать, в течение которых ее музыканты прекратили играть, мы все просто смотрели; только Эдриен стояла рядом, и это выглядело так величественно и поразительно. В большом городе трюк не сработал бы, но Талса была достаточно мала, чтобы, словно печка, обращать собственный свет вовнутрь, придавая себе сил и сберегая тепло.)
Я пытался любить ее, изучая, как она живет. Мне больше всего нравилось, когда лето затуманивало взгляд – и каждый раз, когда из чьего-нибудь двора открывался вид на красивую линию горизонта, я поднимал свою бутылку в символическом тосте. Иногда мне удавалось сорвать добротный поцелуй – с Эдриен это было таким же достижением, как и хорошая шутка, а в тот единственный раз, когда она позволила мне подойти вместе с ней к микрофону, я случайно столкнул со сцены усилитель, так что ее заставили прекратить выступление, пока не убедились, что он не сломан.
Первая неделя сентября выдалась жаркой. В студии Эдриен кондиционеров не было, даже окна открывались далеко не все, так что мы проводили там лишь около часа в день, просто чтобы создать видимость, что работаем. По вечерам ее группа собиралась на репетицию. Жара все не спадала, лето не кончалось, урывало себе еще по кусочку. Жизнь плавилась. Я снова начал время от времени ходить в библиотеку, даже если просто понежиться в прохладном переработанном воздухе.
Эдриен носила крошечный амулет, подаренный Чейзом, подкову на цепочке, которая стучала по подбородку, когда она стояла на четвереньках. Эдриен впервые позволила мне взять ее в студии. Предполагалось, что мы и гладить друг друга не должны в рабочее время – даже когда очень возбуждались. Но в один из тех дней… мы сдались. Она разложила на полу огромный кусок картона, и потом мы заснули прямо на полу. Я помню, как проснулся, светило солнце, воняло слоеным картоном, а я лежал один и торговался с Богом, желая услышать ее голос сзади или шум в ванной.
Эдриен решила записать альбом у Альберта. Они запланировали сессию в Бартлсвилле на осень. Рисование было лишь передышкой. Теперь она перестала рисовать – все картины переехали в галерею Альберта, в ноябре они должны были выставляться, а Эдриен об этом почти не говорила.
Событий стало меньше. Жизнь замедлялась. Может, она и не будет работать с Альбертом, сказала Эдриен. Может, соберет волонтеров, которые помогут собрать кабинку для записи в ее студии – когда станет попрохладнее. На Чейза можно рассчитывать.
Я все больше времени проводил на ветру. Мне нравилось, что на террасе небоскреба практически невозможно думать. Временами меня посещала мысль проткнуть презерватив булавкой – еще в упаковке, чтобы Эдриен ничего не заподозрила. Но это была лишь фантазия. Соседний небоскреб, вверх, вниз – взор скользил, как птица в полете, готовящаяся спикировать и зайти на посадку.
Если я просыпался первым, и было такое утро, когда другой бы подал завтрак в постель, я относил ее вещи в стирку (яиц у нее дома не бывало). Я ехал вниз на лифте, которым пользовались бизнесмены, прижимая к груди ее кофточки и трусы. Я чувствовал себя настоящим семьянином: Эдриен накануне выступала, легла спать охрипшая и прекрасная, она упала на подушку, встала на четвереньки и свесила голову, она была похожа на пони, которому захотелось провести ночь в человеческой кровати.
Иногда казалось, что в пентхаусе ужасный бардак. Это были дни апофеоза Эдриен. А я делал все по своему стандартному списку, выравнивал подушечки, поправлял абажуры. Я следил за тем, чтобы у турецких ковров не загибались края. Я взял на себя обязанность заправлять кровать. Эдриен ходила в студию без меня – петь, а я проводил весь день в пентхаусе. Либо же выходил на улицу и крался вдоль стен домов. Она стала чаще ездить на мотоцикле, иногда я даже слышал из окна его рев, разрезающий мертвую тишину вечера выходного дня.
У нее не было чувства юмора, что мне в ней нравилось. В последние недели Эдриен все больше и больше времени проводила с Чейзом, и я не то чтобы ревновал, но думал, что ей стоило бы побольше бывать со мной. А еще я считал, что ей надо больше рисовать.
У вас могло бы сложиться ощущение, что я насильно склонял Эдриен к близости, что я внушал себе что-нибудь, чтобы вновь поверить в нашу любовь. Но моя грубая сила выражала лишь степень моего отупения. И в том, как она меня принимала, покачиваясь из стороны в сторону, порой было такое же восхитительное отупение.
Однажды я пошел домой и попытался весь вечер проговорить с отцом. Я тем летом был как раз в том возрасте, когда начинаешь понимать, что все, что раньше казалось тебе каким-то поверхностным, на деле очень важно – то, что краска защищает дерево, что для этого же важно вытирать пыль, что убрать за собой – неотъемлемый атрибут самоуважения. А иногда я приходил в пентхаус и замечал, что меблировка там грязновата. У Букеров было кресло в стиле эпохи Теодора Рузвельта, полностью из склеенных и прорезиненных оленьих рогов; я иногда садился в него, опускаясь осторожно, прислушиваясь к скрипу. Это было наследное кресло Рода, я так полагаю.
Однажды, когда в квартире совсем уж воцарился беспорядок, я пошел и купил по кредитке Эдриен шесть бутылок ее любимого виски. Одну из них я сунул в шкаф с двумя дверцами, в сапог. Одну поставил возле ванной, среди флаконов с шампунем. Одну – в мусорное ведро в кабинете. Одну – на виду на камине. Одну – на террасе, там был встроенный бар, которым мы никогда не пользовались. И последнюю – в дверцу холодильника.
Оставаясь в пентхаусе, я перестал спать по ночам. Эдриен поворачивалась во сне. Я тихонечко ходил, как обычно, все поправляя. Дизайнер постарался на славу, с большим камином на такой высоте было все равно что в охотничьем домике в небе. Я мог положить туда подушку и сесть, откинувшись, краем глаза наблюдая, как за окном террасы на востоке светлеет небо.
Однажды ночью мне показалось, что звякнул лифт. Ничего страшного не случилось, но я застыл на месте. Я думал, что сейчас войдет сам Род Букер или его уже почивший дед Одис, и любой из них вышвырнет меня или заставит, наконец, объяснить, кто я такой.
Эдриен собиралась поехать со мной в аэропорт. Но я не знаю, называл ли я ей дату вылета. А когда время пришло, я даже не позвонил. Я не звонил ей уже несколько дней. У меня устало сердце. Я подумал, что можно попробовать просто исчезнуть, чтобы ей не пришлось сочинять прощальную речь.
Родители окружили меня заботой. Им так много нужно было сделать – купить мне новый ноутбук, запас таблеток от аллергии, носки. Они напоминали мне, насколько я в них нуждаюсь. Они должны были подписывать договоры по моему кредиту на обучение. Когда мы с папой ходили за ноутбуком, меня поразило, насколько жизнь может быть веселой. У нас с ним имелась определенная сумма, так что мы сравнивали различные комплектации и опции. Я рассказал ему, на какие планирую ходить курсы. Он слушал с интересом.
Но в тот день прямо перед ужином раздался телефонный звонок.
– Ты не собирался мне позвонить? – спросила она.
– Эдриен отвезет меня завтра в аэропорт, – сообщил я родителям.
Они поняли – хотя мои мама с папой к нашей связи относились скептически, они воображали, что у нас такая же большая, круглая и розовая любовь, как и у всех тинейджеров. Так что они всецело предоставили сцену прощания в аэропорту ей.
Я отвел на нее полчаса. Я заеду за Эдриен в два; когда мы доберемся до аэропорта, у нас еще будет время. Обратно она поедет на такси, а родители в тот же день заберут машину со стоянки. Меня, конечно, до ужаса пугало, что им придется претерпеть такие неудобства.
Когда дошло до дела, Эдриен припозднилась. В тени небоскреба было прохладно, пока я ждал в машине, кожа пошла мурашками.
Оделась она небрежно. Футболка, заправленная в джинсы без ремня, надулась, так что в мою машину как будто бы влетело облачко.
– Мы опаздываем, – это все, что я сказал.
Дорога слизала и проглотила машину, потом выбросила на шоссе, которое, подобно акведуку, выводило нас из древнего города Талсы, я собрался с мыслями: возможно, это последний раз. Центр, зеленый район, где я ходил в начальную школу, – все это уже осталось позади, городской пейзаж расплывался. Дома, рекламные щиты, фастфуд, мебельный рынок – за это лето в памяти не отложилось ничего нового по сравнению с тем, что там уже было. Талса навсегда останется равнодушной. Сегодняшний день от прошлого отличало лишь пассажирское сиденье: Эдриен Букер, знаменитая девушка. После того как уедут родители, у меня не будет повода сюда возвращаться, если только меня не позовет Эдриен, а она этого не сделает.
Она хотела помочь мне достать чемоданы из багажника, но я вытащил все сам и пошел. Она старалась не отставать; пыталась заглянуть мне в глаза. Но я хотел, чтобы именно таким она меня запомнила. Я решил сдать все в багаж. И шел рядом с Эдриен с пустыми руками – лучше, думал я, не брать с собой в будущее никаких книг.
– Джим, – сказала она. Мы остановились возле стойки с газетами, неподалеку от моего выхода. – Я могу посидеть с тобой. Или уже пойду. Я не знаю, как ты предпочитаешь прощаться.
Я вынужден был обернуться, посмотреть, что за люди вокруг нас. Не друзья. Не сказать, что мне не понравился, например, мужчина в клетчатой рубашке цвета охры, который проходил мимо, но он заключил какую-то сделку со своей простотой, которую мне даже никогда не предложат, – как и он не поймет, почему я столько средств вложил в собственное тщеславие и в каких я теперь огромных долгах. Как Эдриен смеет спрашивать меня, чего я хочу? Я хотел, чтобы она ехала сюда по собственному желанию. А она вела себя так, будто она тут лишь из вежливости, чтобы мне услужить.
– Я возвращаюсь в колледж, – это все, что я сказал.
Эдриен была озадачена. Она не понимала, каким дураком я себя все время чувствовал?
– Удачно записаться, – прохрипел я.
И сел ждать выхода на посадку один. Это был мой последний взгляд на Талсу, а я ее даже не видел: в окне лишь летное поле да небо, как будто бы весь город соскочил со стола. Я молил бога дать мне твердую память, чтобы все это сохранить. Как я сказал сам себе, прощание с городом было важнее прощания с Эдриен. Еще я, естественно, сказал себе, что закончу колледж, а это всего через год после окончания школы – цель пугающая.
Часть II
1
Я вернулся в колледж и завел кучу друзей. Я теперь стал старше и носил свою свежеобретенную богемность, как старый пиджак. Я всегда с радостью готов был приветливо разделить с народом косячок. Или чокнуться. Эдриен я едва ли забыл. Какое-то время я писал ей по электронной почте, но общение не складывалось. Она либо вообще не отвечала, либо беззаботно писала какие-нибудь два слова. «Ты философ», – подытожила она в ответ на одно из моих лучших и самых прочувствованных писем. Я воображал, что Эдриен писала, нагнувшись над клавиатурой, даже не садясь на стул, печатала несколько слов и улетала. Я же сидел и сочинял ночами напролет. Нажав «отправить», я тихонько выходил из своей комнаты и бродил по тротуарам и дорожкам, ведущим к реке, все еще размышляя о только что написанном письме. Поднявшись, утреннее солнце пахло желудями и грязными джинсами. Я возвращался домой и ложился спать. Я не был несчастен. По сути, последние мейлы я отправлял, твердо понимая, что Эдриен их даже не читает. Слова таяли, как хвост самолета в небе, и маленький биплан, подрагивая, скрывался за горизонтом. С первыми заморозками я перестал писать. Это казалось мне необходимым жестом. А после этого постарался слишком много о ней не думать. Не потому, что это причиняло боль. А потому, что мне надо было как-то спрятаться от Эдриен в своей голове.
Что она скажет, если мы снова случайно столкнемся? Когда я закончил колледж и переехал в Нью-Йорк, меня всецело захватила эта мысль. Что, быть может, Эдриен увидит перед собой, глаза в глаза, человека остепенившегося. Или того, кому по прошествии этих трех лет еще есть что ей сказать. Я переехал в Нью-Йорк, как большинство подростков, с твердым убеждением, что это судьба и кульминация моего пути, и в мыслях готовился встретиться с Эдриен за каждым поворотом. Я буду за ней следить до следующего перекрестка, до того момента, как смогу рассмотреть лицо. Не то чтобы я именно планировал с ней встретиться. Она призраком посещала все мои томительные мечты: в стихах, в работе, даже в отношениях с другими девушками. Иногда мысль о ней была едва уловима среди прочих, но все же она всегда оставалась со мной – даже в колледже Эдриен была для меня как до третьей октавы, по которой строились все мои мысли.
В Нью-Йорке мне платили ровно 207 долларов в неделю, я работал в крупном литературном журнале – естественно, не на полный рабочий день, хотя в итоге выходил почти всегда полный. Кто-то говорил, что с их стороны преступление так мало мне платить, да еще и без соцпакета. Но работать в таком издании – престижно. Это все признавали. А я был рад оказаться в кругу знаменитых писателей – я печатал за них письма по вопросам их зарплат. Каждое утро я поднимался рано, надевал хорошие брюки, заправлял в них рубашку. И думал об Эдриен: о том, как она вставала по утрам, об ее юбках. Я хотел бы, чтобы она меня видела, когда я вылезаю из метро на Таймс-сквер. Город уже давно проснулся. Вот это центр.
Я не писал. Много ходил по вечеринкам. Литературный Нью-Йорк – это череда попоек. Но без ощущения, что все это куда-то ведет, как было в колледже. Или в Талсе. В Талсе мы ехали ночью через весь город, чтобы попасть на вечеринку, и держали себя так, словно это событие исторической важности. Именно поэтому по выходным было весело. Самообман – но достойный. А теперь я простачок. Живу на 828 баксов в месяц.
Сидя за рабочим компьютером, я выяснил, что если выровнять по центру карту Северной Америки и начать увеличивать масштаб не глядя, загрузится Кофивиль, Канзас. Я там бывал. Но не знал, что это наше национальное яблочко, центр Америки. На мониторе он выглядит лишь как перекресток дорог на бледно-зеленом фоне – но внизу экрана я заметил манящую белую полоску, и что если жать на компас на юг, вниз, вниз, вниз, попадаешь в Оклахому. Я нажал, картинка перегрузилась, и я поехал по самой привлекательной линии, ярко-желтому 169-му шоссе – вниз по одеялам сельскохозяйственных земель, по бледной пустоте в районе Новаты, и еще ниже, с уклоном на запад, мимо Талалы, мимо Улоги; в районе Овассо 169-е шоссе уверенно скакало на запад, казалось, будто компьютеру надо остановиться и подумать, собраться, и лишь через некоторое время он показывал Талсу.
Тем временем жизнь родителей продолжалась в стиле древних хроник. Молодой дядя в Галвестоне слетел на своем пикапе с трассы, и мне пришлось лететь в Техас и сидеть в зале ожидания, но он умер. И бабушка тоже умерла. Эти похороны пунктирными стежками крепили к жизни мою молодость. И я в любой момент был готов отказаться от вечеринки в Нью-Йорке ради похорон в Техасе. В этой части страны, в Оклахоме, обреталась реальность. Две кузины развелись. Выяснилось, что у одной из них огромный долг, и дедушка отдал ей сорок тысяч долларов из своих сбережений, прежде чем остальные вообще об этом узнали. Вскоре после чего его лишили права распоряжаться имуществом и отправили в дом престарелых.
Я скучал по Талсе, но уже привыкал отмечать Рождество в Техасе, с гирляндами на фоне песка – я пытался позвонить девушке, с которой в тот момент встречался, чтобы рассказать ей это. Я отошел от семейного костра, прижимая к уху телефон. Из темноты вылетел мальчишка. Мой троюродный брат. Я же разговаривал со «своей девушкой». Рассказывал, как здорово сбежать из Нью-Йорка в такую безграничность ночи.
Я ни с кем подолгу не оставался – и не писал. Я вообще редко набирал такие обороты, чтобы почувствовать, что это я, Джим Прэйли, снова сажусь за рабочий стол. Иногда, тихой спокойной ночью, я пытался рассказать кому-нибудь об Эдриен: я же знал, что сюжет интересный. Но я никогда не писал ей по мейлу, не пытался выйти на связь. Возможно, я иногда даже подолгу не думал о ней: ведь у каждого временами бывают повторяющиеся сны, которые, как правило, удается подавить. Однажды, вскоре после всей той истории, ко мне проездом заскочила Эдит, и я повел ее по барам. Я старательно даже не упоминал имени Эдриен, вообще ни разу.
– Видно было, эта Эдит за тебя переживает, – отметил потом мой сосед по комнате.
– Как ты это понял?
– Она сказала, что раньше ты был куда симпатичнее.
Я пытался устроиться куда-нибудь на полную ставку, пытался придумать, как распорядиться жизнью. Но все же иногда зимними вечерами, когда я возвращался домой, голова должна была быть забита другим, а я плелся по снегу и смотрел на порог своего дома в надежде, что там меня ждет Эдриен. Как будто она была из тех, кто придет через пять лет разлуки и будет ждать на снегу.
Однажды, когда я ехал домой на метро, мне показалось, что я вижу ее в соседнем вагоне, такую чопорную девицу. Я прижался спиной к двери, сердце заколотилось, и когда поезд снова въехал в тоннель, я постарался разглядеть ее отражение в окне. Она вышла на первой станции в Бруклине, я тоже выбежал, взлетел по лестнице и следовал за ней, держась на определенном расстоянии – ее светлые волосы были уложены в сложный шиньон, от походки захватывало дух, она стала еще более живая, чем раньше – потом я понял, что могу потерять ее из виду, ускорился, но упустил, пока я переходил через дорогу, девушка, кем бы она ни была, скрылась за раздвижной стеклянной дверью.
О том, что случилось с Эдриен, я узнал вскоре после своего двадцать четвертого дня рождения. Это был прохладный сентябрьский день; я собирался на работу, но вдруг прервался, чтобы вырвать из стены оконный блок. В той комнате было всего одно окно, и все лето я не мог его открыть.
И хотя я уже опаздывал, я все равно довольно встал у открытого, наконец, окна. И решил проверить электронную почту. За ночь пришло какое-то письмо, и на него было уже четыре-пять ответов. Оказалось, что это школьная рассылка – ни с того ни с сего. С кем-то что-то случилось – я пролистал ниже.
Многие из вас наверняка помнят Эдриен Букер, которая училась с нами в школе Франклина до одиннадцатого класса. Вчера утром она попала в серьезную автокатастрофу. Все должно наладиться, но на данный момент у нее парализованы ноги. Она была на мотоцикле. Позвоночник переломан в двух местах, помимо этого, на нем много ушибов. Но, как говорят врачи, Эдриен повезло, если бы между позвонками произошел разрыв, надежды на восстановление не было бы.
Эдриен многие годы являлась важным членом сообщества Талсы. Насколько я знаю, кто-то из вас у нее уже побывал. Я сам сегодня не смогу до нее добраться, но хочу сделать все возможное, чтобы об этом узнали все. Родственники Эдриен говорят, что они находятся в реанимации больницы Святой Урсулы в Талсе.
Пожалуйста, разошлите всем. Приходите ее навестить.
Чейз Фитцпатрик.
Я прочел это письмо прежде, чем понял, что это. Я был просто ошарашен, я боялся, что каким-то образом написал его сам. Я быстро перечитал, два раза, чтобы убедиться, что она точно не умерла. Я пытался прояснить в мыслях, что же случилось. Я не понимал. Все это время ее жизнь как-то продолжалась, а теперь вот такое говно. И поэтому об этом узнали мы все. Через Сеть.
Я даже не плакал. Я стоял, покачиваясь, уперев локти в стол. Перелом спины – плохо. Я потер глаза. Потом сел. И начал читать «Нью-Йорк таймс». Несколько лет я строго запрещал себе искать ее имя в «Гугле». Это было за гранью. Я ее не искал.
Я прочел статью о конгрессе, перешел даже на вторую страницу. А потом встал. Положил подбородок на оконную раму. Я опоздаю на свой поезд. Я заставлю себя воображать, что случилось с ее телом. Острые обломки костей, потемневшие нервы. Отлично. Это всего лишь рисунок, диаграмма. Я представил себе ее настоящую руку. Она словно торчала из моих мыслей, кулак сжат, запястье напряжено, коротенькие волоски стоят дыбом, совсем прозрачные, а мышцы предплечья тоненькие, как рыбешки. Как будто бы у нее только рука была сломана.
Я понял, что плачу. Все эти годы я представлял себе только лицо Эдриен. Но, наконец, до меня дошло, что было моим: я надавил лбом на стекло. Иногда так хочется, чтобы тебе вернули твой мир. Она стояла на террасе пентхауса, вытянув руку с зажатым между пальцев карандашом. Она как будто ее выбросила.
На работу я в тот день не пошел. Это – подарок мне от Эдриен. Я позвонил боссу и сообщил о своих планах: через полтора часа есть самолет, если успею, уже к обеду буду в Талсе.
Когда я ехал на такси в аэропорт Кеннеди, сознание рассыпалось, я хлопал глазами и был спокоен. Водил пальцем по кнопкам мобильника. Я пропал – я сидел, ошеломленный, а мимо проплывали улицы Нью-Йорка. Радио я не слышал. Я не бывал в Талсе уже пять лет.
Рейсы задерживались, я мог бы посидеть и все заново обдумать, но открыл ноутбук и снова проверил почту. Рассылка просто взорвалась: все бывшие одноклассники почувствовали необходимость быстренько что-нибудь напечатать, продемонстрировать, в каком они ужасе, пожелать Эдриен всего хорошего. Теперь у меня было время внимательно изучить трэд, и я узнал, что Джеми Ливингстон, с которым я некогда дружил, тоже в этот же день угодил в больницу, хотя у него все было менее драматично – ему потребовалось какое-то непонятное лечение для костей. И тут все разошлись. Составили хронологию страданий всех достойных учеников, кто рано погиб, у кого умерли родители, травмы, пожары, перерывы в обучении, список наслаивался на список в ритуале скорби. Хотя, по сути, это скорее напоминало круг почета – вот, у нас была жизнь, и мы можем это доказать. Реальный мир коснулся и нас. Сложнее нам из-за этого не стало – наоборот. Все запреты на обсуждение каких-то тем, страшный рейтинг популярности, тщательно оберегаемый эгоизм – вся эта фигня ушла. Мы начали очень тепло общаться.
Я сел в самолет и стал дочитывать. Стюардесса попросила выключить ноутбуки и опустить шторки на окнах, и они засветились от яркого утреннего солнца. Я сидел, склонив голову, я уже устал, я ждал. Когда самолет набрал высоту, я снова достал ноутбук. С утра пришло пятьдесят три письма. Но я не помнил, чтобы кто-то из этих людей дружил с Эдриен. Никто не ответил на мой вопрос – какова причина аварии? Какую жизнь обещают ей врачи, если она действительно не может ходить? И что именно подразумевается под «родственниками» Эдриен? «Не могу в это поверить», – написала некая Ким Уил. А, Ким Уил, она, когда мы учились в последнем классе, читала по утрам объявления по радио. Что она вообще знала об Эдриен? «Был вчера в Св. У. Поразительно, как такие события объединяют людей. Эдриен, мы очень рады, что у тебя все наладится, мы все посылаем тебе свои силы». Как будто она сама будет это читать.
Я снова закрыл ноутбук. В кармашке на спинке сиденья лежал пакетик «Брукс Бразерс» – эта овца взлетела в воздух[17]. За десять минут до посадки мне пришлось подняться и купить Эдриен зеленый галстук – я подумал, что прикольно будет привезти подарок. Я аккуратно достал его из пакетика, наклонил голову и надел его на шею. Я в полетах всегда двигаюсь очень медленно. Ведь воздух такой разреженный. И каждый раз думаю: если самолет упадет, что после меня останется. Эдриен попала в катастрофу, со мной это тоже может случиться. Сегодняшний полет – наиболее непредсказуемый и, возможно, самый судьбоносный в моей жизни. А если я умру, никто ничего и не узнает, я останусь загадкой. Я опять мимолетно заигрывал с Талсой. Родители никогда не поймут, что именно со мной творилось, – но умеренность их любопытства меня устраивала. Покупка билета перед самым отлетом обошлась мне в 647 баксов – максимальная трата по текущему счету. Галстук – 59. Такси – 35. Таким образом, я понятия не имею, как платить за квартиру в октябре, и вообще финансовое равновесие в обозримом будущем будет нарушено.
Прилетев в Талсу, на багажной ленте я своего чемодана не нашел. Вещей я взял немного, но сам он был огромный. Я очень обрадовался, что Маркус меня с ним не увидел. Он был хорошим соседом, но свое решение я с ним обсуждать не хотел. Хотя через некоторое время надо будет ему позвонить.
Солнце, зажатое в стеклянных стенах Международного аэропорта Талсы, подняло с мозаичного пола запах пыли. Лента все щелкала и нарезала круги. Все остальные пассажиры разобрали свои чемоданы и разошлись.
Я пошел в багажный отдел в приветливом настрое. Там работал парнишка моложе меня, который не понял, что я хочу с ним подружиться; он мрачно вышел в служебное помещение и вытащил оттуда мой чемодан.
– Он прибыл раньше. Вы откуда летели?
– Из Нью-Йорка – но это все решилось в последний момент, «Юнайтед» до Далласа, «Американ» досюда.
– Тогда ясно. Он другим маршрутом сюда добрался.
А я уже почти надеялся, что потерял его – мне не очень-то хотелось тащить чемодан в больницу. Но вот он, тут. И он мой.
В аэропорту Далласа я морил себя голодом, так что у меня осталось немного наличных. Можно поехать на любом наземном транспорте, который подвернется – я, как романтик, воображал, что сяду в автобус. Как будто действительно верил, что в послевоенной Америке еще существует общественный транспорт. Я обратился в пункт аренды машин с сентиментальной просьбой: «У вас есть что-нибудь типа «Камри»?».
Приборная панель оказалась поновее, такая пухлая. «Камри», на которой я ездил подростком, была простенькой, как дворняга. Я едва смог позволить себе взять машину в аренду, и вернуть придется очень рано в день отъезда, через два дня. Но в больнице можно будет поесть задаром. Я пристегнулся, порадовался, какое приятное сиденье; в голове всплыла карта автодорог Талсы. Выехав из гаража, я сразу опустил стекла и вдохнул свежий, уже забытый воздух – был ли я более хорошим человеком, когда жил здесь? Дорога, по которой мы с Эдриен ездили в тот гей-бар, тут недалеко. Сейчас я направлялся на юг по 169-му, было за полдень, солнце палило, небоскребы центра по правую руку, я набрал скорость. Я заметил небоскреб Букеров еще из самолета… Машина с открытым окном подрагивала, воздух забивался в рот. Уже в нескольких километрах позади осталась школа, приближались районы, где жили девчонки, в которых я был влюблен: брызги чувств на сорок первой улице. Потом на пятьдесят первой. И мне все время казалось, что за мной кто-то наблюдает – надо было резко и правильно вписываться в повороты, скользить по медиане и, наконец, выехать на дорожку, ведущую к «Святой Урсуле».
Мне не хватило времени подумать. Полет был слишком короткий. Всего семь часов назад я полез проверять почту, не зная, насколько судьбоносным будет это решение. Я сбавил обороты, чтобы постараться приготовиться. Летя из Далласа, я повторял про себя: «Я узнал, что случилось, и захотел приехать». Но ведь я там буду не один? Лучше небрежно: «Это я тебе в аэропорту Кеннеди купил. Я на работу собирался, и тут это письмо». Я всегда воображал, что Эдриен будет меня искать либо же судьба приведет ее ко мне. Я надеялся, что она просто поймет. Может, все будет так: она меня увидит, глупо улыбнется, я тоже глупо улыбнусь, а потом подойду к кровати с этим пакетиком: «Эдриен, я тебе галстук купил».
Больница Святой Урсулы стояла на возвышении, современное здание галочкой, два крыла под острым углом, она возвышалась над дорогой, как будто бледно-розовая секция, вынутая из Пентагона. Вокруг нее высадили городские груши. На фоне розовых стен листва казалась черной.
Припарковавшись, я внезапно успокоился. Я здесь; я тут все знаю. Когда я в детстве стоял в очереди на водную горку, как раз смотрел на больницу Святой Урсулы – она была далеким ориентиром, такой футуристический замок с полосками окон. Я захлопнул дверцу. Войдя в больницу, я понял, что сейчас в какой-то мере потеряю Эдриен, ту, на которую я опирался в своих мыслях, – надо вдохнуть поглубже. Я подошел к стойке и произнес ее имя. Это было нелегко. По определению бывшая девушка – это такое воспоминание, на которое уже не имеешь права. Но я уже ничего не контролирую.
Я поехал на лифте вниз, он как бы завис, но потом звякнул на моем этаже. Меня радовала мысль, что Чейза не будет. Может, придет Эдит? Или Лидия, тетка Эдриен? Но что бы ни случилось, я покрыт броней, я мрачен – двери разъехались в стороны, я вышел в большой холл, полный родственников больных. Видно было, что они родственники. Я пошел дальше, таща за собой свой огромный чемодан, в самый дальний угол этого зала длиной в девять-десять диванов. Люди принесли подарки: наборы с предметами первой необходимости, корзины с фруктами, бумажные пакеты с одеялами, спортивными напитками «Гэтороейд» и кроссвордами. Почти все говорили по телефону, рассказывая кому-то, как обстоят дела. Матери, тетушки и сестры: они имели на это полное право.
Я увидел мужчину, в котором без сомнений узнал Рода Букера: он держался в сторонке. Я пошел дальше, делая вид, что не знаком с ним. Я катил чемодан по периметру, поворачивая его боком, когда нужно было протиснуться мимо чьего-нибудь лагеря, и приподнимая пакетик с галстуком. В конце концов я остановился у него за спиной и поставил чемодан. Он не обернулся, я похлопал его по плечу. Казалось, что хлопаешь окорок.
Так вот твой отец: он встал; отвел локти, вытянулся. Род Букер был мужчиной грузным, двигался медленно, но оказалось, что он даже выше меня. Заросшее буйволиное лицо, большие голубые глаза, как у Эдриен. Конопушки и другие пигментные пятна осыпались в белоснежную бороду.
В глаза он не смотрел.
– Мистер Букер? Я Джим Прэйли.
– Ты к Эдриен?
Я кивнул.
– Ну тогда идем. – Он шел мимо диванов медленно, с достоинством. Пропустил вперед мальчишку с гоночной машинкой «Хот-уил», она жужжала очень реалистично.
Я нес галстук под мышкой.
– У нее много посетителей? – поинтересовался я.
– Вчера вечером из ваших было много, – сказал он.
Выйдя из холла, мы словно попали в лабиринт одиноких лабораторий, но Род знал дорогу. Остановившись, он надавил на поршень в стене, и впереди по коридору открылись, разъехавшись, две чрезмерно огромные двери. Я все уверял себя, что посмотрю на Эдриен и не отвернусь, как бы она ни была покалечена: что она сильно пострадала, что ей трудно выдерживать взгляды и поддерживать беседу.
Что подумает Род, став свидетелем такого воссоединения? По сути, я, наверное, знаю его дочь лучше, чем он сам. Думаю, это их самая длительная встреча за последние десять лет. Но он шел впереди, как безропотный медведь.
Он завел меня в небольшое отделение, в торце которого стоял стол медсестры, а остальное пространство было забито каталками и кроватями. Оно выводило в пять-шесть палат; все они были заняты за исключением той, перед которой остановился Род. Свет там горел чрезмерно яркий, как в ночном клубе после закрытия, внутри мыли пол.
– Вы что, ее уже перевезли? – крикнул Род.
Уборщик испуганно посмотрел на него – он не понимал по-английски.
Я отошел к заброшенным сбитым в кучу кроватям, словно знал что-то такое, чего не знал Род. И нашел ее.
2
Каталку с Эдриен, высота которой доходила мне до диафрагмы, поставили в коридоре.
На глазах у нее была повязка, на шее воротник, остальное тело накрыто простыней.
На губах появились белые точки, как на убранном в холодильник куске жареного мяса. Кожа с краю повязки, закрывавшей глаза, припухла, почернела, как графит, к уху вели ужасные тающие ручейки. Она была без сознания, но выражение губ мрачное, знающее.
Узнал я ее по носу.
Род подошел к изголовью и взялся за углы. Он надул щеки, посмотрел на Эдриен, а потом легонько вздохнул, выпуская воздух на ее спутавшиеся волосы.
– Она в сознании?
– Она не очнется еще несколько дней, мой друг.
Я был в шоке. Возможно, глаза Эдриен завязали не зря, как будто она не могла посмотреть в лицо случившемуся. Но зачем все остальное – смятые простыни, капельницы, которые на время положили ей между ног? Я вообще не мог поверить в реальность Эдриен. И в то, что она так сильно и основательно пострадала.
Род обошел каталку и встал напротив меня, взялся за поручни, расставив руки.
– Она настоящий боец, – сказал он.
– Да, – согласился я.
– Ты откуда приехал?
– Из Нью-Йорка. А вы все еще в Род-Айленде?
Он посмотрел на меня с удивлением. Потом кивнул.
– Она показывала мне видео. Которое сняла лет в двенадцать.
Род на секунду задумался, потом кивнул.
– Точно. Эдриен ко мне приезжала…
– Место, похоже, красивое…
– Так ты прямо из Нью-Йорка прилетел?
– Да.
– Поразительно, – он покачал головой и как будто бы снова принялся рассматривать дочь. – Это много значит.
Род начал пытаться подвинуть каталку. Но колеса были заблокированы. Он принялся вяло тыкать в них тупым носком своего огромного ботинка, но тут появился медбрат с синей клейкой лентой.
– Извините, мы с Кевином займемся этим, – он встал на место Рода и начал приклеивать лентой провода, которые шли от монитора Эдриен, склеил вместе трубки капельниц, еще что-то – катетер, или как оно там называется.
– Давайте я помогу, – предложил Род.
Медбрат пропустил это мимо ушей.
Я вспомнил случай, когда мы с Эдриен пошли купить кусок мрамора. Он продавался в магазине типа «все для дома и сада». Она хотела потрогать каждый кусок, продавец чуть было не отказал ей. Он буквально выхватывал все из рук. Наконец, она сказала ему: «Выйдите минут на десять, когда вернетесь, я что-нибудь куплю».
Род подошел ко мне. Поскольку медбратья еще не ушли, он прошептал мне на ухо:
– Моя сестра считает, что ее не надо перевозить.
– Все так сложно?
– Ну, тряска Эдриен не на пользу. А сестра думает, что они хотят эту кровать освободить, и поэтому ее перевозят.
– Ваша сестра… это Лидия?
– Уху. – И Род снова вернулся к каталке.
– Последите за повязкой, – сказал медбрат, – это очень важно. Вы не подержите? – обратился он ко мне.
– Да, – согласился я, совсем не ожидая, что он тут же вручит мне пузырь с молочно-белой жидкостью. Приподняв его, чтобы отделить его трубку от остальных, я почувствовал некое сопротивление и с ужасом подумал, что она ведь приклеена к коже Эдриен. Я вытянул и напряг руку, чтобы она не дергалась.
Мы вчетвером нога в ногу шагали по коридору, а Эдриен как бы плыла посередине. У повязки на глазах была мягкая подкладка, как с нежностью сложенная салфетка для уборки. Я ее любил. Провода и капельницы тянулись за ней, как вагоны поезда, только Род шел с пустыми руками. Я подумал, не следует ли мне его пожалеть.
Заставляя всех остальных жаться к стенке, мы завезли Эдриен в лифт, там ее каталка казалась похожей на банкетный стол. Но все отворачивались. Только одна женщина, афроамериканка, держалась, как настоящий дипломат, и смотрела на Эдриен с неугасающим сочувствием – и так пристально, словно Эдриен это было необходимо. Я же сам рассматривал те части ее тела, которые не пострадали, неповрежденную кожу, нормальный участок вокруг носа, нетронутую руку, показавшуюся из-под простыни. Вообще я не знал, куда направить взгляд. Я попытался улыбнуться той милой женщине; я посмотрел вверх, в сторону, на счетчик этажей над дверью. Но ехали мы долго, так что мне пришлось сдаться и перевести взгляд снова на каталку Эдриен. Одна рука была в гипсе, но другая, та, что ближе ко мне, почему-то оказалась раскрыта, и она лежала, обнаженная, ладонью вверх, мягкая, влажная, пальцы чуть согнуты. Я спросил сам себя, должен ли я взять ее за руку, может, я за этим и проделал такой путь: позволить себе эту единственную вольность. Я улечу даже раньше, чем Эдриен придет в сознание – так что я просто сожму ее руку и уеду. Но тут вдруг лифт повис на своей веревочке. Двери задрожали и как будто неожиданно разъехались.
Перед нами стояла Лидия, сцепив опущенные руки. Пока мы всем парадом шли в новую палату Эдриен, она нетерпеливо улыбалась. Медсестры избавили меня от молочного пакета и оттолкнули нас от каталки; переезд получился быстрый. Я смотрел через дверь, как группа из четырех-пяти сестер переложила Эдриен и моментально подключила все оборудование. Сразу же громко затикало, потом облегченно засвистело. Лидия подошла поближе, ей было интересно, и она приподняла простынь – на Эдриен надели белые пластиковые надувные леггинсы, поделенные на секции, и они по очереди то сдувались, то надувались, неспешно поднимая и опуская ее ноги, такой механический массаж. «Чтобы тромбы не образовывались», – объяснила сестра.
Уложив Эдриен поровнее, медсестры ушли, и Лидия тут же повернулась к Роду.
– Ну вот.
Он снял шляпу и почесал затылок; потом бросил взгляд на меня.