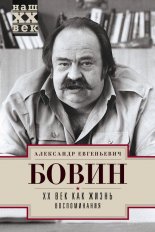Карта Талсы Литал Бенджамин

Дженни этот разговор уже наскучил.
– Я ее с Рождества не видела.
– Странно, что она так редко приезжает, – снова начал я, стараясь не выдавать эмоций. – В другом городе жить, наверное, непросто.
– Вообще, думаю, Эдриен это на пользу, – ответила Дженни.
– Эдит Альтман ей много помогала, да? – спросила Ким.
– Так и Эдит там?
– Она занимается кастингом, – рассказала Дженни.
– Эдриен снималась в кино?
– Нет.
Ким схватила меня за коленку.
– Ты слышал ее диск?
– Тот, давнишний?
Все озадаченно посмотрели на меня.
– Она же собиралась записать альбом с Альбертом Дуни?
Ким бросила взгляд на Дженни в надежде на поддержку.
– Это была ее первая запись. Прошлой зимой. Она пользовалась популярностью.
Ник как-то расплывчато это подтвердил.
Самым острым моим чувством было ощущение потери контроля. Я должен был что-то рассказать, какую-нибудь историю, чтобы они поняли, как мы с ней были близки. Но она переехала. Я так разволновался, что не мог даже поднять на ребят глаза, теперь, хоть никто ничего и не сказал, центральной темой стало мое неловкое положение.
– Я тут подумал… – попытался я.
Они ждали.
– Про то, что ты сказал, Ник, что Эдриен была без шлема, – я, все еще вдавленный в кресло, вытянул вперед пальцы и начертил в воздухе зигзаг. – Она еще не пришла в себя?
Талса считается востоком. Она относится к полосе леса с широколистными деревьями, которая тянется за Аппалачами и ковром покрывает юг. За Талсой деревья становятся реже, а потом начинается Оклахома, известная по серебряно-желатиновым фотографиям «пыльных котлов». Оки[18] бегут в Калифорнию. Талса находится немного в стороне, повыше равнин. Сюда стеклись иммигранты из разных мест: цивилизованные племена, вынужденные бросить свои фермы в Джорджии и Флориде. Они пришли сюда пешком. И какое-то время владели этой территорией единолично.
Я наблюдал за лежавшей в постели Эдриен. Ее грудь то поднималась, то опускалась, а я видел ее старые платья, надутые ветром. Я вспоминал Талсу. Больше всего здешние улицы нравились нам в обед, когда народу меньше всего. Не то что в Калифорнии. Мысль о Калифорнии мне вообще не нравилась. Я вообразил Эдриен в Лос-Анджелесе, как она позирует на перилах той самой знаменитой обсерватории. Мне неприятно было думать, что Эдриен уже не тот человек в своем уме, у которого все под контролем. Чтобы переехать в большой город – как я сам прекрасно знал – требовалось унизительное рвение. Ты должен быть готов посещать тысячи мероприятий и вечеринок, буквально и не зная, пригласили ли тебя. Как я себе представлял, она не особо-то была на такое способна. Эдриен, которую я знал, стояла перед мольбертом и из штанов не выпрыгивала. Она могла час не сходить с места.
Лидия не поняла, почему я так расстроился.
– Джим, она была молода и одинока, вот и переехала в Калифорнию.
Я-то думал, что если Эдриен когда-нибудь сменит место жительства, я буду об этом знать, – я действительно верил, что вышел бы на связь, если был бы в курсе, что она уехала из Талсы. Но если бы Эдриен и собиралась переезжать, ей надо было выбирать восток. Хотя ей вообще не следовало этого делать. Эдриен никогда не путешествовала. Отчасти в этом и заключалась ее привлекательность. В самодостаточности. Может, Лидия была отчасти права: что-то пошло не так. Может, эта авария служила неким свидетельством тому, насколько сильно Эдриен сбилась с пути. Эдриен была подавлена – но ей просто нельзя было быть подавленной.
Дженни отыскала меня в углу, я сидел и пялился в пустоту. Она спросила, не хочу ли я залезть на крышу.
Я и не знал, что это возможно. Я поднялся вслед за ней по запасной лестнице, и за аварийной дверью нас встретила ночная прохлада.
Дженни быстро пошла по гравию.
– Здорово, да?!
Я вздохнул с облегчением. Фонарь на двери освещал близлежащий участок крыши, а остальное тонуло в темноте, нависающей над городскими огнями. На Дженни были короткие шорты, она поспешно шагала прочь от света, и ее икры светились, как кегли для боулинга. Она направлялась туда, откуда открывался самый красивый вид: стоящие вдалеке небоскребы казались трехмерными, а районы между нами были, наоборот, совершенно плоскими, как равнина со светящейся землей. Я подумал, что небоскребы Талсы скромнее нью-йоркских, но вместе с тем они восхитительно выпуклы.
– Город такой красивый, – отметил я.
Но Дженни не слушала. Она искала что-то возле карниза.
– Черт.
Фонарь над дверью погас. Дженни встала и помахала бутылкой.
– На случай наступления темноты, – объявила она. Голос у нее стал хрипловатый. Думаю, она несколько смущалась, преподнося мне этот сюрприз в виде бутылки виски.
Вдруг из воздуховода у нас за спиной вырвалась струйка пара, пришлось посторониться. Я вернул Дженни бутылку, и она повела меня дальше вдоль выступа на крыше. Я шел след в след. Ее каштановых волос, затылка, пиджака с длинными рукавами в такой тьме совершенно не было видно, так что я шел за отблеском бутылки, болтавшейся возле ее голых ног.
– Виски – отлично, – прокомментировал я.
– Мы вчера его тут спрятали, – объяснила она. – Нам предстоит долгая дорога.
Я не знаю, кого она подразумевала под этим «мы» – всех оставшихся внизу ребят или уже образовалась группа избранных: Дженни и еще один-два человека, которые теперь всем заправляют? Я проторчал с ними в холле весь день и весь вечер. Я подготовился к отвержению – сам себя я считал блудным сыном, появившимся неожиданно, которому, возможно, никто не был рад. Я старался обращаться к друзьям Эдриен с полуулыбкой государственного деятеля. По возможности, здороваясь, я пожимал им руки. Но никто и не интересовался, кто я такой. Мир оказался менее связным, чем я его помнил. Многие из ребят не знали даже друг друга. Может быть, после того как Эдриен переехала в Лос-Анджелес, тусовка распалась. А я уже вообразил, какую речь буду произносить, представляясь. Но возможности для этого не подвернулось. Одна только Лидия признала, насколько внезапным был мой приезд.
– Лидия попросила меня сегодня посидеть с Родом, – сказал я, – у Эдриен. Так что через час мне надо будет вернуться туда.
– Круто, – ответила Дженни. Когда мы сюда поднимались, она стащила с какой-то кровати больничное одеяло и теперь разложила его на гравии на краю крыши, чтобы можно было сесть.
В тот вечер, когда мы с Дженни улизнули в бартлсвильский лес, чтобы перепихнуться, мы были такие смешные. Мы пошли через двор с огромными одеялами на голове, как будто маскируясь – хотя солнце стояло уже высоко. Мы как бы формально попытались сохранить инкогнито, делая вид, что собираемся совершить нечто недозволенное. Хотя я в тот момент думал вовсе не о том, что предаю Эдриен, а о том, что произведу на нее тем самым впечатление. Она меня этому научила. Я не знаю, понимали ли это собравшиеся в больнице ребята. Будь крут. Развлекайся. Думай головой. У человека есть моральное обязательство делать то, что хочется. И не растрачиваться на нежности этикета.
Я отхлебнул виски и передал бутылку Дженни. Когда она глотала, я различил контур ее горла. Она вытерла губы.
– И как Нью-Йорк? – спросила она. – Вот о чем нам следовало бы поговорить.
– Ну. Отличный город. Но денег нужно много.
– Эдриен точно так же говорит о Лос-Анджелесе, вот так, огульно: Лос-Анджелес отстой.
Мне эта тема не понравилась.
– А ты могла бы вот так просто переехать?
– Вообще-то после колледжа я собираюсь в Нью-Йорк.
Дженни в Нью-Йорке я легко мог представить. Иногда мы с друзьями приходили на какую-нибудь тусовку, и я не особо знал, кто и как нас туда пригласил, но мы входили и заявляли о своих правах, доставали из холодильника пиво. На этих вечеринках в квартирах, увешанных постерами, которые мы видели уже не первый раз, где мы совершенно никого не знали, девчонки были разряжены, а их парни недовольны – словно хотели выгнать нас не то что из своих квартир, но и из самого Нью-Йорка. Было до боли очевидно, что мы, подростки Нью-Йорка, снимаем комнаты во множестве параллельных вселенных. Мы ходили по вечеринкам и пытались увести друг у друга девчонок. Когда получалось, все было легко. Но если какая-нибудь миленькая девушка вдруг колебалась, ты начинал ее жалеть, потому что в такие моменты становилось видно, откуда она и куда пытается попасть.
Она отыскала это винтажное платье, набила книжный шкаф доверху. И встречалась, наверное, с очень хорошими мальчиками. В какой-то мере ее жизнь была мечтой. И именно в этой же мере я пожелал ей всего самого лучшего и вернулся домой, жалея ее, себя и всех детей этого города.
– Тебе стоит поехать в Нью-Йорк, – сказал я Дженни.
Она закурила.
– Значит, в Нью-Йорк, не в Лос-Анджелес?
– Помнишь, как Эдриен отрезала хвост? – Ближе к концу того лета она сделала это прямо во время выступления на сцене. Эдриен принялась размахивать им, и он распался над нашими головами, как пачка спагетти. Перед концертом она залила хвост лаком, так что волосы стали очень жесткими.
Но Дженни была не в настроении предаваться воспоминаниям. Я или Эдриен будем пытаться стать художниками, пока время не выйдет, а ребята вроде Дженни уже давно смирились с реальностью жизни. Чейз же станет художником по-настоящему. Эдит это Эдит. А Дженни вырастет и будет нас всех осуждать, это я знал наверняка. Гравий на крыше был еще довольно теплый, ведь он грелся целый день, и теперь, в темноте, до меня долетал его природный оловянный запах. Надо бы мне воспользоваться тем, что мы с Дженни остались наедине. Рассказать ей какой-нибудь секрет. Но как вообще жить? Спать со всеми, с кем пересекся?
– Зря она переехала, – сказал я.
Дженни сидела, подобрав под себя ноги, как пастушка.
– Мы с тобой похожи, – продолжил я. – Колледж, большой город, нам это нужно.
– Почти все, – ответила Дженни, – переезжают.
– Но Эдриен сколько лет тут прожила после того, как бросила школу? Это я к Талсе с теплыми чувствами отношусь. А она об этом даже не думала. Она вращалась на своей орбите, – я нарисовал пальцем круг в воздухе и продолжил, – рисовала, когда хотела рисовать, и ничего не делала напоказ. Меня радовало, что хоть кто-то в этом мире так живет. – Я посмотрел на Дженни. – Разумеется, это было возможно лишь потому, что она из богатой семьи.
– Ты давно их знаешь?
– Я тем летом однажды пересекся с Лидией. И все, – я еще ждал от Дженни реакции на сказанное.
– Эдриен вообще о родственниках редко говорила.
– Ага. Мы живем иллюзией, что у нее, по сути, нет родителей.
– Лучше бы так и было.
– Но она такая же, как и Лидия. В ней куда больше, чем она согласится признать.
– Я слышала что-то вроде того, что Лидия собирается отдать Эдриен каким-то врачам в Виргинии для медицинских экспериментов?
– Ну, Лидия рассматривает различные варианты, в том числе и это исследование в Университете Виргинии. Ей же надо что-то делать. К тому же это исследование – верный способ устроить Эдриен в хорошую реабилитационную программу, – я решил воспользоваться своим положением приближенного. Хотя мне и нравилось, что ребята развивают всякие параноидальные теории заговора.
– Но вот ее отец, – не унималась Дженни, – тебе не кажется странным, что он пропал на столько лет, а теперь вернулся? Ник говорит, что Род переживает за то, что она скажет ему, когда очнется.
Я посмотрел ей в лицо и ухмыльнулся.
– Сегодня мы с Родом вместе сидим с Эдриен. Может, она и очнется, – я сделал большой глоток.
Дженни смолкла.
– Думаешь, с ней все будет хорошо? – поинтересовался я.
– Ну, если врачи так говорят, то наверное, – неуверенно ответила она.
– Лидия сказала, что работа пищеварительного тракта может так и не восстановиться.
Она опять промолчала.
– И к чему все это? – спросил я.
Дженни явно не хотелось обсуждать эту тему.
Я посмотрел на нее, по крайней мере попытался, ведь было темно.
– Так противно об этом думать, – добавил я.
Дженни могла бы сделать шаг навстречу, сказать что-нибудь вроде: «Ты ее очень сильно любишь, да?». Но она ничего подобного не сказала.
– Я пьянею, – объявила она. – Мне скоро надо будет домой.
С ее стороны было мило, очень даже мило, взять меня с собой на крышу. Мы встали, свернули одеяло. Воздух был еще теплым – даже горячим, как будто бы ожидалась гроза.
– Я ее по-настоящему любил, – сказал я. Этим признанием я попытался воздать Дженни за ее доброту, словно хотел, чтобы и она что-то вынесла из этого нашего разговора.
Когда я спустился к Роду, от меня пахло спиртным.
– Я опоздал? – спросил я. Посмотрел на лицо Эдриен. Обратил особое внимание на один синяк: он за день уже пожелтел.
Род посмотрел на меня как-то странно.
– Лидия велела мне прийти к одиннадцати, – сказал я.
– Да?
– Да.
– Странно, – Род подался вперед, как делают полные люди, поставив руки на колени. – Я же говорил, что я побуду с ней.
– Да, она попросила помочь вам.
На миг он как будто растерялся, а потом прикрыл глаза.
– Боже мой.
Как следует я все не продумал: Лидия использовала меня, как пешку. Как своего представителя. Но я попросил Рода позволить мне остаться; сказал, что все равно все мои вещи тут.
– Ну конечно.
Пока я усаживался, он вкратце описал, как обстоят дела. Объяснил самую свежую проблему: когда позвоночник Эдриен зафиксируют на стержне, это даст легкий наклон, градусов пять. Это сделают уже завтра утром, во время стабилизирующей операции, и так останется уже навсегда.
– Пять градусов – это как будто бы много, – сказал я.
Я не хотел его расстраивать, но Род все равно уже только и думал обо всех этих моментах, о том, как ткани отреагируют на металл. Он рассказал мне все так обстоятельно, будто сам был врачом, а я – отцом пациентки.
– Я думал, что его просто скобами закрепят.
Род покачал головой.
Когда он оказался передо мной – белоснежная борода, шея с грубой покрасневшей кожей, – я начал понимать, почему Эдриен, когда ей было двенадцать, не пожелала поехать с ним на восток. Я не особо винил Рода за то, что он сложил с себя отцовские обязанности; казалось, что он вообще не отец. Он как будто был непричастен. Я сочувствовал этому человеку, который не знал, что сказать, и в итоге оказался так сентиментален – например, когда назвал мой приезд сюда «поступком, заслуживающим уважения». Так что можно было понять, почему он повторялся, говоря о позвоночнике Эдриен и всяких медицинских аспектах. Может, ближе к утру Род откроется.
Я сходил к медсестрам за кофе. А потом, как и бывает глубокой ночью, мы решили раздобыть и еды. Я сказал, что есть местечко с круглосуточной доставкой, где готовят барбекю. Я пользовался их услугами «еще в стародавние времена», загадочно добавил я, надеясь заинтриговать Рода. Я ведь буквально жил в его доме, в пентхаусе. «Вы остановились в небоскребе?» – спросил я.
Он сказал, что нет, что там ему не по себе. Похоже, Род считал, что их семейный бизнес, компания «Букер петролеум», был воплощением зла. Я попробовал подойти с другой стороны: не планировал ли он переехать обратно в Талсу? Я воображал, что это легкое раскаяние может нас с ним роднить. Фигурально выражаясь, мы с ним оба добровольно отправились в изгнание. Но Род понял меня неправильно и начал заваливать различными аргументами, подтверждающими разумность моего решения уехать с нашей с ним общей родины. «Но иногда хочется и рыбки», – сказал Род. Он согласился, что барбекю тут весьма недурное: «Хорошо, но не превосходно. А если суши захочешь? Тогда да поможет тебе Бог». Я не осмелился сказать, что в Талсе полно мест, где можно купить вполне приличные суши. «Ты пытался в этом городе за кого-нибудь голосовать? – поинтересовался Род. – Это все равно что биться головой об стену. Выбирай хоть коммунистов, хоть демократов в президенты, все равно».
Когда привезли барбекю, мы сели рядом и поели молча.
Род по большому счету был похож на Альберта. Оба родились в семьях нефтепромышленников, отказались от своего места во взрослом мире и тщетно пытались найти себе оправдание. Они умаляли ценность нашего города, особенно жестко критикуя отсутствие культурной жизни. Уже подростком я знал таких людей, и мужчин, и женщин – правда, из среднего класса – чьим основным утешением в жизни стал цинизм, который был направлен не на человеческую природу или что-либо еще, а конкретно на наш город, Талсу. Ведь критиковать ее было легче легкого. Я подумал, что в Нью-Йорке это менее распространено. Можно различными способами демонстрировать цинизм и в его адрес, но оказаться для него слишком хорошим нереально. А в Талсе именно мы были хуже всего. Мы, подростки.
Перед поступлением в колледж я посетил нескольких местных выпускников университетов, расположенных в других штатах, я ходил к ним домой, и только тогда я понял, что в Талсе есть свои лидеры – такие люди, как Лидия, которые верят в Талсу и которые здесь реально работают. На эти беседы я ходил по очереди – в серый дом, в красный дом и в синий дом. Там меня ждали директор небольшой компании, местный декан, адвокат. Директор из серого дома сводил меня в свой гараж на три машины и показал коллекцию «Корветов»: этот человек впервые за несколько лет сказал мне в глаза, что быть умным недостаточно. Надо еще и спортом заниматься. В красном доме меня усадили в лучшее кресло в нише из книжных полок, словно чтобы поддержать меня этим; хозяин же расположился на жестком стуле в вакууме, готовый к открытому огню. Напротив, человек в синем доме был откровенно нервный. Если я читаю меньше, чем он, – плохо. Но тем не менее из этого дома, как из обоих предыдущих, я вышел окрыленный, размышляя о своих шансах перебраться на восток, но вместе с тем и смотрел вверх, на звездное небо, гадая, какие неслыханные силы складывались созвездиями в самой Талсе. Даже если ты тут вырос и не пропускал вечерних новостей, тебе бы и в голову не пришло, что власть исполняют отдельно взятые люди, спокойные, с хорошим положением, и что Талса утыкана ими, как небо звездами. Мне было лестно просто знать, что они существуют.
Наверняка эти люди, у которых я побывал в девяностых, в шестидесятых пересекались на каких-нибудь званых вечерах и с Родом, скорее всего, типичным для тех времен хиппи-наркоманом в солнцезащитных очках. Не сомневаюсь, что он их знал – по именам, по давнишним вечеринкам, может, учился с ними вместе в той или иной частной школе и помнил их, как помнишь грязную шутку, которую тебе шепнули на ухо в чрезмерно ранимом подростковом возрасте. Наверняка же были какие-то праздники, свадьбы, куда все они ходили молодыми, когда я еще не родился. Я легко мог представить себе, как Род избегает ребят за шестым столиком – тех, кто несколько десятилетий спустя произведет на меня столь сильное впечатление. А Род крутился возле стола с алкоголем. Потом переехал в Род-Айленд и сидел там, всех осуждал. На пляже. Поскольку Род отказался от игр власти, которые были прерогативой его класса, его размышления о политике – чистый бред. Вот как я думал.
Мы уже заснули в креслах – ну или мне так показалось, – когда вдруг в палату вошел кто-то еще. Я подумал, что медсестра. «Остальные разошлись», – сказала она, как будто бы оправдываясь, и села. Это была мать Чейза Фитцпатрика. Ее звали Кэрри: тем вечером я уже видел ее в коридоре, нас наскоро представили друг другу. Я запомнил ее еще с того дня, когда пришел к Фитцпатрикам и Кэрри открыла дверь, а я передал ей коллаж, который сделал для Эдриен. Меня очень удивило, что она еще здесь, что она пришла. А Кэрри сидела с таким видом, словно собиралась провести тут всю ночь. Она поправила юбку. «Эдриен – такая необычная девушка», – сказала Кэрри, глядя на нее.
У матери Чейза была красивая форма лица, челка на лбу и коварные морщинки вокруг глаз, которые она, очевидно, пыталась скрыть, но не смогла. Ей было, наверное, около сорока пяти. Вела себя она предельно вежливо, но как будто не заметила, что у нас на коленях стояли еще не выброшенные коробочки от еды, от которых пахло, и вот уже не сосчитать сколько минут мы сидели и молчали, спокойно, как медведи.
– Род, Чейз пытается найти ей работу. Но она поет, и у нее нет времени. Наши дети постоянно заняты! Род, а она ведь чем угодно смогла бы заниматься. Даже в кресле-каталке. Ты же ее знаешь. Эдриен все что угодно может.
Кэрри никак не могла понять, что я тут делаю.
– Чейз просил передавать всем привет, – она попробовала обратиться ко мне. – Он расстроен, что сам не может приехать. Но они фильм заканчивают.
Кэрри говорила так много, что я никак не мог сконцентрироваться; я даже начал не на шутку бояться, что она Эдриен разбудит, – я был не рад, что она пришла. Мне казалось, что у нас с Родом есть право находиться у постели больной – наши голоса имели значение в ее внутреннем мире, хоть и разное. Но Кэрри все портила; она была не глупее нас, но более стереотипной, более практичной. Она пыталась взять на себя присущую ей роль мамочки.
– Если хотите, можете поспать на диванчиках, а я посижу, – сказала она. Но у нее тут же зазвонил телефон. Я не знал, кто это – наверное, еще какая-то худая женщина среднего возраста, которая не может заснуть из-за антидепрессантов.
Кэрри в подробностях рассказала ей о состоянии Эдриен: операция завтра утром, но всего лишь предварительная, чтобы стабилизировать ее состояние, а потом Эдриен придется бороться, потом физиотерапия. Затем Кэрри перешла к ее биографии. «Нет. Нет-нет. В колледже не училась. Даже школу не закончила. Ага. Ага. Но она хорошая девочка. Прилежная. Да. С самого детства. С детского сада. Но у нее столько проблем…»
Я встал и положил руку Кэрри на плечо. Она даже не дрогнула, наоборот, приняла мое прикосновение как нечто само собой разумеющееся, как утешение. И продолжила разговор. Шелк ее блузки потеплел у меня под рукой, и я, наконец, опустился на корточки и постарался быть как можно деликатнее.
– Думаю, мы с Родом сегодня останемся с ней. И попробуем поспать.
Кэрри прикрыла трубку рукой.
– Хорошо.
Может быть, конечно, я все выдумал или у меня уже голова шла кругом от усталости, но мне как будто бы пришлось сверлить Кэрри взглядом, сидя рядом на корточках, стараясь донести до нее, что будет лучше, если она уйдет.
– Хорошо, – повторила она, – но тебе не помешает записать мой телефон.
Прижав мобильник к уху, Кэрри продиктовала мне свой номер, заставляя свою бедную собеседницу ждать. Наконец, она вышла, и слышно было, как она продолжила беседу, уходя вдаль. «Да, я снова тут. Да, у них все нормально, думаю, они справятся».
Род улыбался – над моей отвагой, над моей дурацкой потребностью защищать территорию.
– С ней все непросто, – сказал он.
Почти всю ночь я слушал, как Род храпит. Я сам, насколько мне известно, никогда не храпел, и я сравнил себя с Родом неделю назад – он храпит один в Род-Айленде, я, скорее всего, тих, как рыба, в Бруклине.
4
Стабилизирующая операция Эдриен прошла успешно. Шею зафиксировали, на грудные позвонки надели скобы. Все утро я сидел и ждал с остальными.
Я пообщался с Ким Уил.
– Государственная служба здравоохранения как-то организовала посадку деревьев. Мы ездили все вместе, и ты, скорее всего, не помнишь, но я была в твоей машине. По полу каталась пивная бутылка, – я посмотрел на нее.
Она – на меня. Ким не поняла.
Я вскинул руки, чтобы доказать свою невиновность.
– Пивная бутылка касалась моей ноги!
Ким рассмеялась.
– И я всю дорогу сидел на твоем заднем сиденье, как-то ужасно скрючившись, чтобы до нее не дотрагиваться, – я поднял ноги в воздух и чуть не свалился с больничного кресла. Люди стали поворачиваться в нашу сторону.
Ким рассказала, как они с Эдриен подружились. Оказалось, что они вместе ходили на йогу, до того, как она перебралась на запад.
– А я, кажется, говорил ей что-то о тебе. Мы вспоминали «Франклина». Я сказал что-то о тебе, и на Эдриен это произвело впечатление. Она вся посерьезнела.
Ким вытаращила глаза, пытаясь изобразить холодный и богоподобный взгляд Эдриен.
Я кивнул, чтобы ее подбодрить.
– Йога, наверное, ей легко давалась, – предположил я. Мне показалось, что это Ким как-то разозлило, так что я добавил: – Эдриен превосходно умела концентрироваться.
– Рассказывай, – ответила Ким.
Я уставился на нее.
У нее глаза засверкали.
– Ну, видишь ли, я не знаю, как вы с ней общались, но она могла целый день медитировать.
Ким все улыбалась.
– Она говорила, что ты преподавал ей историю искусств.
Я резко махнул рукой.
– Ничего я ей не преподавал.
– Мы все время пили смузи, – сказала Ким, – после йоги. Нам всегда хотелось есть – у нас вся группа была сплошные мамочки. Вообще меня эта ситуация забавляла, я постоянно думала, что вот, Эдриен Букер, такая таинственная девчонка, бросила школу. Ну, о ней всякие сплетни ходили, понимаешь. И вот мы с ней сидим в кафешке «Сэлад Эллей». Да она еще и с тобой встречалась.
Я устал. Ночью почти не спал. Утром я держался на адреналине, к Эдриен с самого утра начали стекаться посетители, пожелать ей успехов, а я был уже в коридоре и принимал их, как хозяин. Стараясь не замечать до боли яркие обеззараживающие лампы.
– Она говорила, что ты уже сто лет как не выходил на связь.
– Так и сказала?
Ким нарочно сделала голос помягче.
– Почему ты не приезжал?
Я на миг растерялся, в голове поплыло.
– Не знаю. – Я положил ногу на ногу. – Ну, то есть, есть же определенные правила? По прошествии какого-то времени общаться уже не пытаются.
Ким с силой хлопнула по пластиковому диванчику.
– Я после этого еду к Джеми Ливингстону.
– Да?
– Джим, и тебе надо бы. Вы же дружили, так?
– Ну, мы ездили с ним в одном автобусе. – Мне казалось, что это уже из другой жизни. Я думал, что он и сам, скорее всего, не нуждается в подобной инициативе с моей стороны.
Но Ким дружила всегда и со всеми, такая девчонка, которую любят все. По сравнению с ней я со своей сдержанностью казался почти злобным.
– Тебе следовало бы на какое-то время выйти из больницы, – сказала она. С этим я был согласен.
Наконец, к этой кучке сонной и настроенной несколько скептически молодежи вышел нейрохирург, отыскал отца пациентки и сообщил ему, что операция прошла гладко. Эдриен «была молодцом». Еще несколько часов к ней никого не пустят, так что мы с Ким поднялись и направились к выходу. Но Ким не собиралась уходить по-английски, так что я, как нетерпеливый муж, стоял и ждал, когда она со всеми попрощается.
Мы сели в разные машины. Так в Талсе было принято: целый конвой едет в степь. Я поравнялся с Ким: «Давай поедем не по шоссе, а по Йельскому». Я жил раньше недалеко от этого проспекта. Имя свое он получил еще во времена грязных грунтовок и латунных перил, когда Талсу только закладывали, выбирая в качестве поощрения, я так понимаю, названия посерьезнее. У нас был и Гарвардский проспект. Изначально эти дороги проходили через открытые прерии, но потом их поделили, украсив недорогими трехэтажными домами: районы были еще довольно просторными, и именно тут мы с Эдриен отыскали «Хобби Лобби», «Таргет» и другие громадные коробки с кондиционерами, в которых мы тем летом расслаблялись после обеда. Они стали нам домом. А в детстве мы с отцом после ужина всегда приезжали сюда на заправку. Мы никуда не спешили, поскольку были уже сыты, и наблюдали за вечерним потоком машин, стоя на прохладном гладком бетоне. Я вдыхал пары бензина, как морской воздух. А по субботам мы бегали по делам, в одно место, в другое, туда, сюда, выходили на улицу, раскаленную стоящим прямо над головой солнцем, потом заходили обратно, подкреплялись «Кока-колой» и спасались прохладой кондиционера. Я подставлял голову прямо под струю воздуха. Из обитого плюшем заднего сиденья торчала смазанная железяка, потому что они в нашем минивэне были складные, и я часто засовывал туда палец и нюхал смазку.
Я посигналил и показал Ким, что нужно остановиться в «КвикТрип», к которому мы как раз подъезжали, и купить чего-нибудь попить.
– Хочу «Биг-галп» или что-то вроде, – пояснил я, как только мы вышли на улицу.
– Когда ты приезжал сюда последний раз?
– После того лета и родители мои отсюда уехали.
Мы стояли на бордюре возле «КвикТрипа» с соломинками во рту, стыдливо слушая разговор какого-то небритого мужика в телефонной будке у нас за спиной. Он пытался занять у кого-то денег, кажется, у своей бывшей.
– Лидия говорит, что ты здорово помог.
Я задумался.
– Как думаешь, она чувствовала себя покинутой, когда Эдриен переехала?
– Ну. Лидия… – Ким отвела взгляд в сторону. – Она однажды пригласила нас обеих в ресторан на обед, перед тем как Эдриен уехала. Я тогда с ней и познакомилась. Но я считаю, что для Эдриен это был прощальный ужин. И она решила взять меня с собой.
После операции Лидия без церемоний ушла, она спешила на собрание – собиралась купить какую-то геотермальную энергетическую компанию в Техасе. Во время операции она с одним из своих адвокатов, Гилбертом Ли, обсуждала стратегию переговоров в свободном конференц-зале больницы. С самого раннего утра она разрешила мне какое-то время посидеть с ними. На меня их беседа произвела впечатление, особенно ясность мыслей этого адвоката – а также их увлеченность и заинтересованность в отстаивании собственных интересов в такую рань. Бодрствующая часть моего мозга занялась вопросом, сможет ли Оклахома стать лидером в области геотермальной энергетики. Было бы хорошо.
С Йельского проспекта мы с Ким свернули на Двадцать первую – по ней мама возила меня в начальную школу. Я учился в школе получше, чем моя районная, и сейчас мы с Ким повторяли маршрут, которым мы с мамой ежедневно ездили в эту более богатую часть города. Тогда я не задумывался о денежном аспекте, я считал, что те районы просто старше: деревья там выше, и дома более рельефные – мне было совершенно очевидно, что оба эти явления вызваны одной общей причиной: возрастом, из-за него крыши становятся более острыми, трубы завязываются узлами, появляются наросты мансард и балконов, чугунное литье становится шишковатым – деревья же тянутся ввысь, старая поросль расширяет свои владения и тоже подрастает. В том возрасте мне еще не доводилось бывать в двухэтажном доме. В начальных классах нас возили на школьные экскурсии, и на меня большое впечатление производили рассказы о том, что самые старые дома были построены аж в двадцатых годах.
Это означало, что им более шестидесяти лет.
И уже с тех пор, за мою короткую жизнь, Талса стала старше. Деревья обосабливались и росли. Я заметил, что некоторые из тех, что помоложе, посаженные, чтобы облагородить новые торговые центры, со времен, когда я был школьником, взметнули листву в небо, другие наклонились к земле, встав на мостик, другие же как будто держали свою крону на вытянутых руках. Живую изгородь постигла иная судьба – она одичала и раздалась.
Я и так уже отстал от Ким, а теперь еще замедлился, чтобы поглазеть на четырехэтажное офисное здание, мимо которого мы с мамой проезжали каждое утро в восьмидесятых, когда оно еще только росло – я тогда даже не представлял себе, что можно вот так просто возвести строение. Я думал, что все нужное у нас уже есть, вот и все. Например, мне казалось, что у дома с башенками, который, словно стражник, охранял собственный угол, есть своя история и, как я мечтал, военное назначение. Я во многом заблуждался. В клинике, где делали МРТ, были круглые окна, я думал, что это и есть МРТ, эти трубы для пыток. На скошенной крыше «Сан салон» было не просто тонированное стекло, а солнечные панели. А торговый центр «Тюдор коттаджис» с деревянно-кирпичным фасадом оказывался каким-то образом таким же старым, как сама Англия.
Да и сейчас я знал не больше. Меня расстраивало, что у меня не было серьезных взрослых отношений с городом. Вообще-то, я хотел бы быть всеведущим. Но кое-где я бывал – и, увидев с дороги районную библиотеку, я вспомнил стоявший там запах плесени. Воспоминания о других местах были более ситуативными – жутко значимый многоуровневый парк Вудворд, где нам с несколькими друзьями приходилось пробираться через лабиринт розовых кустов. Но особых приключений в моей жизни не было. Я рос в замкнутости своего двора. А куда надо меня перевозили на машине.
Я вспомнил, как меня в раннем детстве водили к врачу – кабинет моего педиатра располагался на двенадцатом этаже того самого медицинского комплекса, в который мы сейчас направлялись, – я минут по пять стоял у огромного окна, пытаясь сориентироваться. Я видел реку и несколько знакомых высоток с офисами, море деревьев, но домов разглядеть не мог: они, естественно, никуда не девались, просто стояли под деревьями, но я тогда этого не знал. Я, разумеется, узнал располагавшийся совсем рядом модный торговый центр, по бокам которого торчали наросты красных телефонных будок, похожих на английские; но за ним тянулось поле, а за ним – еще одно, и я думал, бывал ли кто раньше на этом поле, знал ли кто о его существовании, отмечено ли оно на каких-нибудь картах. А на самом деле это было футбольное поле школы «Кашиа Холл», прекрасно всем известное.
И я совершенно не понимал, с какой стороны мой дом. В городе машин, когда сам не умеешь водить и когда тебя возят, пристегнув ремнем безопасности, ориентироваться мало у кого получается. Это как глубокая тишина с перекосом, как источник беспокойства, как нечто, что ты все пытаешься нащупать, но никак не можешь ухватить.
Мы с Ким ехали вверх на лифте – казалось, что мне все это снится, как будто бы в кабинете моего врача из детства должна состояться встреча выпускников. Разумеется, педиатрии там уже не было, отделы в больнице поменялись местами – но чисто физически пространство осталось тем же самым: та же планировка, те же окна. Ким позвонил какой-то парень по имени Рэндал, а я встал вроде как у того же самого окна: вот река Арканзас протекает под мостами Тридцать первой улицы, потом Сорок первой, потом Шестьдесят первой, а потом уходит в сторону, так что, только прижавшись щекой к стеклу, я могу проследовать за ней до Сто первой. Потом я сделал шаг назад и принялся рассматривать разбросанные то здесь, то там офисные высотки, торчавшие из деревьев. Я попытался вспомнить, как они называются, на каких перекрестках стоят. Мне нравилось расставлять ориентиры на невидимой схеме улиц, разложенной, словно сеть, на земле под раскачивающимися на ветру деревьями.
Ким прикрыла трубку рукой и улыбнулась.
– Иди первый. Он тебе обрадуется.
Джеми лежал в палате без окон, смотрел телевизор – тот крепился к потолку, а Джеми сидел на кровати с пультом наготове. Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд обратно на экран, собираясь переключить канал, но передумал. Джеми снова повернулся ко мне, пытаясь понять, что мне нужно.
И тут он меня узнал.
Мне надо было бы подготовиться, что сказать. Но все, что я мог – это просто предстать перед ним, чтобы он меня увидел.
Джеми разволновался и поспешил преподнести себя, оторвав дальнюю от меня часть задницы от матраса и протянув мне руку.
– Как дела? – Взгляд у него был прямой, хотя он поглядывал на колени, словно искал что-то.
– Угадай, кто меня сюда привел. Ким Уил, – таковы были мои первые слова. Словно этой маленькой иронией я мог компенсировать большую.
Мы начали с того, кто как жил. Я заметил у него обручальное кольцо – Ким велела мне обратить на это внимание. Джеми с женой хотели переехать в Нью-Йорк или в Нью-Джерси.
– Мы с Мелиссой попробуем устроиться там учителями, – сообщил он.
Я вздохнул.
– А я… – и нахмурился, – я подумываю о том, не вернуться ли сюда.
Джеми эта мысль понравилась. Он готов был полностью поддерживать Талсу. Рассказал, что тут на ближайшее время намечено серьезное обновление центра. Тут есть и лофты, и квартиры.
– Прямо как в большом городе, – с улыбкой сказал он. – Ты вернешься домой, я поеду в Нью-Йорк. Обратная утечка мозгов.
С женой Джеми познакомился на съезде любителей комиксов. Она училась на медсестру в Оклахомском государственном университете, а когда вернулась, стала работать воспитательницей в садике. А ему еще предстояло защитить диплом в области компьютерных наук, после чего Джеми собирался преподавать в старших классах. Я сказал, что мои родители, которые тоже были учителями, вышли на пенсию и переехали в солнечный Галвестон.