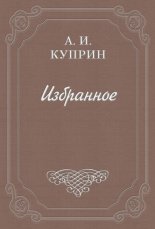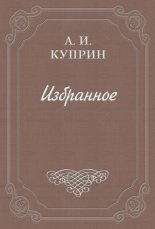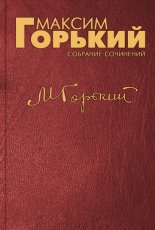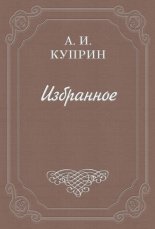Избранницы Рахмана Шахразада
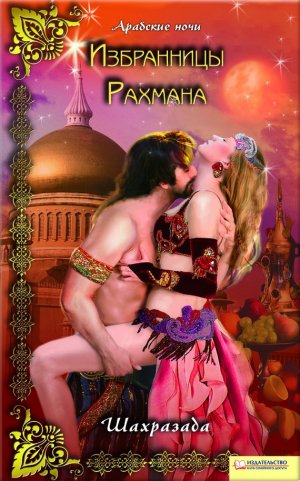
– А что будет, если проиграешь ты, о Зейнаб?
Девушка лишь усмехнулась в ответ.
– Ты увидишь все сам, прекрасный царевич.
Наконец путники достигли высоких дубовых дверей дома, что стоял в тупике какой-то улицы. Вот двери закрылись за их спинами, отсекая Рахмана и Зейнаб от холодного и резкого северного ветра.
– О боги, как я не люблю наступление этого времени года, – почти простонала девушка.
Она неторопливо избавилась от плаща. И теперь, бросив лишь один, полный иронии, взгляд на Рахмана, начала совлекать с волос желто-оранжевую шаль.
– Ну что ж, юноша, плати!
Шаль упала к ногам Рахмана. Он же, словно завороженный, смотрел, как падает волна роскошных ярко-рыжих волос.
– О Аллах милосердный! Какое же это чудо! Как ты прекрасна, Зейнаб!
– Плати, глупенький спорщик!
Рахман, не говоря ни слова, отвязал от пояса толстый кожаный кошель, полный монет.
– Я никогда не спорю зря! Ибо то зрелище, что явила ты мне сейчас, стоит много больше, чем несчастная сотня. Я твой самый почтительный раб, о великолепная!
Глаза Зейнаб блеснули, и она проговорила:
– Быть может, ты, о мой почтительный раб, сочтешь для себя возможным разделить со мной трапезу? А после мы продолжим наш спор.
– Спор? О чем же мы теперь будем спорить?
– Думаю, мой друг, у нас найдется тема для достойного ученого спора.
Зейнаб хлопнула в ладоши. В зале появилась старуха, которую трудно было назвать прислугой или рабыней.
– Это моя кормилица, ее зовут Зульфия. Она тоже родом из далекого холодного Аллоа, – вполголоса проговорила девушка.
Рахман почтительно склонился в поклоне.
– Да пребудет с тобой милость Аллаха всесильного, о Зульфия!
– Здравствуй и ты, юноша! – отвечала кормилица. Она проворно подобрала с пола шаль и плащ своей госпожи, и замерла в ожидании того мига, когда в ее руках окажется и меховой плащ гостя.
– Не сомневайся, царевич! В моем доме всегда тепло. Пусть даже я отдам последнюю монету за дрова, но у меня в доме никогда не поселится холод.
Рахман сбросил на руки Зульфие свой плащ и вопросительно посмотрел на Зейнаб.
– Итак, прекраснейшая, ты приглашала меня отведать яств? Я готов преломить с тобой хлеб и пригубить воды.
– О нет, – рассмеялась красавица. – В этом доме найдется множество лакомств, более достойных такого мудрого и прекрасного человека, как ты, царевич. Входи же под мой кров и насладись теплом и уютом. Здесь, полагаю, ученый спор будет куда уместнее, чем в холодном зале библиотеки, полном теней и сквозняков.
– Но зачем же ты, о нежнейшее создание, входила туда?
И Зейнаб честно ответила:
– Чтобы повстречаться с тобой, прекрасный царевич!
Рахман услышал в этих словах лишь кокетство, не подумав, что у каждой лисы свои охотничьи угодья. Быть может, искать достойного спутника уместнее было бы в квартале ювелиров, но Зейнаб считала, что, кроме золота (непременного спутника воистину достойного кавалера), ей нужен также и разум. Ибо человек, погруженный в научные размышления, во всем остальном легковерен, как дитя. И по-настоящему мудрая женщина этим может пользоваться с недурной выгодой для себя.
Небольшая комната была убрана яркими коврами, очаг пылал, отгоняя малейшие воспоминания о холодном дне за окнами. На небольшом возвышении стоял изящный столик, украшенный вазой с гранатами и удивительно яркими магрибскими мандаринами.
Зульфия внесла поднос с жареным цыпленком и блюдо плова. И чуть позже – хрустальный графин с вином.
– Вино запрещает Коран… – заметил Рахман.
– Аллах создал землю, виноградные лозы, а значит, и вино. Созданное Аллахом не может причинить вреда. Вредны лишь предрассудки и мракобесие, о ученый царевич. При дворе халифа Кордовы пьют самые прекрасные вина. Смело пей, Рахман!
Макама седьмая
Юноша пригубил ароматный напиток. О да, это было так прекрасно, вкус нежный и чуть терпкий.
– А теперь поешь, отчаянный спорщик.
Рахман пытался есть, но очень быстро в голове у него зашумело. И не от яда или вина, а лишь от присутствия прекрасной Зейнаб. Царевич весь отдался чарам, которыми обволакивала его эта удивительная рыжеволосая девушка.
Прошло всего несколько мгновений, и он оказался распростерт на роскошном ложе, устланном мехами, а колдовская красавица со смехом совлекла с себя одежды, и теперь лишь нежнейшая муслиновая рубашка прикрывала ее наготу. Рахман пытался остаться холодным и как можно дольше насладиться этой удивительной любовной игрой и своим положением добровольного пленника. Он даже позволил привязать свои руки алыми шарфами к столбикам в изголовье. Его запястья были стянуты шелковыми путами. Зеркальный потолок (о Аллах, сколь большая драгоценность даже в блистательной Кордове!) позволял ему любоваться своим обнаженным мускулистым телом. Очаровательная Зейнаб не сводила глаз с внушительного доказательства мужской силы, завороженная им, словно волшебной палочкой. Сверкавшие на ее запястье изумруды браслета перемигивались отблесками с пламенем свечей. О да, прекрасная Зейнаб не знала недостатка в поклонниках, но ей уже наскучили эти игры и захотелось, чтобы остался лишь один, небедный и щедрый, который обожал бы ее сверх всякой меры. Она готова была даже (о чудо!) хранить ему верность. Хотя бы то время, пока он будет с нею рядом и сам понесет бремя ответственности за ее безбедное и спокойное существование. Но для этого нужно было обворожить этого славного юношу, заставить его возжелать лишь ее одну.
Рахман же, не догадываясь об этих мыслях девушки, просто наслаждался любовной игрой.
– Так ты, о прекраснейшая, пленила меня всерьез? – с чуть заметной иронией спросил он.
– О да! Тебе придется умолять меня о пощаде… Разве не знаешь ты, как страшно бывает пленение у разбойников, что свирепствуют в окрестностях блистательной Кордовы? – мелодичным завораживающим грудным голосом ответила Зейнаб.
– О, я уже заранее страшусь твоего гнева!
Зейнаб выразительно посмотрела на жезл страсти, что был вполне готов насладиться нежным лоном девушки.
– Тебя пугают мои достоинства? – с подкупающей улыбкой спросил Рахман.
Девушка расхохоталась:
– Пугают? Напротив, они меня вдохновляют!
Она медленно расстегнула замок изумрудного браслета и с хитрой улыбкой надела его на безукоризненный жезл страсти Рахмана. Отдавая должное находчивости Зейнаб, Рахман поежился, ощутив прикосновение холодных драгоценных камней.
– Теперь я пленила тебя второй раз… – голос Зейнаб сейчас был голосом довольной кошки.
– Я мечтаю отдаться на твою милость, о несравненная!
– Смотри же, юноша, не пожалей об этих своих словах! – воскликнула Зейнаб и, сделав сосредоточенное лицо, сжала в кулачке вершину жезла страсти. – Не часто приходится видеть такого породистого жеребца! – осевшим от вожделения голосом добавила она, еще сильнее возбуждая Рахмана.
Предвкушая редкое удовольствие от ее умелых пальчиков, Рахман блаженно вздохнул и закрыл глаза. Предчувствие его не обмануло: ротик девушки оказался столь гостеприимным, губки – нежными, а язычок – обходительным и проворным, что их дорогой гость вскоре побагровел и пришел в такой восторг, что начал подрагивать, готовый выплеснуть свою радость наружу.
Стиснув зубы, Рахман хрипло спросил:
– Ты испытываешь мою выносливость, моя прелесть?
– Не в этом ли соль любовной игры? – на миг оторвавшись от своего увлекательного занятия, кокетливо спросила Зейнаб.
– Ты права, моя прекрасная, – громко дыша, ответил юноша. – Но было бы чересчур эгоистично с моей стороны получать удовольствие одному. Не хочешь ли разделить его со мной, моя птичка? Сядь на меня верхом!
Зейнаб распрямилась и, отступив на шаг, возразила, желая еще больше его раззадорить:
– Не кажется ли тебе, пленник, что гостю не следует указывать хозяйке дома, что ей лучше делать?
– Ах, волшебница! – воскликнул Рахман и, одним ловким движением ноги зацепив ее за талию, привлек проказницу к себе.
– Ну, если ты настаиваешь, – с трудом скрывая нетерпение, пробормотала она и с наслаждением опустилась на его чресла.
Он стиснул ногами ее крутые бока, она наклонилась, и ее соски, похожие на спелые вишни, опустились на его лицо. Юноша начал сосать одну из этих аппетитных ягодок, и Зейнаб судорожно вздохнула, дрожа от страсти. Едва сдерживая желание поскорее ублажить свою разыгравшуюся жажду, Рахман принялся целовать ее прекрасные груди и легонько их покусывать.
Бесстыдно застонав, Зейнаб приподнялась и, направив рукой шарообразное утолщение на конце его булавы в преддверие своей потайной пещеры, резко опустилась и начала дразнить чресла Рахмана. Он вскрикнул от боли, причиненной ему изумрудами, и воскликнул:
– Сними с меня браслет, моя чаровница! Или ты вознамерилась меня оскопить?
Зейнаб снова приподнялась и, стянув с него браслет, швырнула его на пол. Взглянув на ее искаженное сладострастием лицо, Рахман улыбнулся:
– Ну что ж, несравненная, теперь насладись своим пленником!
Девушка опустилась лоном на нефритовый жезл, оросив его своим нектаром, и стала страстно двигаться. Рахман блаженно зажмурился, ощутив ее нежную пульсирующую сердцевину, и, глубоко вздохнув, с силой ударил чреслами снизу вверх. Потом он повторил это порывистое телодвижение, и Зейнаб, словно пришпоренная, стала двигаться быстрее. Юноша тоже усилил темп своих ударов, задавшись целью помутить ее разум.
Вскоре она уже изнывала от охватившего ее жара, мотала из стороны в сторону головой и тряслась, как в лихорадке. Ноздри ее хищно раздувались, из глотки вырывалось рычание. Наконец от страсти она потеряла голову, и, дико взвизгнув, упала в бездну наслаждения.
Рахман, стиснув зубы, продолжал вонзать в ее расплавленное лоно свой жезл. Его нервы напряглись, как струны, мышцы взбугрились под кожей, ноги задрожали, вены вздулись, на лбу выступила испарина. Но необыкновенным усилием воли он сдержал огненную лаву, стремившуюся вырваться из жерла его вулкана.
Наконец Зейнаб впала в нирвану и затихла, распластавшись на нем. Тогда и Рахман позволил себе насладиться страстью. Отдышавшись, он почувствовал в запястьях боль от впившихся в них шелковых лент, промокших насквозь, и попросил девушку развязать узлы.
Дрожащими пальцами она выполнила его просьбу и, ласково взглянув на него потемневшими от страсти глазами, томно проговорила:
– Не устал ли мой пленник? Желает ли он новых чудес? Или мечтает сейчас лишь о миге спокойствия?
– О моя чаровница, ты можешь довести до умопомрачения любого… Но сейчас твоему пленнику желанен лишь миг тишины и счастье нежности – ответил Рахман, чуть приходя в себя.
Девушка кивнула и распростерлась рядом с ним на ложе, нежно поглаживая его грудь.
Дыхание Рахмана успокоилось. Теперь он думал о том, сколь же удивительна эта рыжеволосая красавица… Да, ее страсть необыкновенно умела, да она умна… И, о Аллах милосердный, она так желанна.
В поисках ответа на свой вопрос Рахман уже известным движением души смог окунуться в яркий истинный мир (теперь он его называл именно так). О нет, он не пытался подслушать мысли своей прекрасной пленительницы. Но первое, что он услышал, были именно они.
«Интересно, – слышал Рахман, и слова эти болью отдавались в его сердце, – так ли он богат, как говорит? Да, с сотней золотых он расстался легко. Но сколько у него еще этих золотых?.. Сможет ли он содержать меня так, как мне этого хочется? О, сам он этого захочет, я уверена, ведь врать ему будет так легко! Он простодушен и романтичен. Что мне стоит прикинуться влюбленной? Быть может, я даже стану настоящей царицей…»
Макама восьмая
Ни в одном языке мира под рукой Аллаха всесильного и всемилостивого не найти слов, которыми можно было бы описать бурю, что родилась в душе у Рахмана! Эта прелестная рыжеволосая женщина оказалась страшнее пустынной гадюки, одной капли яда которой хватало, чтобы умертвить десяток воинов.
Ее красота ранила, обволакивала, забирала в плен душу. Ее страсть опаляла. Но ее сердце оставалось холодным, рассудок – расчетливым. Отвращение, которое заполонило разум царевича, трудно описать словами. Однако сам он к этому и не стремился. Рана, нанесенная ему, была так глубока, что, казалось, и сама жизнь на какой-то миг покинула Рахмана.
«Ну что ж, коварная! Ты преподала мне отличный урок! Я его усвоил. И теперь ни одна женщина не сможет удивить или порадовать меня ни словом, ни жестом, ни разумным поступком, ни даже просто самоотверженностью и бесстрашием! Ибо нет на свете племени более презренного, чем женщины. Эти порождения самого Иблиса Проклятого не могут сотворить ничего прекрасного, ничего мудрого, ничего удивительного!»
По счастью, об этом не ведала Зейнаб. Она все так же лежала в сладкой истоме, по-прежнему прикидывая, как бы посильнее привязать к себе нового любовника. О, если бы это удалось!.. Какой бы сладкой и спокойной стала бы ее жизнь. И деньги, и наслаждение… За это пришлось бы недорого платить…
Глаза девушки по-прежнему были закрыты, и она не видела, как изменилось лицо Рахмана, не видела, как он с отвращением окинул ее тело одним долгим взглядом. Лишь когда юноша встал, Зейнаб открыла глаза.
– Ты уже уходишь, мудрый царевич?
– Увы, прекраснейшая. – Рахман нашел в себе силы не выдавать ни отвращения, ни гнева, которые терзали его душу. – Занятия, за которыми ты меня застала, требуют ежедневных усердных трудов. А потому, насладившись сверх меры твоим обществом, я вынужден вновь вернуться под своды продуваемой зимними ветрами библиотеки.
– Когда я увижу тебя, школяр? – Зейнаб ничего не понимала. Лишь какое-то звериное чутье подсказывало ей, что добыча вот-вот ускользнет.
– Вскоре, красавица… – чуть рассеянно отвечал Рахман. – Думаю, что совсем скоро.
Девушке хватило этих слов. Она лишь удовлетворенно улыбнулась и вновь откинулась на подушки.
«Ах, какое прекрасное дивное тело! И какая черная подлая душа… Воистину, женщины даны правоверному для того, чтобы видеть, во что никогда не следует превращаться!»
Так думал царевич, надевая кафтан, поправляя манжеты изящно вышитой рубахи и ища глазами меховой плащ.
– Прощай, Зейнаб! – проговорил он на пороге комнаты.
– До встречи, мой царевич! – промурлыкала красавица, поленившись даже встать на прощание. И это стало той последней каплей, что переполнила чашу терпения Рахмана.
Он резко повернулся и почти выбежал на улицу, не побеспокоившись закрыть ни одну из тяжелых дверей, что встретилась ему по дороге.
– О Зейнаб, – пробурчала кормилица, с трудом закрывая дом. – Твой последний воздыхатель – чистый огонь.
– Да, Зульфия, он очень хорош… И как богат. Теперь мы заживем беззаботно.
Но старая кормилица так не думала. Ибо она видела лицо, с которым покидал ее госпожу этот новый любовник.
– Не чаял я увидеть тебя здесь снова. – Такими были слова, которыми встретил хромоногий библиотекарь Рахмана. – Я думал, что это прекрасноокая дева похитила тебя надолго. И что теперь ты не покажешься в этих стенах до того времени, пока не придет пора сдавать многочисленные экзамены…
– О нет, уважаемый. Мое сердце похитить невозможно. Этого не может сделать в целом мире никто – а тем более какая-то презренная, торгующая своей жизнью женщина, да к тому и столь некрасивая…
«О Аллах, – подумал библиотекарь. – Как изменились взгляды нынешней молодежи! Эту удивительную чаровницу он назвал некрасивой! Какой же тогда должна быть в его глазах девушка красивая?»
Но задать вопрос старик не решился. Должно быть, что-то в выражении лица юноши удержало его от этого.
Рахман же, забрав книги, вновь уселся за стол и принялся с удвоенным усердием штудировать обширный труд великого Аль-Бируни.
Дни проходили за днями, слагаясь в недели и месяцы. Но Рахман был верен клятве, которую тогда дал себе. Ни одна женщина более не интересовала его. Все свои силы он отдавал изучению наук, попыткам проникнуть в заповедные тайны мира. Наставники не могли нарадоваться подобному студиозусу в своих рядах, а верный Вахид только вздыхал. Ибо видел, что царевич отказался в этом мире от всего, оставив себе лишь науки и книги. Его более не интересовали ни поэзия, ни дружеские вечеринки с приятелями, любившими жизнь во всех ее проявлениях, ни даже просто прогулки по расцветающей Кордове.
Зато законы магии теперь все легче поддавались пытливому разуму Рахмана. И наступил наконец тот день, когда смог он развить дар сверхчувствительности, быть может, даже превзойдя умение, каким некогда его так поразил факир на ярмарочной площади.
В этот день весна уступила место лету. Молодая зелень деревьев теперь скрывала выщербленные временем камни домов, в крошечных садиках цвели цветы. Верный Вахид, бурча, собирал в стопку разбросанные тут и там книги…
Рахман откинулся на подушки, которыми была уложена его кушетка. Отказавшись от женщин, аскетом все же царевич не стал и для занятий предпочитал жесткой деревянной скамье мягкую кушетку или покойное кресло. Пышные подушки приняли усталое тело юноши, а сам он, решив поупражняться в магическом искусстве, попытался представить себя свитком, лежавшим на низеньком столике у окна.
И вот уже через миг мир распахнулся перед Рахманом во всем блеске начавшегося лета. Не двигаясь с места, он ощущал запахи цветов, что росли за домом, цвет летней листвы, яркие, согревающие ладони. Были юноше слышны и слова прохожих, и он легко смог разглядеть шелка накидки, в которую куталась модница в соседнем доме. Теперь ему для этого вовсе не нужны были глаза.
Рахман устроился поудобнее, любуясь миром. Он хотел впитать все буйство его, пока ощущения не угаснут. Но, о чудо, мгновения текли одно за другим, а яркость красок и звуков оставалась прежней. Юноша не верил сам себе.
«О Аллах, неужели у меня это получилось?! Неужели теперь я смогу просто усилием воли переходить из серого мира, каким он виден всем, в пестрый, многокрасочный, ослепительный мир, каким его создал Аллах милосердный и всемилостивый? Но смогу ли я, как некогда факир, даровать кому-то это удивительное умение?»
Колебаться было не в характере юноши, и потому он решительно встал с мягких подушек.
– Вахид, друг мой!
– Я здесь, царевич.
– Ты можешь на несколько минут оставить свои занятия?
– Да, господин, конечно. Я готов служить тебе.
– Тогда подойди поближе.
Старик приблизился, и Рахман, как факир, сначала коснулся пальцами его висков, а потом левой руки.
Глаза старого слуги широко раскрылись.
– О мой добрый хозяин, что это?
И Рахман внутренне возликовал – ибо понял, что его слуга увидел мир таким же, как и он сам.
– О друг мой, это удивительное умение. Я развивал его в себе, зная, что мир на самом деле выглядит куда роскошнее и богаче, чем дано это отразить нашим пяти чувствам.
– Этот мир ослепляет и оглушает… Я могу видеть запахи, слышать цвета… Я слышу ток своей крови и понимаю, почему мои несчастные колени отказываются порой меня слушаться… Скажи мне, добрый хозяин, теперь этот мир будет таким всегда?
– О нет, мой Вахид. Через несколько мгновений ты вернешься обратно. Обостренные чувства тебя покинут. И, если ты не захочешь научиться этому сам, покинут навсегда.
– Какое счастье!.. Но, – тут новая мысль пришла в голову старому слуге. – Выходит, о мой хозяин, ты все время видишь мир вот так?
– О нет, мой друг. Я и сам не так давно узнал об этом умении, что люди называют сверхчувствительностью. А управлять им научился всего несколько часов назад. Должно быть, научился. Ибо чем больше я упражняюсь, тем легче мне это удается. Но разум мой говорит, что научиться вызывать в себе эту самую сверхчувствительность – лишь половина умения. Теперь осталось понять, как правильно этим пользоваться. Понять, как можно руками различать цвета, как удерживаться от того, чтобы не подслушивать мысли людей…
– Особенно наставников в университете…
– О да, мой друг, особенно их… Я понимаю, что нахожусь лишь на первой ступеньке бесконечной лестницы самопознания и самопонимания. И потому не верю даже тому, что вижу сейчас перед собой – не верю тому, что на миг мне удалось сделать так, что прозрел и ты…
– Аллах милосердный, мое прозрение уже убывает. Это страшный дар, о царевич. И немногим можно открывать тайну, которая спрятана за привычным видом предметов и ходом вещей. А потому прошу тебя, мой добрый господин, не упражняйся больше на старом усталом Вахиде. Думаю, что могу тебе послужить еще много лет… Но видеть мир таким, как ты его показал сейчас, я не хочу…
– Прости меня, мой друг. Более я не посмею тревожить тебя успехами своих упражнений.
– Вся моя жизнь без остатка принадлежит тебе, царевич. Но я стар и не могу привыкнуть к тому, что видел мир не таким, каков он на самом деле, а таким, как он отражается в стоячей и мутной болотной воде.
И Рахман понял, как напугал старого слугу этот новый, такой буйный и недобрый мир.
«Ну что ж, факир, и вновь ты оказался прав. Здесь, в обители истинных знаний, я обрел умение, какое показал мне ты. Обрел множество знаний, какими может похвастаться далеко не каждый мудрец. И заплатил за это… О как дорого!.. Но теперь я уже понимаю, что каждый урок, который дарит нам толику мудрости, крадет у нас и толику безмятежности. И да будет так. Ибо в этом, оказывается, тоже есть своя правота».
Макама девятая
О, как был не похож Рахман, выходящий сейчас из-под сени университета в парадном плаще, на того Рахмана, который робко ступил под его своды долгих семь лет назад!
О да, именно семь, ибо пытливому юноше было всегда мало знаний, и он не мог удержаться от посещения еще одного факультета, узнав о лекции прославленного ученого, что прибыл в блистательную Кордову специально для того, чтобы передать частицу своих знаний пытливым студиозусам! Сначала Вахид бурчал, что дома давно уже заждались молодого мудреца, потом бурчать перестал, время от времени лишь тяжко вздыхая.
Но вот наконец настал день, когда сам царевич Рахман понял, что более ему нечего искать под сенью университета. Ибо время простого собирания знаний миновало. Теперь следовало найти им достойное применение.
– Но почему ты, о добрый мой господин, не хочешь вернуться под отчий кров? Вернуться и стать советником дивана или мудрецом? Быть может, старый наш звездочет уже столь немощен, что ты легко сможешь его заменить…
– Ах, Вахид. Но я не хочу этого делать. Пусть и мудрецы, и советники дивана пребывают и далее на своих местах. Если отец мой, да хранит Аллах милосердный его долгие годы без счета, доволен тем, как они несут свою нелегкую службу, то почему я должен заменять кого-то из них? А звездочет наш, который был немощен еще в те дни, когда мы жили дома, наверняка не поймет, что я делаю в его башне для наблюдений…
– Но неужели мы теперь почием в праздности? Ведь благодаря опеке твоего отца нам не надо беспокоиться о хлебе насущном.
– Конечно, нет, мой верный Вахид. Мы могли бы просто отправиться в какое-нибудь долгое странствие. Мир так велик, что, думаю, и сотни сотен жизней не хватит, чтобы обойти его.
Старик только тяжко вздохнул. Увы, он не любил странствий, перемены мест, долгих переездов. Более всего ему по душе был размеренный распорядок вещей, в котором нет и не может быть места неожиданностям. Тем более неожиданностям неприятным.
Рахман услышал тяжкий вздох слуги и улыбнулся про себя. «О Аллах, как мудро я сделал, приняв предложение секретаря магараджи! Наше странствие превратится просто в путешествие на новое место. Вахид, быть может, и не будет гордиться, но и бурчать тоже не станет!»
– Так знай же, мой достойный слуга, – торжественно заговорил царевич. – Несколько дней назад в нашем прекрасном университете появились люди из далеких полуденных емель, слуги магараджи Райпура, великого Раджсингха. Эти уважаемые посланники доставили дары магараджи халифу Кордовы. Они также пали перед халифом ниц, прося соизволения найти в университете несколько студиозусов, которые желали бы предстать перед магараджей как его верные советники и мудрецы.
– О Аллах милосердный, – прошептал Вахид. Он уже догадался, что будет дальше.
– Да, мой Вахид. И я тоже дал согласие, ибо моих знаний вполне достанет, чтобы сослужить службу великому магарадже. Многие у нас в университете слышали, что этот человек молод, пытлив, что его владения огромны, и что он хочет управлять ими мудро и справедливо, оказывая уважение быстротекущему времени. И потому многие из нас выразили желание стать советниками магараджи. Его главный слуга, что называет себя всего лишь секретарем, отобрал троих из нас…
– Что скажет великий царь Сейфуллах, когда узнает, что его сын стал, о Аллах, жалким писцом какого-то варварского владыки?..
Рахман рассмеялся.
– Отец согласился. Он написал мне о том, что будет гордиться сыном, который не проводит свои дни в праздности, а кует свою судьбу сам. К тому же царь Сейфуллах составил мне рекомендательное письмо для магараджи. Ибо понимает, что так я займу место, соответствующее не только моим знаниям, но и праву рождения.
– Но мы бы могли просто вернуться домой… И там бы ты, царевич, занял достойное место.
– Здесь говорить не о чем. Через три дня мы вместе с посольством отправляемся в Райпур, страну магараджи. И, да пребудет со мной милость Аллаха всесильного, я не посрамлю имени царя Сейфуллаха, став первым толмачом при дворе этого просвещенного владыки.
Вахиду оставалось лишь вновь тяжело вздохнуть. Он опекал Рахмана с трех лет и давно уже усвоил, что спорить с царевичем бесполезно. С возрастом характер юноши смягчился, но не настолько, чтобы можно было ему безнаказанно перечить.
«Да будет так, – Вахид даже мысленно вздыхал. – Должно быть, хозяин прав, и лучше быть первым толмачом при дворе пусть даже самого ничтожного царька, чем одним из тысяч студиозусов в этом огромном, полном грехов городе…»
Странствие с посольством магараджи оказалось делом столь приятным, что даже вечно недовольный слуга вынужден был признать, что он в дороге не устает, а лишь наслаждается. Ибо привилегии, какие даровало такое путешествие, не шли ни в какое сравнение с тем, что мог предоставить даже самый богатый караван.
Долгие дни сдружили новых слуг мудрого и просвещенного магараджи. И потому к тому моменту, когда посольство наконец вошло в главные ворота, юные советники уже заранее знали, кто чем будет заниматься. Рахман будет толмачом – ибо ему покорились наречия и диалекты почти всей обитаемой части мира. Не стали исключением даже языки Поднебесной империи и далекой страны Канагава. Рашид, изощренный математик, надеялся, что сможет изучать эту великую науку на благо новой родины. Вечный соперник Рахмана, Сейид, знаток всего, что связано с живым, знал, что будет придворным лекарем. «Быть может, самым умелым придворным лекарем из всех, какие только бывали при дворе магараджи» – так говорил о себе сам Сейид. И Рахман с ним соглашался, ибо его друг полностью оправдывал имя, данное ему отцом и матерью[2].
Новая жизнь юных придворных очень быстро вошла в заведенную колею. О да, они получили именно те должности, о каких мечтали. И вместе с ними – такое число забот и обязанностей, что встречу в дворцовых коридорах почитали за большую и редкую удачу. Ибо на плечи Рахмана легла вся переписка, которую неутомимый магараджа вел воистину с половиной мира, Рашиду, кроме царицы наук, достались еще и бесконечные учетные книги, а Сейиду – лекарю милостью Аллаха всесильного – все больные и немощные округи, а не только молодой красавец магараджа и его семья.
Редкие встречи трое друзей предпочитали проводить в покоях Рахмана. Здесь было тише и спокойнее, а вкуснейшие яства, которыми потчевал своих юных гостей заботливый Вахид, уже давно заставляли вздыхать всех поварих дворцовой кухни.
Миновало три месяца с того дня, как друзья приняли на себя свои новые обязанности. И как бы многочисленны ни были их заботы, но молодость – этот великий дар, который иногда транжирится всуе, – позволила им обзавестись также и возлюбленными. Вернее, только двоим из троих студиозусов, покинувших блистательную Кордову по приглашению великого магараджи Раджсингха.
Ибо Рахман, помня свою клятву и тот урок, который ему преподала коварная красавица Зейнаб, не смотрел на женщин. Обычаи, отличные от тех, что царили на его родине, позволяли мужчинам и женщинам проводить время вместе. Но царевич оставался глух к самым откровенным призывам красавиц двора.
Вот об этом и говорили сейчас трое друзей, уединившись в беседке рядом с покоями Рахмана. Стояла теплая ночь, Вахид уже в третий раз приготовил душистый чай с розовыми лепестками, а речи друзей все не стихали. Вернее, двое хвастались своими возлюбленными. Хвастались так, как могут это делать лишь павлины, даруя окружающим возможность любоваться их изумительными хвостами. Рахман молча улыбался. И наконец Сейид заметил эту улыбку, но истолковав ее по-своему, спросил:
– Но почему же молчишь ты, царевич? Неужели твоя возлюбленная настолько лучше наших?
– О нет, друг мой. Моя возлюбленная не может быть лучше ваших, ибо у меня ее нет.
– Но, друг мой, прости меня, я буду говорить сейчас как лекарь, – это же противоестественно. Любовные соки могут перебродить в твоем теле и отравить тебя самого. Или ты, прости мне еще раз резкие слова, предпочитаешь мальчиков?
– О нет, мой добрый друг. Мужчин я не люблю. И к женщинам не равнодушен. Но некогда одна коварная красавица нанесла мне такую рану, что боль от нее не дает мне спокойно спать и поныне. Боль эта столь сильна, что усмиряет огонь моих чресл.
И Рахман, ничего не скрывая, рассказал им давнюю историю. Помимо воли слова его были столь горячи, что друзья поняли – рана приносит невыразимую боль и до сих пор.
Сейид видел это и лишь молча сочувствовал. Рашид же, как человек, живущий более разумом, чем чувствами, недоуменно проговорил:
– Но что же тебя здесь удивляет? Женщины, увы, живут выгодой, которую могут добыть иногда и продавая собственное тело. Твоя красавица, должно быть, была именно из таких.
– О нет, Рашид. Продажная любовь меня не удивляет и не отвращает. Ибо это есть честный торг. Но Зейнаб не продавалась первому встречному. Она рассчитывала использовать мои искренние чувства, которые знала, чем сумеет разжечь.
– Но как же ты выведал это? Ведь, судя по твоему рассказу, девушка совсем непроста. И она сделала все, чтобы завлечь тебя в свои сети.
– О, друзья мои, этот рассказ будет не короче ваших и уведет нас от земных забот так далеко, что вы и представить себе не можете.
Видя, каким интересом разгорелись глаза друзей, Рахман поведал и о встрече с факиром на ярмарочной площади, и о том, как стал учиться нелегкому мастерству сверхчувствительности. Не утаил он и того восторга, какой испытывал каждый раз, уходя в истинный мир из мира повседневного.
– Аллах милосердный, это удивительно, Рахман! А мне ты можешь показать этот мир? – Рашид на миг стал ребенком.
– Могу, конечно, и покажу. Но готов ли ты к этому?
– Бесспорно, готов… Не медли!
Рахман, повинуясь просьбе друга, коснулся его лба и ладони. Именно так, как некогда это проделал с ним факир, и как он попробовал на своем слуге. А потом повернулся к Сейиду.
– А ты, мой друг? Тебе также хочется увидеть мир по-новому?
– О нет, Рахман. Я, как и все лекари, в какой-то мере, пусть и немного, владею этим непростым искусством. Ведь иногда недомогание, что подтачивает здоровье пациента, можно распознать лишь сверхчувственно. Да и вылечить порой – тоже. А потому я могу лишь посочувствовать тебе, ибо занятия эти открывают удивительные горизонты, но крадут необыкновенно много сил. Не случайно же ты нам сказал, что тот волшебник выглядел так странно… Вот посмотри, ты дал истинный мир нашему другу всего на миг, а сил у него почти не осталось.
Сейид был прав. Рашид поразился, восприняв мир обостренными чувствами. Но удар был столь мощен, что сейчас он, вернувшись в привычное окружение, дремал, откинув голову на яркие шелковые подушки. И потому друзья продолжали беседовать вдвоем.
Макама десятая
– Вот так случилось, Сейид, что в один миг я лишился всех иллюзий, что могут даровать женщины. И считаю теперь, что эти создания не годны ни на что доброе, достойное уважения. Они даже вкусных пирожков испечь не могут. Таких вкусных, как стряпает мой вечно недовольный Вахид.
– Друг мой, а ведь ты тоже нездоров. Хворь, которая подтачивает твои силы, много тяжелее, чем те недуги, какие я лечу каждый день. Ибо эта хворь убивает сначала твою душу, а потом уже тело.
– Быть может, и так… Но лекарства от этой своей хвори я не знаю. Понимаешь, добрый мой Сейид, некогда я мечтал найти девушку, единственную… Ту, которую привлечет не мое тело, не мои деньги, не мой царственный отец… Ту, которой нужен буду лишь я сам, пусть и оборванец, но я сам. Понимаешь ли ты меня, друг мой?
– О да, Рахман, конечно понимаю. Все мы, когда молоды, мечтаем найти единственную и неповторимую. А став старше, убеждаемся, что таких женщин просто не бывает. И потому учимся наслаждаться ласками одних, мудростью других и заботой третьих. Ты просто еще молод. И потому думаешь, что такую женщину можно сыскать под небом.
Рахман рассмеялся.
– Но ведь и ты, друг мой, не стар. Ты же всего на два года старше меня.
– О нет, мальчик мой, я старше на все те жизни, которые мне не удалось отобрать у смерти, старше на все те страдания, от которых я не смог избавить нуждавшихся в моей помощи. Лекарь всегда старик. Если он, конечно, истинный лекарь, а не болтун на жалованье.
Рахман склонил голову, чтобы скрыть улыбку. Сейид был замечательным лекарем, но очень любил жаловаться на бессилие своей науки перед величием человеческой жизни.
– Но тебе, добрый мой Рахман, я бы настоятельно рекомендовал принять достаточную дозу лекарства от твоей хвори. Я знаю при дворе прекрасных знахарок, которые вмиг излечат тебя от твоего недуга.
– Знахарок? – На лице Рахмана отразился нешуточный испуг.
– Ну, если тебе не по душе придворные дамы, мы можем пригласить для твоего излечения девадаси – храмовых танцовщиц…
– Ах, вот о каком лечении ты говоришь… Но это же тоже будет продажная любовь!
– Но она вернет тебе радость жизни, а твоим чреслам – молодость и силу. И быть может, тогда ты поймешь, что сможешь найти свою мечту, пусть много позже, не сейчас.
Рахман смотрел на своего друга и пытался понять смысл его слов.
– Но, Сейид, я не верю, что мечта моя существует. Я не верю женщинам, не верю в то, что они способны на что-либо, кроме предательства, что в их душах может зародиться нечто, отличное от подлости. Не верю я и в то, что они могут дать мужчине хоть что-то доброе…
– Увы, мой друг, теперь я уверен, что ты опасно, жестоко болен. Но не знаю, подействует ли на твою израненную душу мое лекарство.
– Боюсь, не подействует.
– Но хотя бы попробуй. Пусть всего раз, решись отдаться моей помощи, помощи не друга, но лекаря.
– Да будет так, мой друг Сейид. Я согласен.
Прошел день. Наступал вечер, когда в покои Рахмана вошла изящная красавица с золотой корзиночкой в руках.
– О Рахман-толмач! Твой друг Сейид попросил меня сделать твой вечер ласковым, а сон долгим и полным неги.
– Здравствуй и ты… – Юноша замялся.
– Меня зовут Сита, – улыбнувшись, проговорила девушка.
– Здравствуй, Сита. Так как же ты собираешься лечить меня? Ведь именно такова, полагаю, была просьба моего друга Сейида.
– Мы с тобой поиграем в старинную игру. Она называется «Роза в оковах».
Глаза Рахмана на миг вспыхнули – ведь он уже некогда был в оковах. Те шелковые путы принесли ему лишь боль. Что же ждет его теперь?