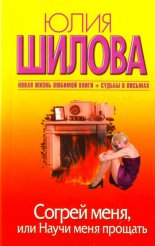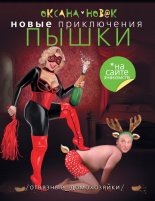Странный Томас Кунц Дин

Я вошел в галерею роз, где в проходах хрустела под ногами гранитная крошка, не дающая пыли.
Некоторые цветы сияли в солнечных лучах алой кровью. Другие горели оранжевым огнем, сверкали, как желтый оникс. Розовые, пурпурные, персиковые… глаз радовался, куда ни посмотри.
Мать поцеловала меня в щеку. Теплыми, а не холодными, как я всегда ожидал, губами.
Указала на розовый куст, которым занималась.
– Это роза Джон Ф. Кеннеди. Потрясающая, не правда ли?
Одной рукой она осторожно приподняла полностью раскрывшийся бутон, такой тяжелый, что он наклонял стебель.
Белые, как прожаренные солнцем пустыни Мохаве кости, с легким оттенком зеленого, эти большие лепестки не производили впечатления хрупких и нежных, наоборот, казались толстыми и жесткими.
– Они словно вылеплены из воска, – заметил я.
– Именно. Они – само совершенство, не так ли, дорогой? Я люблю все мои розы, но эти – больше других.
Мне вот эта роза понравилась меньше других, и не потому, что была ее фаворитом. Ее совершенство представлялось искусственным. Чувственные складки внутренних лепестков обещали таинство и наслаждение в сокрытой сердцевине розы, но обещание это было ложным, поскольку снежная белизна и восковая жесткость плюс отсутствие аромата ассоциировались не с чистотой и страстью, а со смертью.
– Я дарю ее тебе. – Она достала маленькие ножницы из кармана сарафана.
– Нет, не срезай ее. Пусть растет. Мне она ни к чему.
– Ерунда. Ты должен подарить ее своей девушке. Одна роза может выразить чувства кавалера более ясно, чем целый букет.
Она отрезала восемь дюймов стебля вместе с цветком.
Я взял розу за стебель двумя пальцами, большим и указательным, далеко от цветоложа, между двумя парами самых длинных шипов.
Глянув на часы, понял, что баюкающее солнце и аромат цветов только создавали ощущение, будто время течет медленно, тогда как на самом деле оно неслось вскачь. И сообщник Робертсона, возможно, уже ехал на встречу со славой.
Двигаясь по розарию с царственной грацией, улыбаясь, как королева, восхищаясь кивающими головками своих разноцветных подданных, моя мать сказала:
– Я так рада, что ты заехал ко мне, дорогой. Что привело тебя?
Я следовал за ней в полушаге.
– Точно не знаю. Есть у меня одна проблема…
– Проблемы мы сюда не допускаем, – в голосе ее слышался мягкий укор. – Весь этот участок и дом, начиная с подъездной дорожки, территория, свободная от тревог и волнений.
Отдавая себе отчет о возможных последствиях, я тем не менее продолжил гнуть свое. Так что похрустывающая под ногами гранитная крошка могла оказаться зыбучим песком.
Другого выхода у меня не было. Недостаток времени не позволял играть по ее правилам.
– Я должен что-то вспомнить или сделать, но у меня в голове поставлен блок. Интуиция привела меня сюда, потому что… Думаю, ты можешь, уж не знаю как, помочь мне понять, что я упустил из виду.
Для нее мои слова ничем не отличались от тарабарщины. Как и мой отец, она ничего не знает о моем сверхъестественном даре.
Еще ребенком я понял: если я усложню ее жизнь правдой о себе, груз этого знания станет для нее смертельным. Или смертельным для меня.
Она всегда старалась жить без малейших стрессов, без раздоров или разногласий. Она никому ничем не обязана, не несет ответственности ни за кого, кроме себя.
И такую жизненную позицию она никогда не назовет эгоизмом. Для нее это самозащита, поскольку она находит окружающий мир требующим от нее гораздо больше, чем она может ему дать.
Если бы она воспринимала жизнь со всеми ее конфликтами, то у нее произошел бы нервный срыв. Вот почему она относится к миру с холодной расчетливостью автократа и оберегает свою драгоценную психику, сплетя вокруг себя кокон безразличности.
– Если бы мы могли какое-то время поговорить, я, возможно, сумею понять, почему приехал сюда, почему подумал, что ты сможешь мне помочь.
Ее настроение может меняться мгновенно. Госпожа роз, слишком хрупкая, чтобы сталкиваться с любой, пусть самой маленькой проблемой, в мгновение ока уступает место разозленной богине.
Моя мать, прищурившись, уставилась на меня, губы сжались, стали бесцветными, словно она надеялась отделаться от меня одним лишь яростным взглядом.
В обычных обстоятельствах этого взгляда действительно хватило бы для того, чтобы я ретировался.
Но солнце неумолимо продвигалось к зениту, быстро приближая час стрельбы. Я не мог вернуться на жаркие улицы Пико Мундо без имени или без цели, на которой мог бы сфокусировать свой психический магнетизм.
Осознав, что я не собираюсь оставить ее наедине с розами, она заговорила холодным как лед голосом:
– Ему прострелили голову, ты знаешь.
О ком шла речь, я не понял, и тем не менее эта фраза вроде бы имела какую-то связь с катастрофой, которую я надеялся предотвратить.
– Кому? – спросил я.
– Джону Эф. Кеннеди. – Она указала на розу, названную в честь президента. – Ему прострелили голову и вышибли мозги.
– Мама, – это слово в разговорах с ней я употреблял крайне редко, – сейчас мы говорим не о нем. На этот раз ты должна мне помочь. Если не поможешь, погибнут люди.
Вот этого как раз говорить и не следовало. Мать не могла брать на себя моральную ответственность за жизни других людей.
Она ухватила срезанную для меня розу за бутон и с силой рванула на себя.
Я не успел быстро разжать пальцы, поэтому стебель заскользил между ними, шип вонзился в подушечку большого пальца, обломился, оставшись в ней.
Мать сжала цветок в кулаке, швырнула розу на землю. Отвернулась от меня и направилась к дому.
Но я не собирался отпустить ее с миром. Догнал, пристроился сбоку, умоляя о нескольких минутах разговора, которые могли бы прочистить мне голову, помочь понять, почему в этот страшный час я пришел именно сюда, а не куда-то еще.
Она прибавила шагу, я не отставал. Когда до крыльца оставалось несколько футов, она просто побежала, полы сарафана обвивались вокруг ног, одной рукой она придерживала панаму, чтобы та не свалилась с головы.
Сетчатая дверь хлопнула за ее спиной, когда она скрылась в доме. Я остановился на крыльце, не мог заставить себя переступить порог.
И пусть сожалел, что донимаю ее, другого выхода из создавшегося отчаянного положения не видел.
Крикнул ей вслед:
– Я не уйду. На этот раз не могу. Некуда мне идти.
Она не ответила. За сетчатой дверью была купающаяся в сумраке кухня, слишком тихая, чтобы там находилась мать. Она ушла в другие комнаты.
– Я буду на крыльце, – добавил я. – Буду ждать здесь. Если потребуется, весь день.
С гулко бьющимся сердцем я сел на крыльцо, поставив ноги на верхнюю ступеньку, спиной к двери на кухню.
Позднее я понял, что, должно быть, приехал к ее дому с подсознательным намерением вызвать у нее именно такую реакцию, заставить прибегнуть к крайнему средству защиты от ответственности. Пистолету.
В тот момент я, однако, мало что соображал, мысли путались, и я представить себе не мог, что же следует предпринять.
Глава 53
Из подушечки большого пальца торчал толстый торец шипа. Я вытащил шип, но кровоточащая ранка горела, словно в нее налили кислоты.
Я сидел на крыльце материнского дома, переполненный жалостью к себе, словно в меня впился не один, а все шипы тернового венца.
Ребенком, когда у меня болел зуб, я не мог рассчитывать на материнскую ласку и участие. Моя мать всегда обращалась к отцу или соседу, если возникала необходимость отвезти меня к дантисту, тогда как сама удалялась в спальню и закрывала дверь. Оставалась там на день или два, а выходила оттуда лишь в полной уверенности, что я больше не буду донимать ее своими жалобами.
Малейшее повышение температуры или больное горло она воспринимала как кризис, с которым не могла справиться. В семь лет, в школе, у меня случился приступ аппендицита, и прямо с занятий я попал в больницу. Если бы это произошло дома, она оставила бы меня умирать в моей комнате, тогда как сама с головой бы ушла в успокаивающие книги, музыку и прочие компоненты ее личного perfecto mundo, ее «идеального мира».
Мои эмоциональные потребности, мои страхи и радости, мои сомнения и надежды, мои несчастья и тревоги так и оставались моими. Я разбирался со всем сам, без ее совета или сочувствия. Мы говорили только о том, что не беспокоило ее, не заставляло что-либо подсказывать, предлагать.
Шестнадцать лет, проведенных вместе в этом доме, мы жили в одном мире, но в разных плоскостях, которые лишь изредка пересекались. И из воспоминаний детства наиболее яркими у меня остались щемящая душевная боль одиночества и ежедневная борьба с опустошенностью души, которую эта боль вызывала.
В тех же печальных случаях, когда события заставляли пересечься плоскости, в которых мы существовали (речь идет о кризисах, которые моя мать не могла выносить, но и избежать их не удавалось), она прибегала к одному и тому же средству. Пистолету. И ужас, вызываемый каждым из тех случаев, плюс чувство вины приводили к тому, что я предпочитал одиночество любому контакту, который мог выбить ее из колеи.
И вот теперь, с силой прижимая друг к другу большой и указательный пальцы, чтобы остановить кровь, я услышал, как скрипнула сетчатая дверь.
Не смог заставить себя повернуться и посмотреть на нее. Дело шло к давнему, не раз повторенному ритуалу.
– Встань и уйди, – раздалось у меня за спиной.
Глядя на густую тень, отбрасываемую дубами, в которой кое-где проскальзывали световые блики, на залитый солнцем розовый сад, я ответил:
– Не могу. В этот раз не могу.
Посмотрел на часы: одиннадцать тридцать две. Переполняющее меня напряжение возрастало с каждой минутой, часы стали таймером бомбы, тикающим у меня на запястье.
От той ноши, которую я взвалил ей на плечи, ноши простой человеческой доброты и заботы, которых она не могла в себе найти, голос ее лишился всех эмоций, превратился в механический:
– Я это не потяну.
– Я знаю. Но есть что-то… я не уверен что… что-то такое, чем ты можешь мне помочь.
Она села рядом со мной на крыльцо, поставила ноги на верхнюю ступеньку. Пистолет держала обеими руками, целясь в затененный дубами двор.
Она ничего не делала понарошку. Я знал, что пистолет заряжен.
– Я не буду так жить, – отчеканила она. – Не буду. Не могу. Люди всегда чего-то хотят, пьют мою кровь. Все вы чего-то хотите, хотите, жадные, ненасытные. Ваши потребности… для меня они, что железный костюм, он наваливается на меня своей тяжестью, сковывает движения, хоронит заживо.
Давно уже, а может, и никогда, я не напирал на нее так сильно, как в ту печально знаменитую среду.
– Самое удивительное, мама, что после более двадцати лет, которые я прожил на этом свете, в глубине моего сердца, там, где должно быть темнее всего, до сих пор, я, во всяком случае, так думаю, тлеет искорка моей любви к тебе. Возможно, это жалость, полной уверенности у меня нет, но боль говорит за то, что это все-таки любовь.
Она не хочет любви, ни моей, ни чьей-то еще. Не хочет любви, потому что ничего не может дать взамен. Она не верит в любовь. Боится поверить в нее и в те обязательства, которые любви сопутствуют. Ей хочется, чтобы от нее никто ничего не требовал, она согласна поддерживать только отношения, которые ограничиваются пустопорожней болтовней. В ее идеальном мире живет лишь один человек, и, если она не любит себя, то, по крайней мере, питает к себе самые теплые чувства и стремится к собственной компании, а не к чьей-то еще.
Мое признание в любви заставило ее направить пистолет на себя. Она приставила дуло к шее, чуть под углом, чтобы пуля пронзила мозг.
Жесткими словами и холодным безразличием она могла отвадить кого угодно, но иногда в наших сложных отношениях эти меры не давали должного результата. Пусть даже этого не чувствуя, она признает наличие особой связи между матерью и сыном и знает, что иной раз ее можно порвать, только прибегнув к крайним средствам.
– Ты хочешь нажать за меня на спусковой крючок?
Я, как всегда, отвернулся. И словно вдохнул тень дубов одновременно с воздухом, мои легкие передали ее в кровь, и холодная тень накрыла сердце.
А она произнесла слова, которые слетали с ее губ всякий раз, как только она видела, что я отвожу взгляд:
– Смотри на меня, смотри на меня, а не то я выстрелю себе в живот и буду медленно умирать у тебя на глазах, крича от боли.
С подкатившей к горлу тошнотой, дрожа всем телом, я повернулся к ней, как мать и просила.
– Ты можешь с тем же успехом нажать на спусковой крючок, маленький говнюк. Не вижу разницы в том, кто это сделает – ты или я.
Я не могу сосчитать, да и не хочу, сколько раз мне приходилось слышать эту тираду.
Моя мать безумна. Психиатры могут дать более точную и профессиональную характеристику ее поведению, но, согласно «Словарю Одда», поведение это определяется словом «безумие».
Мне говорили, что такой она была не всегда. Ребенком ее помнили нежной, игривой, ласковой.
Ужасная перемена произошла с ней в шестнадцать лет. Перемены настроения происходили часто и вроде бы без видимых причин. Нежность сменялась безжалостностью, дикой злостью, которую она могла контролировать, лишь оставаясь одна.
Психотерапия и лекарства не смогли вернуть ей прежний характер. Когда в восемнадцать лет она отказалась от услуг врачей, никто не стал настаивать на том, чтобы она продолжала посещать психоаналитика или принимать лекарства, поскольку в ее поведении не было отклонений, которые проявились во всей красе, когда я немного подрос.
Когда мой отец встретил ее, она была достаточно капризна, чтобы заинтересовать его. А стоило ситуации измениться к худшему, как он сделал ноги.
Ее никогда не помещали в психиатрическую лечебницу, потому что она всегда держала себя в руках при общении с другими людьми, если от нее никто ничего не требовал. Угрозы покончить с собой слышу только я и лишь в тех случаях, когда мы вдвоем, а мир видит ее очаровательной и здравомыслящей женщиной.
Алиментов ей хватает на безбедную жизнь, так что работать ей не нужно, живет она как отшельник, вот почему в Пико Мундо мало кто знает об отклонениях в ее психическом состоянии.
Удивительная красота помогает ей хранить свои секреты. Большинство людей самого высокого мнения о тех, кого Бог наградил красотой. У нас просто не укладывается в голове, что физическое совершенство может скрывать извращенные чувства или душевную болезнь.
Голос ее стал более резким, воинственным:
– Я проклинаю ту ночь, когда позволила твоему идиоту-отцу обрюхатить меня тобой.
Меня это не шокировало. Я слышал этот аргумент раньше, бывало и хуже.
– Мне следовало вычистить тебя и выбросить на помойку. Но что бы я тогда получила при разводе? А ты стал пропуском в легкую жизнь.
Когда я смотрю на мать, пребывающую в таком состоянии, я не вижу в ней ненависти, только душевную боль, отчаяние и даже ужас. И не могу представить себе те боль и ужас, которые она испытывает.
Меня утешает лишь одно: я знаю, когда она одна, когда от нее ничего не требуют, она всем довольна, если не счастлива. Я хочу, чтобы она, по меньшей мере, была всем довольна.
– Или перестань пить мою кровь, или нажми на спусковой крючок, маленький говнюк.
Одно из самых ярких ранних воспоминаний моего детства – дождливый январский вечер, когда мне было пять лет и я болел гриппом. Если я не кашлял, то требовал внимания и утешения, а моя мать не могла найти в доме уголка, где до нее не долетали бы мои кашель, плач, крики.
Она пришла в мою комнату и легла рядом на кровать, как могла лечь каждая мать, чтобы утешить своего ребенка. Да только она пришла с пистолетом. Угрозы покончить с собой всегда хватало для того, чтобы я замолкал, становился послушным, освобождал ее от всех материнских обязанностей.
В тот вечер я смирился с тем, что никто не собирается меня пожалеть, и как мог сдерживал слезы, но ничего не мог поделать с воспалившимся и болевшим горлом. Для нее мой кашель являл собой требование проявить заботу о сыне, а поскольку я кашлял и кашлял, она с каждым мгновением все ближе подходила к краю эмоциональной пропасти.
Когда угроза самоубийства не заглушила мой кашель, она приставила дуло пистолета к моему правому глазу. Предложила мне разглядеть блестящее острие пули в конце узкого темного канала.
Тогда мы провели вместе много времени, под шум барабанящего по окнам моей спальни дождя. С тех пор мне не раз и не два приходилось сталкиваться с ужасом, но тот вечер остается самым кошмарным эпизодом моей жизни.
Теперь, умудренный опытом двадцати прожитых лет, я не верю, что она могла убить меня тогда, что вообще может убить меня. Причинив вред мне или кому-то еще, она обрекла бы себя на ту форму общения с другими людьми, которой боится пуще смерти. Она знает, что они будут требовать от нее ответов и объяснений. Добиваться установления истины и справедливости, ждать от нее раскаяния, проявления угрызений совести. Они будут хотеть от нее слишком многого и не остановятся, не получив всего.
Сидя на крыльце, я не знал, наставит ли она пистолет на меня и на этот раз. Не знал, как отреагирую, если наставит. Я искал конфронтации в надежде, что благодаря этому мне откроется истина, хотя и не понимал, зачем мне нужно идти на конфликт с матерью и каким образом этот конфликт поможет мне узнать имя сообщника Робертсона.
Тут она перенацелила пистолет с шеи на левую грудь, как делает всегда, ибо символизм пули, пронзающей мозг, оказывает на сына не столь впечатляющее воздействие, как символизм пули, пробивающей сердце.
– Если ты не отстанешь от меня, если навсегда не перестанешь сосать и сосать из меня кровь, словно пиявка, тогда, ради Господа, нажми на спусковой крючок, дай мне покой.
Перед моим мысленным взором возникла рана на груди Робертсона, которая мучила меня последние двенадцать часов.
Я попытался загнать этот образ обратно в трясину воспоминаний, из которой он выплыл. Это была глубокая трясина, но он никак не желал засасываться обратно.
И внезапно я понял, ради чего приехал сюда: чтобы подтолкнуть мать на ненавистный мне ритуал угрозы самоубийства, который являлся стержнем наших отношений, чтобы увидеть пистолет, приставленный к ее груди, чтобы отвернуться, как я делал всегда, чтобы услышать ее приказ посмотреть на нее… а потом, с подкатывающей к горлу тошнотой, дрожа всем телом, набраться духа и посмотреть.
Прошлой ночью в моей ванной мне не хватило духа, чтобы рассмотреть рану в груди Робертсона.
Тогда я почувствовал что-то странное, почувствовал, что рана может мне что-то подсказать. Но, когда к горлу подкатила тошнота, отвел глаза и застегнул пуговицы рубашки.
Повернув пистолет рукояткой ко мне, мать пыталась всунуть его мне в руку, шипя:
– Давай, неблагодарный говнюк, возьми его, возьми, пристрели меня, покончи с этим и наконец отстань от меня!
Одиннадцать сорок пять, если верить моим часам.
Ее голос, как обычно, стал более злобным, когда она произносила:
– Я грезила и грезила о том, чтобы ты родился мертвым.
Я с трудом поднялся и на негнущихся ногах спустился с крыльца.
А сзади неслось:
– Все время, когда я вынашивала тебя, я думала, что внутри меня мертвяк, гниющий и разлагающийся мертвяк.
Солнце, вскармливая мать-Землю, выливало на нее кипящее молоко дня, подмешивая в него часть небесной синевы, отчего само небо блекло. Даже тень, отбрасываемая дубами, пропиталась жарой, и, уходя от матери, я весь горел от стыда, поэтому нисколько бы не удивился, если б трава вспыхнула у меня под ногами.
– Внутри меня мертвяк, – повторила она. – Месяц за бесконечным месяцем я чувствовала, как твой гниющий зародыш разлагается в моем животе, распространяя яд по всему телу.
Прежде чем обогнуть угол дома, я остановился, повернулся, посмотрел на нее, как подозревал, в последний раз.
Она спустилась с крыльца, но не последовала за мной. Ее правая рука висела как плеть, пистолет целился в землю.
Я не просил, чтобы меня рожали. Только об одном – чтобы любили.
– Мне нечего тебе дать, – сказала она. – Ты меня слышишь? Нечего, нечего. Ты отравил меня, наполнил гноем и младенческим дерьмом, загубил мою жизнь.
Повернувшись к ней спиной, чувствуя, что это навсегда, я поспешил к улице и автомобилю.
Учитывая мою наследственность и особенности детства, я иногда задаюсь вопросом: а как это я не сошел с ума? Может, и сошел.
Глава 54
Мчась со скоростью, превышающей разрешенную законом на окраинах Пико Мундо, я пытался, но безуспешно, выбросить из головы мысли о матери моей матери, бабушке Шугарс.
Мои мать и бабушка существуют в далеко разнесенных друг от друга частях моего мозга, в суверенных государствах памяти, которые не поддерживают между собой никаких отношений. Поскольку я любил Перл Шугарс, мне никогда не хотелось думать о том, что моя сумасшедшая мать – ее дочь.
Сведение их воедино поднимало ужасные вопросы, а я с давних пор упорно отказывался искать на них ответы.
Перл Шугарс знала, что ее дочь – душевнобольная, знала, что с восемнадцати лет она отказалась от лечения. Должно быть, знала и о том, что беременность и ответственность за воспитание ребенка – непосильная ноша для моей матери, психика которой и так находилась на грани срыва.
И, однако, она не ударила пальцем о палец, чтобы помочь мне.
Во-первых, боялась своей дочери. Доказательства тому я видел неоднократно. Резкие смены настроения моей матери и внезапные эмоциональные вспышки пугали мою бабушку, пусть никого другого она не боялась и без колебаний могла ударить пристающего к ней мужчину, каким бы здоровяком он ни казался.
А кроме того, Перл Шугарс слишком нравилась жизнь перекати-поля, чтобы осесть на одном месте и начать воспитывать внука. Жажда странствий, карточные игры с высокими ставками в знаменитых городах, Лас-Вегасе, Рено, Финиксе, Абукеркуе, Далласе, Сан-Антонио, Мемфисе, авантюрная, волнующая атмосфера такой жизни приводили к тому, что большую часть года она проводила вне Пико Мундо.
В свою защиту бабушка Шугарс могла бы сказать, что не имела ни малейшего понятия о не знающей жалости жестокости, которую проявляла моя мать по отношению ко мне. Она действительно ничего не знала о пистолете и угрозах, которые красной нитью прошли через мое детство.
До того как я взялся за эту рукопись, чувство вины и стыд заставляли меня хранить молчание на сей счет. Я достаточно взрослый, пусть мне всего двадцать лет, чтобы понимать, что нет у меня причин испытывать вину и стыд, что я жертва, а не мучитель.
Отдавая рукопись Оззи, я буду сгорать от унижения. После того как он ее прочитает, закрою лицо руками, если он заговорит об этих частях повествования.
«Нездоровый разум глухим подушкам поверяет тайну».
Шекспир, «Макбет», действие пятое, картина первая.
Литературная аллюзия использована здесь не только для того, чтобы порадовать тебя, Оззи. В ней горькая правда, имеющая ко мне самое прямое отношение. Моя мать заразила мой мозг таким сильным вирусом, что я не мог признаться в моих постыдных мучениях даже подушке и каждую ночь, не расплескав ни капли, уносил их в свой сон.
Что же касается бабушки Шугарс… теперь я уже начинаю задумываться, а не являлись ли ее страсть к путешествиям и частые отлучки вкупе с увлеченностью азартными играми ответной реакцией на психиатрические проблемы дочери, моей матери.
Хуже того, я не могу не думать о том, что болезнь матери не является результатом неправильного питания и причину нужно искать в генетике. Возможно, Перл Шугарс страдала тем же психозом, только в более легкой форме, и проявлялся он не столь ужасно, как у моей матери.
Тяга матери к отшельнической жизни могла быть перевертышем жажды бабушки к странствиям. А стремление матери к финансовой безопасности, которой она добилась благодаря нежеланной беременности, – оборотной стороной бабушкиного увлечения азартными играми.
И вот какой из этого следовал вывод, возможно, и неправильный: в бабушке Шугарс мне нравилась прямая противоположность того, что превращало мать в монстра. Это тревожит меня, как по причинам, которые теперь я могу понять, так и по другим, которые, подозреваю, останутся для меня неясными, пока я не проживу еще двадцать лет, если, конечно, это удастся.
Когда мне исполнилось шестнадцать, бабушка Шугарс предложила мне сопровождать ее в поездках. К тому времени мой дар полностью сформировался: я видел мертвых и осознавал, какие в связи с этим на меня накладываются обязательства. И мне не оставалось ничего другого, как отклонить ее предложение. А если бы обстоятельства позволили мне ездить с ней от игры к игре, от авантюры к авантюре, стрессы повседневной жизни и постоянные контакты, возможно, открыли бы в ней другую и менее привлекательную женщину, чем та, которую я вроде бы знал.
Я должен верить, что бабушка Шугарс обладала способностью искренне любить, которая напрочь отсутствовала у матери, я должен верить, что она действительно любила меня. Если это неправда, тогда все мое детство можно считать выжженной пустошью.
Так и не отогнав эти лишающие покоя мысли по пути из Пико Мундо, я прибыл в церковь Шепчущей Кометы в скверном настроении, в немалой степени соответствующем пейзажу с засохшими пальмами, выжженной землей, брошенными, разрушающимися зданиями.
Остановил автомобиль перед куонсетским ангаром, где меня окружили койоты. Конечно же, их и след простыл.
Они – ночные охотники. В полуденную жару прячутся в прохладных темных логовах.
Не увидел я и мертвой проститутки, зачаровавшей койотов. У меня возникла надежда, что она нашла тропку, ведущую из этого мира в последующий, но я сомневался, что именно мой совет и произнесенные банальности убедили ее покинуть наш мир.
Со дна пластикового пакета, который верно служил мне чемоданом, я выудил фонарь, ножницы и пачку влажных салфеток, упакованных в алюминиевую фольгу.
В квартире, когда я паковал пакет, салфетки определенно казались лишними, ножницы – тем более. Однако подсознательно я, должно быть, точно знал, для чего они мне потребуются.
Для самих себя мы отнюдь не незнакомцы. Только пытаемся таковыми казаться.
Когда я вылез из автомобиля, меня встретили яростная жара Мохаве и абсолютная тишина, какую редко где встретишь, за исключением разве что открытого космоса.
Часы показали, что время и не думало останавливаться: до полудня оставалось только три минуты.
Две высохшие пальмы отбрасывали жалкие тени на пыльную землю перед куонсетским ангаром, словно указывая путь, не мне, а сильно припозднившемуся мессии. Я вернулся не для того, чтобы оживлять мертвеца: хотел только его осмотреть.
Войдя в ангар, попал в адскую печь. Помимо жары, от которой все тело сразу покрылось липким потом, в нос ударил пренеприятный запах.
Слепящий свет пустыни проникал в ангар сквозь окна-амбразуры, но последних было мало, и находились они на таком большом расстоянии, что без фонаря я обойтись не мог.
По замусоренному коридору направился к четвертой двери. Вошел в розовую комнату, когда-то уютное гнездышко, где совокуплялись за деньги, теперь – крематорий, где трупы поджаривали на медленном огне.
Глава 55
Ни любопытные люди, ни пожиратели падали не побывали здесь в мое отсутствие. Труп лежал там, где я его и оставил, с одним развязанным концом савана, с одной торчащей ногой, все остальное скрывала белая простыня.
Теплая ночь и жаркое утро в значительной степени ускорили разложение. Понятное дело, в этой комнатке воняло куда сильнее, чем во всем ангаре.
Удушающая жара и вонь сработали, как два точных удара в живот. Я попятился назад, в коридор, жадно хватая ртом более свежий воздух и борясь с желанием желудка вывернуться наизнанку.
Хотя влажные салфетки предназначались совсем для другого, я вытащил одну и оторвал от нее две тонкие полоски. От салфетки шел легкий запах лимона. Полоски я скатал в шарики, которые и засунул в ноздри.
Дыша через рот, я не мог унюхать разлагающийся труп. Тем не менее, когда еще раз вошел в розовую комнатку, меня опять чуть не вырвало.
Я мог бы разрезать шнурок, который стягивал конец простыни у головы, второй, в ногах, развязался прошлым вечером, и выкатить труп из савана. Но мысль о том, что мертвяк покатится по полу, как живой, убедила меня, что проблема требует иного подхода.
С неохотой я опустился на колени у головы трупа. Прислонил к ней фонарь, чтобы осветить рабочую зону.
Перерезал шнурок и отбросил его в сторону. Ножницы у меня были достаточно острые, чтобы за один раз разрезать три слоя хлопчатобумажного полотна. Резал я осторожно, с тем чтобы ни в коем случае не зацепить кожу покойника.
Когда разрезанные части простыни сползли на пол по обе стороны от трупа, первым делом я увидел лицо. Слишком поздно понял, что начинать резать следовало от ног, и тогда я мог бы остановиться у шеи, обнажив только рану, оставив лицо закрытым.
Время и жара потрудились на славу. Лицо, я смотрел на него со стороны макушки, раздулось, потемнело, стало отливать зеленым. Рот широко раскрылся. Глаза залила какая-то белесая жидкость, сквозь которую, однако, просматривались радужки.
А когда я потянулся через лицо, чтобы разрезать простыню и на груди, труп лизнул мое запястье.
Я вскрикнул в ужасе и отвращении, отпрянул, выронил ножницы.
Из раззявленного рта покойника начало выползать что-то черное и мохнатое. Я так и не понял, что же это такое, пока существо полностью не вылезло изо рта. На раздувшемся лице Робертсона поднялось на четырех задних лапках и замахало в воздухе передними. Тарантул.
Конечно же, я быстро подался назад, чтобы не дать пауку возможности укусить меня. Он спрыгнул на пол и скоренько засеменил в дальний угол.
Когда я поднимал упавшие ножницы, моя рука так сильно тряслась, что мне пришлось несколько раз энергично крутануть ею в воздухе, чтобы унять дрожь.
Помня о том, что под саваном могли оказаться и другие пауки, я продолжил работу с удвоенной осторожностью. Но обнажил тело до талии, не столкнувшись с новыми неожиданностями.
Испугавшись тарантула, я выдохнул затычку из правой ноздри. И теперь вместо запаха лимона в нос ударяла вонь трупа, пусть и не так сильно, поскольку дышать я продолжал через рот.
Глянув в угол, куда ретировался паук, я увидел, что его там нет.
Поискал взглядом. Обнаружил чуть левее и выше, в трех футах от пола. Мохнатая тварь медленно поднималась по розовой стене.
Расстегивать пуговицы, как я делал у себя на квартире, времени не было, так что я просто рванул рубашку. Пуговицы полетели в разные стороны, одна стукнула мне по лбу, другие запрыгали по полу.
Представив себе свою мать с пистолетом, нацеленным в грудь, я смог заставить себя направить луч фонаря на рану. Присмотрелся к ней и понял, почему рана сразу показалась мне странной.
Вновь прислонил фонарик к голове, достал три влажные салфетки. Сложил в толстый сандвич и осторожно вытер жижу горчичного цвета, которая сочилась из раны.
Пуля пробила татуировку на груди Робертсона, аккурат над сердцем. Черный прямоугольник того же размера, что и медитативная карточка, которую я нашел в его бумажнике. А по центру прямоугольника краснели три иероглифа.
С налитыми кровью глазами, перебравший кофеина, я не сразу понял, что вижу перед собой. Оно и понятно, я видел иероглифы перевернутыми.
Когда я переместился из-за головы Робертсона к его боку, мертвые глаза, казалось, повернулись, отслеживая мой путь из-под белесых катаракт.
Я поискал взглядом тарантула. С дальней стены он исчез. Луч фонаря обнаружил его на потолке. Тарантул направлялся ко мне. Застыл, попав в световое пятно.
Я направил луч на татуировку и понял, что три иероглифа на самом деле буквы алфавита, написанные шрифтом с завитушками. F… O… Третью букву частично разорвала пуля, но у меня не было сомнений, что это L.
FOL. Не слово. Аббревиатура. Благодаря Шамусу Кокоболо я знал, что она означает. Father of lies. Отец лжи.
И внезапно перед моим мысленным взором возник патрульный Саймон Варнер, за рулем полицейского автомобиля на стоянке, наклонившийся к окну, с добрым, словно у ведущего детской телевизионной программы, лицом, тяжелыми веками напоминающий спящего медвежонка. Его мускулистая рука лежала на дверце, украшенная гангстерской, по его словам, татуировкой. Не такой красивой, как татуировка Робертсона, просто никакой. Ни тебе черного прямоугольника, ни красных букв, написанных замысловатым шрифтом. Еще одна аббревиатура из черных заглавных букв. D… и что-то еще. Кажется, DOP.
Может, патрульный Саймон Варнер, сотрудник полицейского участка Пико Мундо, вытатуировал на левой руке другое имя того же хозяина?
Если татуировка Робертсона означала одно из многих имен дьявола, тогда Саймон Варнер состоял с Человеком-грибом в одном клубе.
В голове проносились имена дьявола: Сатана, Люцифер, Вельзевул, Отец зла, Его сатанинское величество, Аполлион, Велиал…
Я не мог вспомнить имя, которое соответствовало бы аббревиатуре на руке Варнера, но уже точно знал, что вычислил сообщника Робертсона, в паре с которым тот готовил массовое убийство.
На автомобильной стоянке у боулинг-центра около Варнера не вертелись бодэчи, как они вертелись вокруг Робертсона. Если б я увидел его в компании бодэчей, то сразу бы понял, что он за монстр.