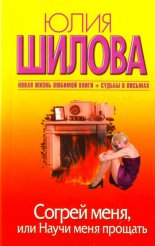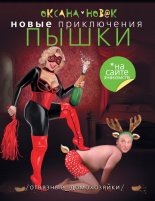Брат Томас Кунц Дин
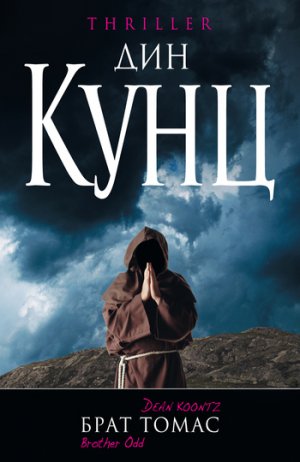
Поворачивая ключ в замке, я сказал себе, что роковое падение грозит мне точно так же, как и любому ребенку. Я не боюсь смерти (и воссоединения со Сторми, то ли на Небесах, то ли в неведомом мире, где, по ее словам, нам предстояла «служба»), но готов умереть лишь после того, как будет определена и нейтрализована угроза детям.
Если бы я потерпел неудачу и на этот раз, если бы одни спаслись, но другие умерли, как это произошло в торговом центре во время стрельбы, я бы больше не нашел места, где мог бы укрыться от мирской суеты. Где еще я мог рассчитывать на тишину и покой, как не в горном монастыре? И вы уже знаете, до какой степени не оправдались мои надежды.
Спиральная лестница колокольни не отапливалась. Резиновые коврики, которые лежали на каждой ступеньке, холодили подошвы, но, по крайней мере, носки с них не соскальзывали.
На лестнице звон колоколов просто оглушал, рвал барабанные перепонки, как раскаты грома. Поднимаясь, я скользил рукой по стене, и штукатурка гудела под ладонью.
К тому времени, когда я добрался до звонницы, зубы вибрировали, как тридцать два камертона. Волосы в носу стояли торчком и щекотались, уши болели. Я чувствовал, что удары языков о колокола отзываются в моих костях.
Наверное, такой грохот хорошо знали ценители хард-рока, приходящие на концерты: звук обрушивался на тебя оглушающими лавинами.
В звоннице властвовал мороз.
Я видел перед собой не поворотную балку с тремя колоколами, как в новом аббатстве. Здесь колокольня была шире, а звонница — просторнее, чем у здания, стоявшего выше по склону. В прежнее время монахи получали больше удовольствия от перезвона колоколов, поэтому их было пять, располагались они на двух уровнях, да и размеры впечатляли.
Ни веревок, ни рукояток не требовалось для того, чтобы раскачивать этих бронзовых бегемотов. Брат Константин перепрыгивал с одного на другой, как участник родео может перепрыгивать с одного брыкающегося быка на другого.
Его беспокойная душа, реализующая энергию раздражения и ярости, устроила оглушающий полтергейст. Существо нематериальное, сам он не мог сдвигать с места эти тяжелые колокола, но от него исходили энергетические волны, невидимые для обычных людей, которые не видели и самого монаха. А вот я и его, и эти волны видел.
Эти пульсации пробегали по звоннице, и под их воздействием бронзовые колокола раскачивались как бешеные. Их огромные языки беспорядочно колотились по стенкам, вызывая этот невероятный грохот.
Я не чувствовал эти энергетические волны, когда они прокатывались по мне. Полтергейст не может навредить живому человеку прикосновением или прямым энергетическим воздействием.
А вот если бы один из колоколов сорвался с балки и упал на меня, я бы превратился в кровавое месиво на полу.
Брат Константин при жизни был очень мягким и добрым человеком, поэтому не мог стать злобным после смерти. Если бы он случайно причинил мне вред, то впал бы в еще более глубокое в сравнении с нынешним отчаяние.
Но пусть он и испытывал угрызения совести, от меня все равно осталось бы мокрое место.
Мертвый монах перескакивал с одного колокола на другой, с нижнего уровня — на верхний и обратно. И хотя ничего демонического в нем не было, я полагал, что имею полное право назвать его слабоумным.
Любая задержавшаяся в этом мире душа иррациональна, потеряв путь в вертикальном порядке вещей. Полтергейст — проявление иррационализма и злобы.
Я осторожно продвигался по дорожке, которая окружала колокола. Они раскачивались по более широким дугам, чем обычно, вылетали в пространство над дорожкой, заставляли меня держаться ближе к ограждению. По периметру звонницы высились колонны, поддерживающие крышу. В ясный день между колоннами открывался вид на новое аббатство, поднимающиеся и спускающиеся склоны Сьерры, бескрайние леса.
Но буран скрыл от глаз и новое аббатство, и лес. Я видел только крыши и дворы старого аббатства, расположенные непосредственно под колокольней.
Ветер ревел с прежней силой, но в гуле колоколов я его услышать не мог. Зато его порывы швыряли в меня снежные заряды.
Я медленно шел по дорожке, и брат Константин знал о моем прибытии. Как гоблин в рясе, он прыгал с колокола на колокол, не сводя с меня выпученных глаз.
Они стали такими в момент смерти, когда затянувшаяся петля сломала шею и разорвала трахею.
Я остановился, спиной к одной из колонн, и широко развел руки ладонями вверх, как бы спрашивая: «Какой в этом смысл, брат? Какая вам от этого польза!»
Хотя он знал, о чем я, ему не хотелось размышлять об абсолютной бессмысленности его ярости. Он отвернулся от меня и принялся еще быстрее перескакивать с колокола на колокол.
Я сунул руки в карманы и зевнул. Когда он посмотрел на меня еще раз, зевнул вновь и покачал головой, как делает актер, когда хочет выразить разочарование.
Вот вам доказательство того, что в самые отчаянные моменты, когда стужа пробирает до костей, а нервы напряжены до предела от страха перед тем, что может случиться в следующую секунду, в жизни остается комический аспект. Грохот превратил меня в мима.
Как выяснилось, брат Константин излил всю свою ярость. Перестал излучать энергетические волны, и амплитуда движения колоколов тут же начала быстро уменьшаться.
Хотя носки у меня были толстые, предназначенные для занятий зимними видами спорта, ледяной холод, идущий от каменного пола, легко проникал сквозь них. Зубы принялись выбивать дрожь, хотя я по-прежнему пытался изображать скуку.
Скоро языки уже легонько стукались о бронзовые стенки, издавая не столь громкие, где-то даже меланхолические звуки.
Но завываний ветра я еще не слышал, потому что в ушах стояли отзвуки недавней какофонии.
Как один из мастеров боевых искусств в «Крадущемся тигре, затаившемся драконе», который мог прыгать по крышам, а потом спуститься вниз, исполнив некий элемент воздушного балета, брат Константин соскользнул с колоколов и приземлился рядом со мной на пол звонницы.
И когда я уже собрался с ним поговорить, то увидел движение в дальнем ее конце, темную фигуру между изогнутыми, теперь замолчавшими бронзовыми поверхностями, четким силуэтом выделяющуюся на фоне серого света этого заваленного снегом дня.
Брат Константин проследил за моим взглядом и, похоже, тут же опознал пришельца по той малости, что проглядывала между колоколами. И хотя ничто в этом мире не могло причинить вреда мертвому монаху, он в ужасе подался назад.
Я достаточно далеко отошел от лестницы, и темная фигура, смещаясь по дорожке вокруг колоколов, оказалась между мною и единственным путем отхода из звонницы.
Временная глухота исчезла, и рев ветра ворвался в уши как раз в тот момент, когда темная фигура появилась из-за колоколов. Тот самый монах в черной рясе с капюшоном, которого я увидел в дверном проеме между коридором и лестницей, когда отвернулся от сестры Мириам, сидевшей на сестринском посту, какими-то двадцатью минутами раньше.
Сейчас я находился к нему гораздо ближе, но по-прежнему мог видеть только черноту под капюшоном, никакого намека на лицо. Ветер раздувал рясу, но не открывал ног, из рукавов не торчали руки.
Теперь, когда мне представилась возможность как следует рассмотреть пришельца, я понял, что ряса, длиннее тех, что носили монахи, стлалась сзади по полу. И материя отличалась: поблескивала, как шелк.
На шее висело ожерелье из человеческих зубов, нанизанных на нитку, будто жемчужины, с медальоном (тремя выбеленными косточками пальцев) на груди.
По талии фигуру перепоясывала веревка, сплетенная из чисто вымытых, блестящих человеческих волос.
Пришелец направлялся ко мне. И хотя я не собирался сдавать позиции, тем не менее попятился с его приближением, потому что, как и мой мертвый компаньон брат Константин, не хотел вступать с ним в контакт.
Глава 25
Если бы не холод, иголками впивающийся в подошвы моих ног, если бы не пальцы, которые все больше теряли чувствительность, я мог бы подумать, что и не просыпался, чтобы увидеть на подмороженном окне моей спальни в гостевом крыле красно-синий свет мигалок автомобилей помощников шерифа, что по-прежнему сплю и все это мне снится.
Большущие медные языки, в которых озабоченный Фрейд тут же углядел бы понятно какое символическое значение, плюс сводчатый потолок звонницы, часть которого пряталась в тенях, создавали идеальные декорации для сна, в окружении девственной белизны падающего снега.
Эта минималистская фигура Смерти, в рясе и капюшоне, безо всякого гниющего мяса и червяков, какой ее изображают в комиксах и третьесортных фильмах ужасов, чистенькая, как черный полярный ветер, была такой же реальной, как Смерть в бергмановской «Седьмой печати». И в то же время Смерть эта напоминала угрожающего фантома в кошмарном сне, аморфного и неведомого, которого лучше всего видно краем глаза.
Смерть подняла правую руку, и из рукава появилась длинная белая кисть, не скелет, а нормальная, из плоти. И хотя под капюшоном оставалась пустота, рука потянулась ко мне, с выставленным вперед указующим перстом.
Теперь мне вспомнилась «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Последний из трех призраков, явившийся к несчастному мистеру Скруджу, зловещий и молчаливый, которого Скрудж назвал Призраком Еще Не Пришедшего Рождества. Он дал призраку правильное имя, но тот являл собой не просто грядущее Рождество, а все будущее, которое неизбежно вело к смерти, концу, заложенному как в мое начало, так и в ваше.
Из левого рукава Смерти появилась еще одна бледная кисть, и пальцы держали веревку с петлей на конце. Призрак (а может, и что-то другое) перекинул петлю из левой руки в правую и вытянул из левого рукава веревку невероятной длины.
Когда из рукава наконец-то появился свободный конец, Смерть перекинула его через одну из поворотных балок и ловко завязала крепкий узел, но не как бывалый палач, а с легкостью фокусника.
Все это напоминало кабуки, японский вариант стилизованного театра. Сюрреалистические декорации, удивительные костюмы, маски, парики, феерические эмоции, мелодраматические жесты актеров — казалось бы, японский театр должен был быть таким же смешным, как американский профессиональный рестлинг. Однако благодаря какому-то таинственному эффекту для понимающей аудитории кабуки столь же реален, как бритва, порезавшая палец.
В молчании колоколов, в реве ветра, который, похоже, одобрял действия Смерти, она указывала на меня пальцем, и я знал, что петля предназначается для моей шеи.
Призраки не могут причинить вреда живым. Это наш мир — не их.
Смерть в действительности не ходит по нашему миру в рясе с капюшоном, собирая души.
И первое утверждение, и второе не противоречили истине, но и не означали, что вот эта Смерть, которую я видел перед собой, не могла навредить мне.
Поскольку воображение у меня настолько богато, насколько пуст мой банковский счет, я без труда представил себе, как грубые волокна веревки трутся о мою шею, выжимают сок из моего адамова яблока.
Черпая храбрость в факте, что он уже мертв, брат Константин выступил вперед, чтобы привлечь внимание Смерти и дать мне шанс рвануть к лестнице.
Монах опять запрыгнул на колокола, но более не было в нем той ярости, которая требовалась для психокинетического феномена, именуемого полтергейстом. Вместо ярости его, похоже, переполнял страх за меня. Он заламывал руки, а рот раскрылся в беззвучном крике.
Моя уверенность в том, что ни один призрак не сможет причинить мне вреда, растаяла как дым, стоило мне увидеть, что брат Константин придерживается прямо противоположного мнения.
Хотя Смерть была куда проще, чем калейдоскоп костей, который преследовал меня в буране, я вдруг почувствовал, что они похожи. В театральности, манерности, застенчивости, которых не было у задержавшихся в этом мире мертвых. Даже полтергейст призрак вызывает не для того, чтобы произвести максимальный эффект на живых. У него нет желания кого-либо пугать, он просто хочет стравить распирающее его раздражение, презрение к себе, ярость, вызванную тем, что он застрял в некоем чистилище между двух миров.
Завораживающие трансформации костяного чудовища в окне говорили о тщеславии: смотри, какое я чудо, замри в восторге и трепещи. Вот и Смерть двигалась, как самодовольная балерина на сцене, нарочито, в ожидании аплодисментов.
Тщеславие — чисто человеческая слабость. Ни одно животное на тщеславие не способно. Люди иногда говорят, что тщеславие есть у кошек, но кошки заносчивы. Они уверены в своем превосходстве и не жаждут восхищения, как тщеславные женщины и мужчины.
Призраки, задержавшиеся в этом мире, могли быть тщеславными при жизни, но лишились тщеславия, осознав, что они — смертные.
А вот теперь эта Смерть насмешливо махнула мне рукой, мол, иди сюда, словно я мог настолько испугаться ее устрашающего вида, настолько проникнуться восторгом (ну как же, она великолепна), что сам надел бы петлю на шею и не стал бы защищать свою жизнь.
Тот факт, что эти два столь несхожих внешне существа разделяли одну, очень уж человеческую, присущую только человечеству черту — тщеславие, определенно имел очень существенное значение. Но почему, я пока сказать не мог.
В ответ на приглашающий жест Смерти я отступил на шаг, и она вдруг яростно бросилась на меня.
Прежде чем я успел блокировать ее атаку, правая рука Смерти сомкнулась на моей шее и с нечеловеческой силой оторвала меня от пола.
Рука эта была неестественно длинной, поэтому я не мог ударить нападающую, не мог дотянуться до черноты под капюшоном. И мне не осталось ничего другого, как пытаться оторвать ее пальцы.
Хотя рука выглядела обычной человеческой рукой, из плоти и крови, изгибалась, как обычная человеческая рука, крови в ней как раз и не было. Мои пальцы скользили по бледной коже с таким же звуком, как мел по грифельной доске.
Смерть ударила меня о колонну, и я приложился затылком к камню. На мгновение буран закружился в голове, порыв снега за глазами едва не отправил меня в вечную зиму.
Я принялся пинаться, но мои ноги лишь путались в шелковистой черной рясе, потому что тело, если оно там и было, более всего напоминало ртуть или деготь, в который засасывало чудовищ Юрского периода.
Я попытался набрать полную грудь воздуха, и мне это удалось, потому что Смерть только держала меня над полом, а не душила, возможно, для того, чтобы на моей шее, когда меня достанут из петли, нашли бы только следы веревки.
Она оторвала меня от колонны и в тот же момент бросила петлю, которая поплыла ко мне, словно кольцо темного дыма. Я откинул голову. Петля скользнула мне по лицу и вернулась в левую руку Смерти.
Я понимал, что, накинув мне на шею петлю, она тут же выбросит меня за парапет, и я звоном колоколов возвещу о своей смерти.
Я перестал отрывать руку, которая по-прежнему крепко держала меня за шею, и схватился за петлю, оборвав вторую попытку Смерти затянуть на моей шее пеньковый галстук.
Вглядываясь в черноту под капюшоном, я услышал собственный хрип:
— Я знаю тебя, не так ли?
Вопрос, рожденный интуицией, сработал магически, словно заклинание. Что-то начало формироваться там, где полагалось быть лицу.
И Смерть уже не так яростно пыталась надеть на меня петлю.
В моем голосе добавилось определенности:
— Я знаю тебя.
Под капюшоном контуры лица начали приобретать черты, превращаясь в черную маску.
Четкости, конечно, не хватало, лица я узнать не мог, оно напоминало отражение на поверхности пруда, когда лунный свет не падает на темную воду.
— Матерь Божья, я тебя знаю, — в третий раз повторил я, хотя интуиция все еще не подсказывала мне имени.
Моя настойчивость приводила к тому, что лицо проступало все четче, словно мои слова вызывали в пришельце чувство вины и неодолимое желание признаться, кто же он такой.
Смерть отвернулась от меня. Отбросила меня в сторону, швырнула веревку. Петля упала на меня, распростертого на полу звонницы.
А в следующее мгновение Смерть поднялась на парапет между двумя колоннами и после короткой заминки сиганула вниз, в буран.
Я вскочил с пола в тот самый момент, когда Смерть прыгнула вниз, и наклонился над парапетом.
Ее ряса развевалась, словно крылья, она грациозно приземлилась на крышу церкви и тут же перепрыгнула на другую, более низкую крышу.
И хотя я понимал, что Смерть совсем не призрак, что сверхъестественного в ней меньше, чем неестественного, она полностью дематериализовалась, как и полагалось призраку, пусть такого способа дематериализации мне видеть еще не доводилось.
В полете Смерть рассыпалась на множество осколков, как тарелочка на ружейном стенде. Миллион снежных хлопьев перемешался с миллионом частичек Смерти в некую черно-белую картинку, калейдоскопический образ, возникший в воздухе, и его в следующее мгновение безо всякого почтения разметал ветер.
Глава 26
В приемной на первом этаже я присел на край дивана, чтобы надеть лыжные ботинки, которые уже высохли.
Мои ноги еще не отогрелись. Я бы очень хотел усесться в кресло, положить ноги на табуретку, завернувшись в теплый халат, почитать хорошую книгу, поесть пирожных, запивая их кружками горячего какао, которые приносила бы мне фея-крестная.
Будь у меня фея-крестная, она напоминала бы актрису Анджелу Лэндсбери, играющую в сериале «Она написала убийство». Фея любила бы меня всем сердцем, предугадывала все мои желания, каждый вечер перед сном подтыкала бы одеяло и целовала в лоб, потому что проходила тренировочную программу в Диснейленде и дала клятву крестной в присутствии сохраняющегося в криогенной заморозке трупа Уолтера Диснея.
Я поднялся и пошевелил еще холодными пальцами.
Караулило меня костяное чудовище или нет, мне предстояло вновь выйти в буран, если не в этот самый момент, то скоро.
Какие бы силы ни действовали сейчас в аббатстве и школе Святого Варфоломея, мне ни с чем подобным сталкиваться не приходилось, я никогда не видел таких призраков, и у меня не было уверенности, что я сумею вовремя разгадать их намерения и предотвратить беду. Если бы не удалось идентифицировать угрозу, мне потребовались бы сильные руки и храбрые сердца, чтобы помочь защитить детей, и я знал, где их искать.
Бесшумно — белая ряса глушила шаги — прибыла величественная сестра Анжела, воплощение снежной богини, покинувшей дворец, чтобы проверить действенность бурана, который она наслала на Сьерру.
— Сестра Клер-Мари говорит, что ты хочешь мне что-то сказать, Одди.
Брат Константин спустился вместе со мной с колокольни и теперь составлял нам компанию. Мать-настоятельница, естественно, его не видела.
— Джордж Вашингтон знаменит тем, что у него были плохие вставные зубы, — сказал я, — но мне ничего не известно о зубах Харпер Ли и Фланнери О'Коннор.
— Мне тоже, — ответила она, — и до того, как ты спросишь, сразу скажу, прически у них тоже разные.
— Брат Константин не совершал самоубийство, — сообщил я ей. — Его убили.
Ее глаза широко раскрылись.
— Никогда не слышала, чтобы за хорошей новостью так быстро последовала плохая.
— Он остается здесь не потому, что боится суда в следующем мире. Нет, он отчаянно тревожится за своих братьев в аббатстве.
Сестра Анжела оглядела приемную.
— Он здесь?
— Стоит рядом со мной, — я указал, где именно.
— Дорогой брат Константин. — От избытка чувств она запнулась. — Мы каждый день молились за тебя, и каждый день нам тебя не хватает.
Глаза призрака заблестели от слез.
— Ему не хотелось покидать этот мир, пока братья верили, что он покончил с собой.
— Конечно. Он опасался, что его самоубийство заставит их усомниться в его преданности Богу.
— Да. Но, думаю, его волновало и другое. Убийца ходит между ними, а они об этом не подозревают.
Сестра Анжела соображала быстро, но десятилетия жизни в монастырях приучили ее к тому, что все зло находится вне их стен.
— Ты, конечно, говоришь о постороннем человеке, который забрел сюда однажды ночью, а брат Константин, к своему несчастью, оказался у него на пути.
— Если мы говорим о таком раскладе, то человек этот пришел снова, и теперь уже на его пути оказался брат Тимоти, а только что, на колокольне, он попытался убить меня.
В тревоге она взяла меня за руку.
— Одди, ты в порядке?
— Я еще не мертвый, но, с другой стороны, на десерт подадут пирог.
— Пирог?
— Извините.
Просто сорвалось с губ.
— Кто пытался тебя убить?
— Лица я не видел, — ответил я. — Он… носил маску. И я убежден, что знаю этого человека, он — не посторонний.
Она посмотрела на то место, где стоял мертвый монах.
— Разве брат Константин не может опознать его?
— Не думаю, что и он видел лицо убийцы. И потом, вы и представить себе не можете, какую малую помощь я могу получить от мертвых. Они хотят, чтобы справедливость по отношению к ним восторжествовала, очень хотят, но, думаю, должны следовать какому-то закону, запрещающему им вмешиваться в дела мира, к которому больше не принадлежат.
— А теоретически?
— Конкретно никого назвать не могу. Мне говорили, что брат Константин страдал от бессонницы и, если не мог спать, иногда забирался на колокольню нового аббатства, изучал звезды.
— Да. Аббат Бернар рассказывал мне об этом.
— Подозреваю, будучи на колокольне, он увидел что-то такое, чего видеть ему не следовало, никому не следовало, и его убрали как нежелательного свидетеля.
Сестра Анжела поморщилась.
— Создается ощущение, что у нас не аббатство, а какая-то клоака.
— Я ничего такого не говорю. Я прожил здесь семь месяцев и знаю, какие братья порядочные и набожные. Я не думаю, что брат Константин увидел что-то постыдное. Если он и увидел, так что-то… экстраординарное.
— И недавно брат Тимоти тоже увидел что-то экстраординарное, и его убрали как нежелательного свидетеля.
— Боюсь, что да.
Какое-то время она переваривала полученную информацию, а потом пришла к наиболее логичному выводу:
— А теперь ты увидел что-то экстраординарное.
— Да.
— И что… это было?
— Я не хочу об этом говорить, пока не попытаюсь понять, что же я видел.
— А ты что-то видел… отсюда и твоя просьба проверить, заперты ли все двери и окна.
— Да, мэм. И одна из причин, по которым нам теперь нужно принять дополнительные меры предосторожности по охране детей.
— Мы сделаем все, что нужно сделать. Твои предложения?
— Укрепляться, — ответил я. — Укрепляться и защищаться.
Глава 27
Джордж Вашингтон, Харпер Ли и Фланнери О'Коннор улыбались мне со стен, словно иронизируя над моей неспособностью догадаться, что же у них общего.
Сестра Анжела сидела за столом, наблюдая за мной поверх очков для чтения, которые соскользнули на кончик ее носа. Ручку она держала над открытой разлинованной страницей блокнота.
Брат Константин не пошел с нами в кабинет сестры Анжелы. Может, все-таки решил покинуть этот мир, может, и нет.
Я кружил по кабинету, насколько позволяли его размеры.
— Думаю, большинство братьев — пацифисты, пока этого требует здравомыслие. Но они будут сражаться, чтобы спасти невинную жизнь.
— Бог требует противления злу, — указала сестра Анжела.
— Да, мэм. Но готовности вступить в бой недостаточно. Я хочу, чтобы люди знали, как сражаться. Запишите первым брата Костяшки.
— Брата Сальваторе, — поправила она.
— Да, мэм. Брат знает, что нужно делать, если дерьмо… — Я замолчал, покраснел.
— Ты мог бы закончить фразу, Одди. Слова «полезет наружу» не оскорбили бы мой слух.
— Извините, сестра.
— Я — взрослая женщина, не наивное дитя.
— Да, мэм.
— Кого кроме брата Сальваторе?
— Брат Виктор прослужил шесть лет в морской пехоте.
— Я думаю, ему семьдесят лет.
— Да, мэм, но он служил в морской пехоте.
— «Нет лучшего друга, нет худшего врага», — процитировала сестра Анжела знакомую всем характеристику морских пехотинцев.
— «Semper Fi» действительно нам очень нужны.[20]
— Брат Грегори служил в армии.
Наш заведующий лазаретом никогда не говорил о военной службе.
— Вы уверены? — спросил я. — Я думал, у него сертификат медбрата.
— Да. Но он много лет служил в медицинских частях и участвовал в боевых действиях.
На поле боя медики обычно демонстрировали не меньшую храбрость, чем люди с оружием.
— Конечно, нам нужен брат Грегори, — кивнул я.
— Как насчет брата Квентина?
— Он был копом, мэм?
— Думаю, что да.
— Внесите его в список.
— Сколько людей нам потребуется? — спросила сестра Анжела.
— Пятнадцать-шестнадцать.
— Пока у нас четверо.
Я продолжал кружить по кабинету. Постоял у окна. Пошел на очередной круг.
— Брат Флетчер, — предложил я.
Выбор ее удивил.
— Дирижер?
— Да, мэм.
— В мирской жизни он тоже был музыкантом.
— Это жестокий бизнес, мэм.
Она задумалась.
— Иногда он показывает зубки.
— Для саксофонистов это обычное дело, — кивнул я. — Я знал одного саксофониста, который вырвал гитару из рук другого музыканта и прострелил ее пять раз. Хорошую гитару, фирмы «Фендер».
— Почему он это сделал? — спросила она.
— Расстроился из-за того, что гитарист фальшивил.
На ее лице отразилось осуждение.
— После того как все закончится, может, твоему приятелю-саксофонисту стоит провести какое-то время в аббатстве. Мы можем подсказать ему, как разрешать конфликтные ситуации.
— Мэм, он и разрешил конфликтную ситуацию, прострелив гитару.
Она посмотрела на Фланнери О'Коннор. Потом кивнула, вероятно соглашаясь с тем, что когда-то сказал писатель.
— Хорошо, Одди. Ты считаешь, что брат Флетчер может дать кому-то хорошего пинка.
— Защищая детей — да. Думаю, что может, мэм.
— Значит, у нас уже пятеро.
Я присел на один из стульев для посетителей.
— Пятеро, — повторила она.
— Да, мэм.