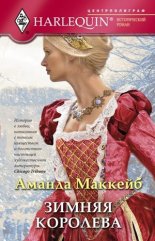Роман с небоскребом Гайворонская Елена

– Да прям! Они кошкам больше скармливают. Видел, какой там кошан жирный? Скоро морда треснет. У них процент потерь в прибыль заложен. Мне кореш говорил.
– В самом деле, – поддержала я Вадика, – от килек в томате магазин не разорится. А нам добавка к ужину.
– Я ни разу в своей жизни не взял чужого, – задумчиво наморщив лоб, поведал Сережка.
– Все когда-нибудь происходит впервые, – утешил Вадик. – Будь проще, и люди к тебе потянутся. Сань, угости кофейком рабочего человека!
– А ты не прихватил кофеек из магазина? – съехидничала я. – Пошуруй в кармане, может, там еще что-нибудь затерялось?
Вадик послушно покопался и извлек сигарету, початую жвачку, пачку презервативов и маленькую шоколадку «Аленка». Сигареты, жвачку и презервативы запрятал обратно, а шоколадку торжественно выложил на стол.
– Да у тебя не карманы, а закрома родины, – восхитился Сережка. – Кенгуру отдыхают.
– Это меняет дело, – одобрила я, доставая жестяную банку кофейного напитка отечественного производства. – Господа сторожа, пожалуйте к столу.
Накануне Нового года на пороге появилась Крис. В новеньком полушубке из золотистой норки, удивительно идущей к рыжим кудрям, румяная от мороза, вся обвешанная красивыми пакетами, как Дед Мороз или, что вернее, Снегурочка. Из пакетов извлекла музыкальную пустышку, вышитые распашонки невероятной красоты, уморительные пинетки, большого розового слона, коробку французских трюфелей. Прислонила ухо к животу, послушала, как толкается сын, радостно рассмеялась.
– Футболистом будет, стопудово!
Мы прошли на кухню. Я заварила чай. Выложила шоколадку «Аленка» – магазинный трофей супруга. Открыла трюфели.
– Ну, как ты? Рассказывай.
Мы долго не виделись. Вначале Крис сердилась на то, что я продолжаю принимать дома Вадика. Тщетно я пыталась объяснить, что, несмотря на их разрыв, он не перестал быть другом моего мужа. Но время прошло, страсти улеглись, и передо мной сидела прежняя, вполне довольная Крис.
– У меня все о’кей. Нет, пока нигде не учусь и не работаю. Наслаждаюсь жизнью. Эх, жаль, у тебя больше не покуришь, – подмигнула Крис. – Беременным и кормящим вреден табачный дым. Впрочем, я ненадолго. Попрощаться. Уезжаю в Париж на неопределенный срок. Папан расщедрился, снял для меня квартиру. Мила закатила ему пару истерик на тему «дочь совсем отбилась от рук». – Подруга рассмеялась, но не очень весело.
– Здорово, – улыбнулась я, – чем там думаешь заняться?
– Не знаю, – подергала плечами Крис, – поработаю где-нибудь. Вдруг получится? Должно же у меня хоть что-нибудь получиться…
– Брось хандрить, – сказала я, – все у тебя получится. Ты классная, умная, красивая девчонка, и сама об этом знаешь.
– Насчет первого согласна, а насчет второго… – Она задорно рассмеялась, тряхнув кудряшками, и я, наконец, увидела прежнюю жизнерадостную Крис. – Но спасибо за комплимент.
Рассеянным взглядом она обвела крохотную кухню, дешевый отечественный гарнитур из страшноватого ДСП, обтянутого пленкой под дерево. Потолок в желтоватых потеках – подарок соседки сверху, заливавшей нас с завидной регулярностью. Под потолком бельевые веревки, на которых сушились папины «семейники». Прогоревшую плиту с кособокими комфорками. Заклеенное скотчем окно, за которым завывал мусорный ветер и вовсю тарахтели, прогреваясь, машины – краса и гордость отечественного автопрома.
– Значит, теперь здесь? Надолго?
– На неопределенный срок. – Я печально усмехнулась. – Видишь, мечты о небоскребе не осуществились.
– А уехать не хотите? Сейчас многие уезжают.
– Все может быть. Если поступит хорошее предложение. Пока его нет.
– Помнится, Вадик мечтал свалить в Штаты, – язвительно промолвила Крис, и ее личико исказила презрительно-яростная усмешка. – И где он теперь?
– Пока на месте.
– Неужели? – Крис саркастически повела выщипанными бровками, покривила тонкие губы. И я поняла, что рана свежа, хоть и заросла сверху тоненькой розовой кожицей. Неосторожное прикосновение все еще причиняет саднящую боль. Отчего-то я почувствовала неловкость, будто, сама того не желая, разбередила болячку.
– Слушай. – Крис помялась, поводила пальчиком по столу, устремила на меня пытливый серый взгляд из-под мохнатых коричневых ресниц. – Если честно, сейчас ты не жалеешь, что не осталась с Артемом?
С Артемом?
Моя угорелая безбашенная юность вмиг пронеслась перед глазами. Промчалась, как в ускоренной перемотке старого забытого неинтересного фильма, из которого я выросла, как из старой юбчонки. Мне было сложно объяснить Крис или кому бы то ни было, что ночью, когда закрывалась дверь в нашу десятиметровку и мы оказывались вдвоем на тесной кровати, и Сережка обжигал поцелуями мои губы, живот, грудь, плечи, спину, колени… не было в целом мире женщины богаче меня… Никогда не любила говорить на подобные темы. Мне казалось, что слова, произнесенные вслух, теряли свою мелодичную гармонию и начинали звучать напыщенно и фальшиво, как в дешевом сериале.
Я положила руку на пытливо притихший в ожидании ответа живот, с улыбкой покачала головой и честно призналась:
– Ни о чем не жалею. Нисколько.
Не знаю, что отразилось в тот миг на моем лице, но серые глаза Крис на мгновение заволокло туманом, губы дрогнули, а потом она улыбнулась, задорно встряхнув рыжей гривой. Резко поднялась.
– Ну ладно. Мне пора. Привет Сереге.
Прощание
Дед Георгий заболел. Он лежал на диване, мутным взглядом смотрел мимо телевизора, жаловался на резь в животе. Георгий и прежде страдал болями в желудке, но списывал все на застарелую язву, а сейчас после перенесенных стрессов она разыгралась с невиданной силой. Пришедший врач пощупал живот, озабоченно покрутил головой, уточнил, сколько Георгию лет, и позвонил в скорую.
В больнице взяли анализы и вскоре сообщили страшный диагноз: рак желудка в последней стадии, неоперабельный.
– Вообще-то мы таких больных выписываем, – конфиденциально поведал завотделением.
– Сколько ему осталось? – до крови кусая губы, спросила мама.
– Месяца два, не больше.
Мама побелела, как врачебный халат, и заплакала.
– Он жалуется на сильные боли, – проговорила я. – Что-нибудь можно сделать?
– Уколы морфина. Но дело в том, что это дорогой препарат строжайшей отчетности, выписывается буквально в самые последние дни… Мы не сможем колоть его два месяца.
– Насколько дорогой? – уточнила я.
Доктор написал на листке несколько цифр.
– Это за упаковку. Если ваш дедушка протянет месяца два…
– Мы заплатим, – сквозь рыдания прошептала мама.
Когда-то, чтобы выжить, Лидия потихоньку сдавала в скупку сбереженные фамильные драгоценности. Мы с мамой отнесли в комиссионку перстень и пару серег, чтобы купить безболезненную кончину.
Деда поместили в двухместную палату. Вторая койка пустовала.
– Палата смертников, – полушутя-полусерьезно сказал дед.
Он очень ослабел и исхудал. Щеки ввалились, пожелтевшая кожа обтянула заострившиеся скулы. Мое сердце разрывалось от жалости, но я не должна была показывать эту боль, чтобы он не догадался о скором конце. Собрав силы в комок, я улыбнулась.
– Дед, ты чего говоришь? Вот поправишься, выйдешь, будешь правнука в коляске катать… Ты же обещал.
– Прости. – Он грустно улыбнулся. – Боюсь, я не сдержу обещание. А ты береги себя и маленького.
Я взяла деда за руку и ужаснулась ее холодности, но пожатие было все еще крепким.
– Не говори так, – попросила я. – Как же я без тебя? Как мы все без тебя?
– Держись, – сказал дед. – Держись, последняя из рода Соколовых. Ты справишься. У тебя мамины глаза и ее сила. Береги себя и маленького. А теперь ступай. Я устал, хочу спать.
Георгий не протянул и месяца. Незадолго до конца он попросил, чтобы его отпели в церкви.
Мама немного удивилась, потому что Георгий всегда считал себя атеистом. От сладкого запаха ладана кружилась голова, свечное пламя расплывалось перед глазами. Но слез не было. Была пустота. Какая-то старушка в темном платочке подошла ко мне и, углядев мой живот, тихо промолвила:
– Господь одну жизнь забирает, другую дает взамен. Так положено, деточка.
Сын
Наш сын родился суровым февральским утром, когда за немытым окном родильного дома начинал брезжить пасмурный зимний рассвет. Все осталось позади: изматывающая выворачивающая боль, с которой не справлялись бесплатные инъекции, искусанные в лохмотья губы, холодная каталка, пропахшее дезинфекцией одеяло, бесконечный пересчет трещин на потолке, равнодушие медсестер и участие старенькой нянечки: «Какая худенькая! Недоедаешь, что ль?» – и стакан с теплой водой в морщинистых руках, и суровая деловитая женщина-врач Ольга Алексеевна, терпеливо повторявшая:
– Давай еще тужься… Сейчас не надо. А теперь давай. Еще. Ты можешь, давай…
Крик… Тонкий, ленивый, разбуженный… Неужели это кричит мой ребенок?
– Молодец, Саня, у тебя сын, – довольно констатировала Ольга Алексеевна. – Богатырь. Гляди!
Она поднесла к моему лицу красное сморщенное большеголовое создание с кривыми ножками, дрожащими веточками-ручками, круглыми мутно-голубыми глазенками. И тут я поймала его взгляд… До той секунды туманный, он вдруг сделался ясным, осмысленным – невероятно, но я могла поклясться – существо, которое всего минуту назад увидело свет и вдохнуло воздух, перестало кричать, сфокусировалось на мне, принялось меня разглядывать с любопытством разумного создания, а потом улыбнулось прозрачно-голубыми глазами, словно благодарило за то, что я подарила ему этот несовершенный, безумный, прекрасный мир.
Палата на восьмерых. Гвоздички на тумбочках около кроватей. Раковина в углу. Удобства на этаже в конце длинного коридора-кишки. Из треснутого оконного стекла в туалете сифонило февральской стужей. Бесплатный таксофон на стене возле лестницы – единственная связь с миром в домобильную эпоху.
Когда пришла в себя, огляделась. Шесть пар женских глаз взирали на меня с вялым любопытством.
– Меня Маша звать. А тебя? – спросила круглолицая веснушчатая девушка с кровати возле окна.
– Саня… – прошептала я.
– А че так тихо?
Я постучала себя по горлу, давая понять, что голос куда-то подевался.
– Бывает, – откликнулась моя соседка, яркая брюнетка лет тридцати пяти в шелковом малиновом халате с экзотическими цветами на рукавах. – Это от напряжения. Я, когда первого рожала, тоже двое суток без голоса была. Потом восстановится. Я – Жанна. У тебя кто?
– Мальчик.
– А у меня девочка. У всех в нашей палате девчонки. Только у тебя парень.
Она пошарила на тумбочке и надела очки, чтобы рассмотреть меня повнимательнее:
– Лет-то тебе сколько, Саня?
– Двадцать.
– Ну? – изумленно вскинула брови. – Я думала, ты еще школьница. А не врешь?
Уже потом, посмотревшись в зеркало, я поняла причину Жанниного удивления. На меня смотрела синеватая девчушка-заморыш с глазами-блюдцами на пол-лица. Я всегда была тощей, но после родов побила собственные рекорды: сорок пять кило при росте сто шестьдесят пять. Дородная докторша, загнавшая меня на весы, спросила сочувственно:
– Недоедаешь, что ль?
– Просто у меня конституция такая, – пояснила я.
– «Конституция»… – передразнила докторша. – А ребенка кормить как будешь? Уйдет молоко! Домой позвони, скажи, чтобы еды тебе принесли нормальной, мяса побольше, фруктов, минералки. Мы всех предупреждаем. Кормят нынче паршиво, не как в прежние времена. Финансирования нет, вот и варят бурду на воде. От такой кормежки ноги протянешь.
– Ладно, – согласилась я, мысленно отправляя сердобольную докторшу на три буквы. На какие шиши мне купят фрукты в феврале? Как-нибудь перебьюсь.
Превозмогая ватную слабость, добрела до телефона, прислонилась к стене, крашенной в зловещий сине-зеленый цвет, набрала номер. Трубку взял Сережка.
– Санька! – Его голос звенел восторгом. – Ты у меня умница, любимая моя! Я уже знаю, в справочную звонил. Вечером приеду. Что тебе привезти? Что ты хочешь?
Я замялась, вспомнив наказ полной докторши о фруктах и минералке. На самом деле есть не хотелось. Хотелось лечь, накрыться одеялом до макушки, чтобы не видеть и не слышать ни врачей, ни соседок по палате, а спать, спать… Чтобы проснуться уже дома, в своей квартирке с собственным теплым туалетом и пусть обшарпанной, но бесконечно родной ванной, на кровати, хоть скрипучей, но не казенной, под любимым пуховым одеялом, согревающим в любую непогоду…
– Не волнуйся, здесь нормально кормят, – сказала я.
– Как сын?
– Пока не приносили. Думаю, все хорошо. Иначе бы сказали. – Я зябко переминалась с ноги на ногу. По лестнице гулял ветер. – Пойду, а то здесь холодно стоять.
– Конечно, – озаботился Сережка. – Не простудись. Я люблю тебя.
– Я тоже тебя люблю… Я хочу домой.
– Скоро, – утешил Сережка. – Скоро ты будешь дома. Мы все приедем за вами.
В обед я поняла, что докторша нисколько не преувеличивала. Жидкий бульон из куриных костей с ошметками склизкой кожи. На второе тушеная капуста, в которой с трудом отыскивались говяжьи жилы. Компот удавленного цвета и непонятного состава.
– Я здесь старшего сына семь лет назад рожала, – сказала Жанна, подсаживаясь за мой столик. – Так раньше щи мясные варили, прямо-таки домашние. На второе котлеты делали – объедение. Помню, девчонка детдомовская родила. Такая была тощая, ребра выпирали. Так она специально температуру себе набивала, чтобы подольше здесь побыть, наесться вдоволь. А сейчас… – Она брезгливо поморщилась. – А что делать? Кушать-то надо. Вечером мужики придут, нормальной еды притащат. Ты ведь замужем? – озаботилась вдруг.
Я кивнула.
– А то я болтаю, а вдруг тебе неприятно… – улыбнулась соседка. – У меня дочка вторая, а муж третий, дай бог, не последний… – И рассмеялась журчащим кокетливым смехом.
– Эй, девки, че расселись, детей несут! – крикнула из дверей нянечка.
И, словно по команде, коридор огласился дружным ревом.
Юная сестричка, совсем девочка, везла длинную каталку, на которой в ряд лежали кулечки с высунутыми сморщенными, возмущенно кривящимися мордашками. Останавливаясь возле палаты, девочка-сестричка с необычайной ловкостью подхватывала по два кулька на каждую руку и разносила по кроватям.
– Ой, как она их! – испугалась я. – Не уронила бы…
– Где бродите, мамаши? – неожиданным баском выдала сестричка. – Кормить пора! Через полчаса заберу!
Мой сын был уже не красного, а нормального естественного цвета. Он мирно посапывал, сомкнув ресницы, удивительно длинные и изогнутые, как у Сережки, вскинув кулачки, перехваченные на запястьях клеенчатыми бирочками, на которых значились фамилия, рост и вес. Я разглядывала маленькое существо с одной и другой стороны и чувствовала скорее любопытство и робость, нежели безоглядную материнскую любовь. Если бы он открыл свои голубые глазки и снова посмотрел сияющим осмысленным взглядом, быть может, я снова ощутила бы знакомый внутренний трепет. Но ребенок крепко спал и не желал пробуждаться, даже чтобы поесть. Я потрогала занывшую от прихлынувшего молока тяжелую грудь. Со всех кроватей доносилось чмоканье и умиротворенное гульканье мамаш.
– Буди, – перехватив мой взгляд, сказала Жанна. – Пусть ест. А то потом молоко сцеживать придется, замучаешься.
– Как будить? – недоумевала я.
– За щечки потормоши. За носик.
Я послушно потрепала теплые бархатистые щечки и крошечный, как кнопка, нос. И даже пощекотала ниточкой от халата. Малыш чихнул, приоткрыл один глаз, совсем как Сережка, недовольно скуксился, ткнулся носом в предложенную грудь, секунду подумал, словно оценивал вкус и качество предложенного питания, а потом снова закрыл глаза и засопел.
– Не хочет, – озадачилась я.
– Соня, – рассмеялась Жанна. – Настоящий мужик.
– Эй, малявка, а ну, ешь давай! – возмутилась я, легонько встряхнула кулек, подула в личико.
Малявка от подобного неуважения пробудился, скривился и, похоже, приготовился зареветь.
– Даже не думай, – предупредила я. – Я – мама строгая. Церемониться не стану. Быстро ешь, что дают, а то останешься голодным.
По палате пролетел смех.
– Сразу видно молодую, кто ж так с дитем разговаривает? – добродушно заметила армянка Карина, родившая третью дочку. – Лаской надо, уговорами… Кисонька моя, ласточка… – загулькала она с малышкой.
И тут мой вредный сын передумал реветь, открыл рот и с силой, которую трудно предположить в столь крохотном безобидном создании, цапнул за сосок, присосался пиявкой.
Я вздрогнула от неожиданности. Сидела замерев, смотрела на крошечную мордашку, нахмуренные бровки в три волоска, мягкие оттопыренные ушки, забавный пушок на затылке – живая игрушка, да и только. И чувствовала, как во мне пробуждается новое, прежде неизведанное чувство – смесь острой нежности, жалости и страха за это беспомощное создание, полностью зависимое от меня, которое я пока не успела полюбить по-настоящему, безоглядно, безудержно, но знала, что это случится.
В час посещения вошла нянечка с букетом карминно-красных роз, вкатила тележку с подписанными полиэтиленовыми пакетами.
– Передачки, как в тюрьме, – пошутила Маша. – А цветы роскошные кому?
– Ковалевской, – прочла записку нянечка. – И еще сумка.
Я схватила букет. Стебли кололи пальцы, но это была сладкая боль. Я зарылась лицом в нежные мохнатые цветочные головки, жадно вдыхая терпкий аромат знойного лета, сладостных ночей, пьянящей страсти и любви, перебивший муторные больничные запахи… Я подбежала к окну и с высоты третьего этажа увидела Сережку в центре огромного, вытоптанного на снегу сердца. Он подпрыгивал, размахивал руками, посылал воздушные поцелуи, кричал: «Санька! Я тебя люблю!» Рядом стояли мама и папа и тоже махали руками и смеялись. И только тут я почувствовала прилив бесконечного будоражащего счастья. Истинного счастья, которое не купишь ни за какие сокровища мира…
– Сейчас банку принесу, – сказала нянечка.
– Сразу видно – сын, – с легкой завистью в голосе произнесла Карина. – Мне мой Армен три гвоздички принес… Мальчика хотел, а родилась третья дочка…
– Четвертым будет сын, – обнадежила Жанна.
– Куда столько? – огорчилась Карина. – Четверо – сильно много, в двухкомнатной квартире… И времена такие – не прокормишь. – И, поцокав, закачала головой.
В переданной сумке вместе с запиской от мужа обнаружились громадные медовые груши, сладкие яблоки, минеральная вода, сок, бутерброды с любимым российским сыром, сырокопченой колбасой, импортное печенье, курага, чернослив, новое заморское чудо – йогурты… Я перебирала дорогущие продукты и лихорадочно соображала, сколько все это великолепие может стоить…
Будто просканировав мои мысли, Жанна спросила:
– А почем такие груши? Дорогие, наверное?
– Даже не знаю… – Я надкусила одну. Брызнул нектар. Перечитывала записку, полную любви, радости и нежности, смотрела в темный прямоугольник окна, облизывала сладкий, как поцелуй любимого, грушевый сок с потресканных губ и понимала, что сейчас мне не хочется этого знать. Ничего не хочется знать, кроме пламенеющих роз, огромного сердца на снегу, крохотного существа, прильнувшего к груди… Пусть все заботы останутся на потом. А завтра будет завтра…
Я перешагнула порог нашей десятиметровки и ахнула. За пять дней моего отсутствия комната преобразилась. На месте старого бабушкиного комода, давно просившегося на свалку, стояла детская кроватка, обвешанная погремушками. Стену возле кроватки обклеили нарядными обоями в разноцветных вертолетиках. Между нашей и детской кроватями уместилась новенькая тумбочка, на ней стоял ночной светильник в виде кораблика. На окне вместо прежних линялых бордовых тряпок висели новые гобеленовые шторы. В комнате пахло снеговой свежестью, какая бывает после генеральной уборки. Даже мой обычно заваленный книжками и бумагами письменный стол был аккуратно разобран.
– Нравятся шторы? – спросила мама. – Мы решили, что через плотный гобелен будет меньше дуть из окна.
Мне все очень понравилось.
Мы осторожно распеленали кулек с сыном, ребенок сперва басовито заревел, но, ощутив прелесть свободы, тотчас успокоился, деловито засучил ручками и ножками.
– Какой смешной! – умилился Сережка, легонько пощекотав малыша по животику.
И тут я увидела Сережкины руки – распухшие, покрытые обветренной красной коркой, в мозолях и волдырях, готовых вот-вот прорваться воспаленной сукровицей…
– Боже мой, что это?!
Сережка смущенно улыбнулся, спрятал руки в карманы.
– Вагоны разгружал.
– Какие вагоны?!
– Товарные. На Сортировочной. Неплохо заплатили, знаешь ли…
И тут я поняла истинный вкус и запах карминно-красных роз и медовых фруктов.
Я целовала его стертые ладони и распухшие пальцы, из моих глаз катились слезы, а Сережка шептал:
– Ну что ты… не надо… успокойся… все это пустяки. У нас же такая радость – сын родился!
Ванечка
Очень скоро я вкусила эту радость по полной.
Первое время Иван, как мы назвали сына, должен был питаться каждые четыре часа, делая большой перерыв только на ночь. Ел Иван подолгу, придремывая за трапезой, но стоило отправить его в кровать, тотчас раздавался негодующий рев. У меня стали рождаться нехорошие желания по отношению к сыну, в которых я, устыдившись, раскаивалась до очередного детского выкрутаса. Районный педиатр Анна Игоревна, бойкая щупленькая тетенька за пятьдесят, разъяснила, что у меня мало молока даже для такой крохи, и посоветовала прикармливать. Всучила импортные витамины, предназначавшиеся для гуманитарной помощи малообеспеченным родителям, велела зайти за молочной смесью. Я пыталась возразить, что средств у нас достаточно: было стыдно и неловко получать подачки. Но Анна Игоревна оставила витамины на столе и сказала, что за бесплатной гуманитаркой приезжают дамочки в шубках и на «мерседесах», потому что новые русские обожают халяву. Поэтому, если я не возьму смеси, их с удовольствием заберут другие, побогаче. Этот довод возымел действие: я решила, что дамочки на «мерседесах» обойдутся.
Дни для меня слились в одно непрерывное кормление-пеленание-стирку. На кухне булькали, греясь, бутылочки. К счастью, в еде Иван оказался неприхотлив, предпочитал гуманитарные смеси дорогому финскому «Симилаку», презентованному Крис. На модную удобную новинку под названием памперсы денег не хватало. Следуя общеизвестному закону подлости, наша старенькая стиральная машинка приказала долго жить. Чертыхаясь, мы выволокли бесполезный агрегат на помойку.
– Зато места прибавилось, – вяло пошутил Сережка. – Хоть пляши.
Закон подлости работает безотказно. Если что-то выходит из строя, немедленно следует цепная реакция. Задурила духовка в кухонной плите, заискрила розетка, на потолке в ванной лопнула побелка, и рваная рана загноилась омерзительной черной плесенью недотравленного в ремонт грибка.
– Говорила я, что надо до самого бетонного перекрытия зачищать, – пеняла папе мама, – а ты: «Так сойдет…» Все старания коту под хвост.
Папа шумно вздыхал, чувствуя вину.
Мы с Сережкой безуспешно пытались откладывать деньги на покупку новой стиралки, но постоянно находились более необходимые траты – массажи для Ванечки, теплый комбинезон, детские каши и овощные смеси… Про маникюр пришлось забыть. Стирала я в большом тазу, установленном в облезлую лоханку-ванну, наклонившись над ней враскорячку. Моя непристойная поза вызывала у Сережки бурный восторг. Он не мог пройти мимо, чтобы не шлепнуть меня по мягкому месту, за что в ответ получал мокрой пеленкой. Посреди гостиной на подложенных газетах красовалась Ванькина коляска. В полуметровый коридор, кроме тумбочки для обуви и веника, влезло бы разве что коляскино колесо, ну, может, два. Балкона у нас не было – первым этажам не положено. А из незапертого подъезда тащили все, что плохо лежало, даже старые соседские лыжи, неосмотрительно выставленные за дверь.
Всякий раз, возвращаясь с прогулки, я мыла колеса и втаскивала коляску в комнату.
– Ничего, скоро на прогулочную перейдем, – ободряюще говорил Сережка. – А она складывается. Приткнем в коридоре.
В НИИ Сергей взял отпуск, чтобы помочь с ребенком, и отлучался только на подработки. Еще в роддоме я наслушалась сетований бывалых мамашек, мол, мужики терпеть не могут возиться с младенцами, в этом деле от них никакого толку, вот когда дите вымахает, тогда на футбол вместе пойдут, а вначале все заботы свалятся на хрупкие женские плечи, хорошо, если пропылесосит или за продуктами сбегает… И уже внутренне приготовилась проводить воспитательную работу на тему «ребенок общий, обязанности поровну», но, к немалому моему и маминому удивлению, это не потребовалась. Сережка возился с сыном с удовольствием, которое мне было трудно предположить не только в мужчине. Я сама не понимала, как можно по полчаса агукать с бестолковым кусочком плоти, еще не координирующим собственных движений, щекотать розовые пяточки и голое пузико и умиляться, когда крошечные, но цепкие пальчики хватаются за твой нос. Меня эта возня утомляла, а Сережку радовала. Иногда мне казалось, что родительский инстинкт по непонятной ошибке природы пробудился в нем скорее, чем во мне.
Ночью, когда мелюзга крепко засыпала, я усаживалась за конспекты и учебники. Это была моя точка опоры, не позволявшаяся окончательно и бесповоротно погрузиться в отупляющий нищенский быт. Я оформила экстернат, дававший право не посещать основные лекции и появляться только на семинары и контрольные. Всей семьей мы составили график моего посещения альма-матер. Папа работал сутки через трое, мама – до обеда, Сережка два раза в неделю плюс через день ночные дежурства в магазине. Их свободное время было моим учебным. Иногда в роли няни выступала старушка-соседка баба Катя, крепко подсевшая на бразильские сериалы. Телевизор у бабы Кати был черно-белый, и страдания рабыни Изауры на нем смотрелись не столь эффектно, как на ярком экране нашего «Самсунга». Едва доносились бразильские напевы, баба Катя вырастала на пороге, я спешно мыла голову, просушивалась феном, замазывала бессонные круги под глазами остатками некогда дефицитного ланкомовского консилера, облачалась в вытертые джинсы, модную рубаху собственного производства, натягивала дубленку, напяливала смешную ручной вязки шапочку с помпоном, сторгованную на местном рынке у рукодельной бабульки, и неслась к метро, с наслаждением вдыхая воздух свободы.
Студенческие ряды заметно поредели. Многие были вынуждены подрабатывать, кто-то вовсе оставил учебу.
Вопреки прогнозам мой мозг не притупился бессонными ночами, детскими хлопотами и борьбой с наступающей на горло инфляцией. У меня словно открылось второе дыхание. Никогда я не воспринимала новые знания с такой жадностью. Мой изголодавшийся по интеллектуальной пище мозг поглощал информацию с удвоенной энергией и выдавал неожиданно высокие результаты. В отличие от незамужних однокурсниц я больше не засоряла голову лав-стори. Просто переключала канал с домашнего на учебный. Добрая душа, тихая отличница Валюша, предложила писать мне лекции под копирку, что дорогого стоило в доксероксный век. Я не участвовала в обсуждениях чужих свиданий и нарядов, а спешила в библиотеку, чтобы в спокойной обстановке дописать реферат или курсовую. На вопросы сокурсниц о семье, быте и толщине кошелька ограничивалась кратким: «Все отлично». Местные модницы, дочки коммерсантов и подружки нуворишей, не так давно завидовавшие моим шмоткам и успехам у противоположного пола, ехидно шушукались за спиной, но мне было наплевать. Я не распространялась о своих делах, не расспрашивала о чужих, и местные сплетницы скоро оставили меня в покое, отметив лишь, что роды не испортили фигуры. После занятий девчонки сбивались в стайки и шли в местную кафешку, в кино, погулять или друг к дружке в гости. Я же, уставшая и опустошенная, торопилась домой, к кашкам и погремушкам. На автопилоте, без мыслей, без эмоций, без впечатлений.
В тот вечер в метро было немноголюдно. Я села в уголок, прикрыла глаза и провалилась в тяжелую дремоту. Очнулась оттого, что девушка-обходчица потрясла меня за плечо:
– Конечная.
Я продрала глаза, подхватила сумку и выскочила из поезда, радуясь, что на этой ветке конечная «Третьяковская», а не какая-нибудь «Домодедовская» или «Пражская», откуда мне пришлось бы выбираться целый час. Все еще во власти полудремы вышла в серый вестибюль, машинально прошлепала по лестнице вверх и, только когда лязгнули турникеты, а в лицо дохнуло промозглой мартовской сыростью, очнулась от спячки и поняла, что вместо перехода на параллельную станцию выскочила в город.
Мне ничего не стоило войти обратно – студенческий проездной позволял головотяпские вылазки. Но я не спешила. Вспомнилось, как мы с Зайкой и Крис вот так же доезжали до конечной и гуляли по улицам, легко, весело, непринужденно, разглядывали витрины, лопали мороженое, цепляли заинтересованные мужские взгляды. И нам казалось, что весь мир, только помани, окажется у наших длинных ножек… Я скучала по ним, моим беспечным подружкам, оставшимся в другой жизни. Мне не хватало прежней озорной легкости, происходящей от безрассудной уверенности в светлейшестве завтрашнего дня. Я пошла навстречу дежавю, подобно путнику, заскочившему проездом в уютный городок детства… Чтобы его не узнать.
Улицы, дома, тротуары остались прежними. Изменились звуки, запахи, цвета… Где-то играл шансон. Приблатненный голос с хрипотцой напевал тюремную лирику. Призывно улыбались рекламные девицы с позолоченных щитов. Снисходительно взирали из-за витринных стекол одетые по последнему писку моды манекены. Напротив входа затормозила серебристая иномарка. Из нее выпорхнула девушка в коротенькой летящей шубке и сапожках на невероятных шпильках и скрылась за дверьми бутика. Мне ужасно хотелось войти следом, потрогать прохладный струящийся шелк роскошного платья, ощутить на себе его неземную красоту… Но я стояла на месте. Слишком велика была пропасть между роскошной шубкой и моей заношенной, заляпанной по подолу месивом дождя и грязного снега дубленкой, между «вчера» и «сегодня». Я чувствовала эту разницу в презрительных взглядах юных продавщиц в стильных униформах, в издевательских блатных аккордах, льющихся из радиоэфира, в тощем кошельке и зеркальном отражении, навевавшем смутные черты с очень старой фотографии… Неужели это вечное проклятие рода Соколовых – борьба за выживание, за место под скудным северным солнцем? Я брела вдоль сияющих неоном, дразнящих товарами витрин, чавкая дырявым сапогом, голодная, усталая, продрогшая, и не понимала: какого черта я здесь делаю? Ищу вчерашний снег? Из кофейни потянуло густым горьковатым ароматом свежесваренного кофе – настоящего, с шоколадным вкусом, не тех жидких помоев из жестяной банки, которые я заливала в себя несколько раз в день, чтобы не заснуть… Я стояла, жадно втягивая в себя аромат, чтобы насладиться, насытиться, напиться на неделю вперед… Ледяная сырость закралась в правый сапог. Я опустила глаза и увидела, что подошва отклеилась от верха и разевала кривой рот, с ухмылкой прося каши. Дерьмо! Хорошо, что уже март – можно перейти на легкие ботинки.
Дашка
Дашка все-таки поступила в Строгановку на двухлетнее ремесленное отделение – нечто вроде техникума, при хорошем окончании которого можно было получить право на дальнейшее обучение в институте. Работу в магазинчике ЦДХ Дашка не бросила, осталась на полставки. Место ей нравилось. Она взахлеб рассказывала про новую компанию – местных художников, с которыми тусила в свободное время.
По мне художники – столкнулась однажды – были самыми обыкновенными ребятами, их компания мало чем отличалась от любой другой: после трудового дня не дураки выпить и закусить. Периодически между ними возникали разборки: у кого выгоднее место, денежнее клиенты… Я не сильно разбиралась в живописи, но, разглядывая однотипные зарисовки старых московских двориков, думала, что гении среди них вряд ли водились, скорее добросовестные ремесленники, четко улавливающие конъюнктуру рынка. Но Дашке они казались небожителями, она то и дело взахлеб рассказывала о создании очередного шедевра, достойного Лувра или Третьяковки, и я не спорила.
В последнее время Дашка переменилась: купила новые очки в элегантной тонкой оправе, сделала модную стрижку, купила юбку выше колен, обзавелась другом по имени Даниил и переселилась к нему. Когда Дашка рассказывала о бойфренде, ее глаза сияли. Даниилу, или Дане, было за тридцать, естественно, он был художником, несомненно, гениальным. И разведенным, поскольку первая жена, весьма приземленная особа, не ценила супруга и постоянно попрекала тем, что не зарабатывает деньги для семьи, в то время как Даня находился в творческом поиске. От первого брака у Даниила росла дочка Соня, которую он не стремился видеть, потому что девочка оказалась копией стервы мамаши.
Я спросила, как отнеслась к Дашкиному избраннику Зоя Николаевна.
Дашкино сияние слегка померкло, спряталось за набежавшим облачком.
– Мама против. Даня ей не нравится. Но я уже не ребенок, сама принимаю решения.
Я немного удивилась, потому что запомнила Дашку робкой и нерешительной маменькиной дочкой, за своими делами и заботами как-то упустила из виду, что моя маленькая подружка тоже выросла и изменилась.
– Помнишь, я рассказывала тебе, как погиб мой отец? Ну, что спас ребенка, а сам утонул? – Дашка горько усмехнулась. – Это все неправда. Никого он не спасал. Просто напился в компании, нырнул и… не вынырнул. Мама недавно рассказала. Я думала, он – герой, а все оказалось совсем не так…
Я озадаченно захлопала глазами, не зная, что сказать. Я и сама не так давно открыла собственную семейную тайну и теперь могла удивляться лишь количеству скелетов, запрятанных по шкафам простых российских женщин, рядом с жизненными перипетиями которых отдыхают все мыльные оперы разом.
– Даш, а какая разница? Герой он или нет? Он был твоим папой и любил тебя, это главное. А все остальное не имеет значения.
– Ты права, – Дашка слабо улыбнулась, – я говорю себе то же самое. Я спросила маму, почему она рассказала мне это именно теперь… И знаешь, что ответила? «Больше не хочу, чтобы ты видела идеал там, где его нет и никогда не было».
Дашка вопросительно взглянула на меня, но я только пожала плечами. Я тоже не знала ответа на многие вопросы.
Алка
Однажды папа сообщил, что довольный его работой хозяин проявил неслыханную щедрость и предложил выбрать что-нибудь из детских вещичек в подарок. Папа сказал, что плохо разбирается в потребностях внука, спросил, нельзя ли приехать дочери. Хозяин милостиво согласился. Субботним утром я впервые очутилась на месте новой папиной службы. Склад представлял собой огромный неотапливаемый ангар – промозглый каменный мешок с наспех сколоченными деревянными стеллажами, на которых были навалены тюки с тряпьем – дешевым польско-китайским, аляповатым, с кривыми строчками и торчащими нитками, чуть получше и подороже – турецким.
Днем склад не пустел ни на минуту. Потные измочаленные тетки, замызганные мужички, тщедушные пацаны бегло осматривали товар, закидывали на массивные железные телеги и везли к кассе. А потом, вяло матерясь, волокли скарб кто в метро, кто в поржавевшие «четверки», кто в затянутые брезентом «газели» и оттуда – по складам и рынкам на продажу.
Папа в пятнистой коричнево-зеленой камуфлированной форме бродил вдоль полок и следил, чтобы товар не разворовали и не попортили. Увидев меня, печально улыбнулся в усы, развел руками, мол, вот чем приходится заниматься российскому инженеру, пригласил в сторожку – крошечное помещение с маленькой кушеткой, масляным обогревателем в углу, электроплиткой с чайником на хромоногой тумбе и столом, укрытым клетчатой клеенкой, кое-где прожженной и порезанной.
Я представила, как мой большой папа спит на узкой кушетке, свернувшись калачиком, под кургузым одеялом, и мое сердце в очередной раз сжалось от чудовищной несправедливости происшедшего с нами.
– Чай будешь? – Папа вытащил из тумбочки кружку, сахар и несколько карамелек.
Я пила и грела застывшие руки о кружку.
– Скоро лето, будет тепло, – оптимистично заметил папа. – А в жару здесь вообще хорошо, прохладно.
Папа всегда был оптимистом.
Мы прошли вдоль рядов с товаром, нашли более-менее приличные детские костюмчики, свитерочки и шапочки, я отобрала по одной вещице, чтобы не наглеть. А когда Ванька перерастет – продам. Наклею объявления у молочной кухни – многие так поступают. Неожиданно ощутила сильный толчок в спину, мотнула руками, чтобы удержать равновесие, сердито обернулась, вознамерившись сказать растяпе все, что думаю. Полная русоволосая девица в грязно-розовой куртке тащила с полки огромный тюк, которым меня зацепила. Тюк был в два раза больше девицы, она волокла его с большим трудом, пыхтя, как паровоз.
– Поосторожнее, – буркнула я.
– Пардон, – без эмоций отозвалась девица, притормозив, перевела дух, отерла ладонью пот со лба, откинула непослушный завиток. Ее лицо показалось мне удивительно знакомым, но подзабытым, полустертым, неуловимым – лицом из далекого прошлого. Видимо, у нее возникли те же ощущения, потому что она застыла в замешательстве, вглядываясь в меня, как в старую фотографию, а потом, просияв, воскликнула:
– Фига се! Санька, ты?
– Я… – промямлила я озадаченно, так и не припомнив, кто передо мной. У меня всегда была превосходная память на тексты и никакая – на лица.
– Я – Алла. – Она широко улыбнулась, продемонстрировав отсутствие одного зуба. – Хорлова. Мы в началке вместе учились!
– Алка! – радостно взвизгнула я, разом вспомнив хулиганистую подружку. – Сколько лет, сколько зим!
– Боже мой! – растроганно проговорила Алка и крепко меня обняла, обдав запахом кислого пота, перебивавшего нестойкий рыночный парфюм. – Надо же, где встретились! Тоже торгуешь?
Я покачала головой.
– Приехала к папе. Он здесь охранником работает.
– Позвольте, помогу, – сказал папа, поднял Алкину ношу как перышко, положил к себе на плечо. – Куда нести?
– Там машина, – восхищенно распахнув глаза и рот, ткнула пальцем в сторону выхода Алка.
На улице ее ожидал изрядно заржавленный «сарай» с разбитой задней правой фарой.
– Грузите, – скомандовала Алка, отворив багажник, – огромное вам спасибо.
– Что ж вы, девушка, такие тяжести носите? – отечески пожурил Алку папа. – Где ваши мужчины?
– Ха, – негодующе фыркнула Алка, – мужчины… где их взять, нормальных-то?
Она достала пачку «Примы», предложила нам. Папа отказался, я тоже. Алка задымила. Папа сказал, что не станет нам мешать, к тому же он на службе, попрощался и пошел на склад.
– Как живешь-то? – спросила Алка. – Чем занимаешься?