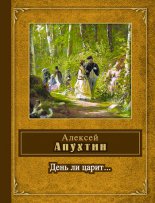Журавлик по небу летит Кисельгоф Ирина
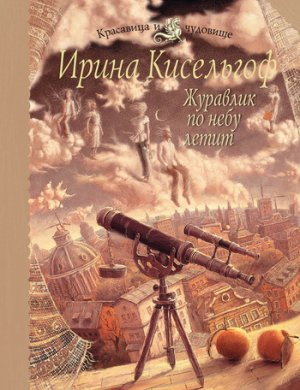
– Родаки могут оказаться быстрее, – прагматично сказал я. – Пошли?
– Так ты?..
– Угу, – развязно ответил я.
А что? Сейчас все знают, как это делается. Спасибо телекультпросвету. Просветили. Зачем говорить Таньке, что дальше зажиманий дело не идет?
Пока мы шли, Танька говорила, я отвечал бессвязно и односложно. Опять испугался. Так испугался, что коленки затряслись. Вдруг не смогу? Школа меня обхохочет. Ясен пень. Сарычева меня не сдала, я ее тоже. Оба боимся одного – падения с пьедестала. Да… Раньше правильные отцы водили сыновей в публичный дом уму-разуму учить. А сейчас? Телекульттеория и СПИД. Я представил, как батяня ведет меня в публичный дом, взяв под белы рученьки. Да уж! Скорее я его туда отведу. Хорошо, что вспомнил о СПИДе, надо презик не забыть. Черт! Вспомнил – и опять испугался. Вдруг не смогу?
Я быстро глянул на Таньку. Точно не смогу. Страшилище еще то. Если бы не бесплатный тренинг, я бы близко не подошел.
– Что? – кокетливо захихикала Танька, в меня воткнулись черные стрелки ее век.
Я перетрусил до холодного пота. Вдруг прочитает мои мысли? Позорище!
– Я от тебя тащусь, – писклявым голосом ответил я.
Прям Фаринелли-кастрат! Елки-палки! Да за что мне это?
– Не волнуйся. – Она наклонилась ко мне. – Все будет о’кей.
Я увидел ее губы близко-близко, и меня хватил тепловой удар.
Я пребывал в тепловом ударе, пока целовался с Танькой в своем подъезде. И вдруг услышал шаги совсем рядом. Сверху. Я не успел испугаться, а мое тело отнесло от Таньки на метр.
– Что? – захихикала она.
– Родаки, – еле выговорил я.
– Боишься? – сощурилась она. У нее был такой ехидный голос, что я срочно пришел в себя.
– Берегу, – небрежно ответил я. – Они староверы.
– Сектанты! – Танька выпучила свои крошечные глазки.
– Не-а. Идеалисты. Верят в порядочных девушек.
– Потянуло постебаться? – процедила она, сощурив черные стрелки глаз.
– Вроде того, – усмехнулся я.
– Не пожалей, чувачок!
– Уже.
– Ну, я пойду! – Она сплюнула. – Детка!
– Иди, – вежливо сказал я.
Она дернула дверь, я бросил ей в спину:
– И помни, мы еще не закончили!
– Пошел вон!
– Уже! – захохотал я. Как последний придурок!
Она ушла, я остался среди обломков малины. Фигурально выражаясь. Сам обломал с перепугу. Что теперь? Она будет трепаться? Будет. Я даже не взял Танькин телефон, чтобы что-нибудь наврать. Да… И пришел тебе, Мишечка, полный трындец.
Я потащился домой, униженный и оскорбленный самим собой. В настроении ниже плинтуса. В таком настроении меня и застукала мама.
– Что с тобой? – Она кинулась ко мне, как МЧС.
– Ничего, – мрачно ответил я. – Я могу побыть один?
– Почему один? – дрожащим голосом спросила она. – Я тебе мешаю?
– Да! – заорал я.
Мама уселась в кресло у моего стола и начала молчать. Так молчит МЧС, если помощь уже не требуется. Пациент умер, почтите память молчанием. Надо сбавить обороты, иначе провал обеспечен. Осподи, кто снимет с меня оковы?
– Что? – процедил я.
– Проблемы с Машей? – Она даже вперед подалась.
– Маша – яойщица[4]. – Я решил отвязаться попроще, получилось как всегда.
– Кто? – У мамы глаза полезли на лоб.
– Тебе лучше не знать.
– Не знать? Почему? Это болезнь? – Ее голос снова задрожал.
– Приблизительно! – захохотал я.
Ой! Умора! Нет. Предки – это лекарство. Самое лучшее в мире лекарство. Поговорил, умер от смеха – и родился заново.
– Перестань ржать и скажи правду! – взбесилась мама.
– Правда в том, что Маша подсела на Интернет, ей нормальные, здоровые парни не нужны.
– Зачем она к тебе приходила? – не верила мама.
– Чтобы лечиться. – Я картинно развел руками. – Но я не помог. Болезнь у Маши слишком запущена.
– Значит, у вас с Машей ничего нет?
– Клянусь! – Я поднял два пальца вверх. – Чтоб я сдох.
– Так нет или да? – вязко переспросила мама.
– Нет! – торжественно ответил я и прочитал «слава богу» на мамином лице.
Она ушла окрыленной, я остался удовлетворенным. Хоть предкам будет хорошо сегодня спаться.
Тупо любить своих ровесниц. Они все не догоняют. В нашей школе девчонки подсели на яой. Сутками сидят в Сети. Осподи! Куда мир катится? Что делать нам, нормальным парням? Кто-нибудь скажет?
Пойти, что ли, к Лизке?.. Да ну! Лизка оказалась не той, за кого себя выдает. Учится еще и дома. Она подтягивает Лизку по математике вместо того, чтобы жить в свое удовольствие. Лизка желает пойти по Ее стопам. «Мне надо сдать ЕГЭ на отлично». Малолетнее мудрило! ЕГЭ за ней придет лет через сто!
– Знаешь, что такое математика? – Лизка самодовольно надулась, я чуть не умер от смеха – малявка на понтах! – Это учение об отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме их некоторых свойств.
– И че? – скучно спросил я.
– А то, что математика – наука о человеке! – Она выкатила свои глазенапы как блюдца. – Мама говорит, что лучше об отношениях людей и не скажешь. Мама знает! Математика – ее хлеб.
– А, – протянул я и сник.
Я был пигмеем, а Она изучала облака и кормила Лизку математикой вместо хлеба. Потому у Лизки были такие толстые щеки. За одной щекой – икс, за другой – игрек.
К Лизке я не пошел, у нее на сегодня другая диета – оцифрованный хлеб. Я был третьим лишним. Точнее, четвертым, если считать науку о человеке.
На ночь глядя позвонил Сашка, его распирала любознательность.
– И че? – тупо спросил он.
– Сделай обрезание носа, Барби! – обозлился я.
– Че? – оскорбился Сашка.
– Ниче! Возьми совок, поиграй в песочнице!
– Пошел на…!
Я надел наушники и врубил альбом Селины Плейс «Lost in Space». Мне надо было залечить разодранные нервы. На третьей композиции я оторвался от Земли и затерялся в космосе, полном Ее галактических глаз. И меня потянуло к телескопу в компании с Селиной Плейс. На моей аэродинамической улице выл ветер, было холодно и темно. И я один внутри черного неба, запорошенного звездной пылью. Мне в глаз упали синие-синие звезды с ярко-голубым светящимся шлейфом, похожим на водопад из мириад люминесцирующих бабочек, танцующих волков и говорящих деревьев. Я шагнул вправо и провалился в черную дыру. Она была в форме кулака с поднятым вверх большим пальцем, а вокруг большого пальца сияли всеми цветами радуги копи царя Соломона. Да… Это было нечто!
Мила
Меня вызвали в школу. Мое великовозрастное чадо состряпало взрывпакет из карбида и подорвало его на уроке физики. Воняло карбидом, урок был сорван, ученики в восторге, физик, завуч и директор в бешенстве.
– Сегодня карбид в школе, завтра тротил в автобусе! Вы думаете заняться его воспитанием или вам все равно, по какой дорожке он пойдет? – Стальные глазки завуча вырезали на мне клеймо изгоя.
– Думаю, – мрачно ответила я.
– Надо не думать, а действовать, – рекомендовала завуч, по совместительству классный руководитель моего сына.
– Как? – спросила я.
Мне посоветовали поменять его свободное время на музыку, пение, спорт, моделирование, рукоделие и прочая и прочая. Причем прочая-прочая лучше во всеобъемлющей совокупности.
– Он увлечен астрономией, – ответила я. – Мы купили ему телескоп «АстроМастер» девяносто эй-зет. Все свободное время он проводит на балконе.
– Не все, – отрезала завуч. – У него полно времени на то, чтобы залезть в электрощит и обернуть пробки мокрой салфеткой.
– Зачем? – удивилась я.
– Мокрая салфетка высыхает, свет отключается, – пояснил физик.
– О! – восхитилась я. – Ни за что бы не додумалась.
Мои визави насупились, я извинилась.
– Он сорвал урок по литературе! – возмущенно воскликнула завуч. – Второе занятие за неделю.
– Как? – заученно спросила я.
– Он не хочет уважать Есенина!
– Есенина? – поразилась я. – Что он ему сделал?
Оказалось, им задали учить стихи на выбор, мой сын выбрал стишок по собственному вкусу. О корове!
- Старая, выпали зубы,
- Свиток годов на рогах…
Он пять раз начинал и пять раз застревал на коровьих рогах. Класс визжал и катался от смеха, кроме учителя словесности, страдающего отсутствием юмора. Пристрастие моего сына к пасторальной тематике совершенно неожиданно обернулось парой в журнале. Я прикинула: двойка по физике, двойка по литературе, а в четверти что? Прикинула и решила обороняться.
– Скажите, – елейным голосом произнесла я. – Карбид был до или после коровы?
– Какое это имеет значение? – подозрительно спросила завуч, ей не понравился мой тон.
– Не знаю. И все же?
– После, – помолчав, ответила она.
– Понятно. – Я угрожающе забарабанила пальцами по столу. – Это обычная реакция протеста. Вы третируете моего сына, он вынужден обороняться.
– Мы?!
– Естественно! Класс смеялся над моим сыном, а не наоборот. Это класс нужно было выгнать с урока, а не моего сына!
– Что за нелепость? – вскипела завуч.
– Нелепость? – возмутилась я. – Если бы вы отнеслись к этому серьезно и своевременно, то не было бы ни пробок, ни карбида, ни гипотетического тротила! Я требую, чтобы двойку по литературе аннулировали. Не вина моего сына, что ему не дали закончить стихотворение преподаватель и одноклассники. И двойка по физике тоже лишняя. Мокрые пробки и карбид – это, по меньшей мере, четверка по физике и химии. И нельзя оценивать предмет по поведению, это смахивает на должностную небрежность! – Я откинулась на спинку стула и спокойно сказала.:– Аннулируйте двойки.
– Это невозможно!
– Я буду жаловаться! У меня есть связи!
Я победила, они проиграли. Я вышла в коридор, у кабинета завуча торчал мой недоросль.
– И че? – с олимпийским спокойствием спросил он.
– Ниче! – рявкнула я. – При чем здесь корова?
– Ржачно! – Мой недоросль заржал как жеребец.
– Еще раз сорвешь урок, – я приблизила к нему лицо, кипя от гнева, – кабинет твоего отца будет в твоей комнате!
– Не выйдет!
– Хочешь, чтобы выпали зубы?
Мне зааплодировали. Я обернулась; завуч вырезала на мне клеймо Павлика Морозова.
Я пригласила Бухарину в кафе. Мне надо было кому-нибудь пожаловаться. Почему не лучшей подруге? К тому же надо вытаскивать Бухарину из бесконечной депрессии.
– У нас порочная система образования. Оценки по поведению заменяют знание предмета, – сказала я. – Знаешь, что сегодня случилось?
– Что? – промычала Бухарина набитым ртом. Я горестно вздохнула и рассказала о школьных мытарствах моей кровинушки.
– Ерунда! – резюмировала Бухарина. – Все намного хуже. У нас ужасная школьная программа.
– Отличная. – Я вспомнила пестики, тычинки и презервативы.
– Патриотичная! – захохотала Бухарина, на нас оглянулись. – Вообрази, что случилось с моим Шуркой.
Я махнула рукой. Бухарину все равно не переговорить. Бесполезное занятие. Давно поняла.
Я вдруг засмеялась и быстро отвернулась. Вспомнила Капитана из Ольгиной труппы дзанни. Они с Бухариной чем-то близки. Если ее обрядить в военный костюм, получится солдат Джейн, воюющий со всеми на свете – бывшим мужем, его любовницей, всеми мужчинами, борцами за нравственность, телевидением, школьной программой… С самой собой, в конце концов. Они даже внешне похожи с Ольгиной куклой! Стоит только убрать усы и бородку. Вылитая Бухарина!
– Ты меня слушаешь? – подозрительно спросила Бухарина.
– Слушаю и воображаю. – Я перестала смеяться и приготовилась внимать.
И Бухарина рассказала мне эпизод из жизни ее восьмилетнего сына Шурки.
– Мам, у нас завтра урок патриотизма, – жуя, сообщил он.
– Чего? – поразилась она.
– Патриотизма.
– Закрой рот и прекрати чавкать, – машинально сказала Бухарина. Ее сын жует и чавкает, как Троцкий.
– Надо рассказать какую-нибудь историю. Патриотическую, – пояснил Шурка. – А я не знаю, какую.
– Читать надо больше, – сварливо сказала Бухарина. – Может, хоть одна мысль явилась бы в твою голову.
– Я не нотаций прошу, а помощи, – заявил восьмилетний сын Бухариной. Совсем как взрослый. В голову Бухариной вломился Павка Корчагин, и у нее свело зубы.
– Островский – хороший человек, у него была тяжелая жизнь, не в пример моей, – застенчиво призналась мне Бухарина. – Но я с содроганием вспоминаю уроки литературы. Мы разбирали писателей по косточкам, как грифы. Что хотел сказать? Зачем хотел? Каков социальный контекст? Как основная идея соотносится с мироощущением народа? Я до сих пор не могу открыть книги известных, очень хороших писателей. Меня по сию пору от них тошнит. Я даже не знаю, потянет ли меня когда-нибудь перечитать их после школы. Теперь министерство образования решило добить патриотизм. Разобрать по косточкам до оскомины на языке. Вообрази!
Интересно, у Мишки бывали уроки патриотизма? Что-то он мне ничего не говорил.
– Патриотизм – это любовь к Родине. Любовь к Родине – это чувство. Уроков по чувствам не бывает, – объяснила сыну Бухарина.
– Бывает, – не согласился Шурка. – У нас было уже два урока. Так что мне рассказать?
Бухариной ничего не лезло в голову, кроме Павки Корчагина. Хоть убей!
– Сиди и слушай одноклассников, – посоветовала она. – А потом повтори все, что они сказали. Начало и конец поменяй местами, середину сделай финалом. В общем, подходи творчески.
– Ясно. Все переколбасить. А если меня вызовут первым? Я же в начале списка.
Умереть, не встать! Ненормальная школа сына Бухариной внедряла детям патриотизм согласно списку. В порядке строгой очереди!
– Я подумаю, – пообещала Бухарина и повела сына в прихожую.
Он надел рюкзак и застрял у двери.
– Так что мне рассказать? – с отчаянием повторил он.
– Песню спой, – буркнула Бухарина.
– Какую?
Бухарина изо всех сил выпучила глаза и замаршировала в прихожей.
- Я, ты, он, она!
- Вместе дружная страна!
- Вместе целая семья!
- Вместе нас сто тысяч я!
Бухарина маршировала и пела в прихожей, ее сын визжал и катался от смеха. Бухарина не маршировала, но пела в кафе, я хохотала все громче и громче. На нас все оглядывались уже открыто.
– И помни, – сказала Бухарина сыну голосом доброй феи из «Золушки», – эту песню надо петь с видом лихим и придурковатым.
– Почему? – простонала я, давясь от хохота.
– Чтобы не заподозрили в отсутствии патриотизма!
Бухарина смачно поставила восклицательный знак, и я умерла от смеха.
Выпроводив сына в школу, Бухарина поняла, что источником тлетворного влияния в ее семье является она. Собственной персоной.
– Хотя это еще как посмотреть! – возмущенно сказала мне Бухарина. – Если о моей Родине кто-нибудь скажет плохо, я его с землей сровняю.
– Точно, – согласилась я, вытирая слезы. – Со мной такое уже было. В Турции. Чуть не прибила одного словенца. Какая нелегкая его туда занесла? С Адриатики-то?
Самое смешное, что у нас не было уроков патриотизма. И у великих писателей их тоже не было. Как мы умудрились Родину полюбить? Ума не приложу.
– Родину надо любить по-человечески, а не в состоянии аффекта, чтобы Родину не напугать. Родина у нас одна, – величественно констатировала Бухарина.
– За человечность! – Я подняла рюмку, и мы лихо чокнулись.
Перед моим мысленным взором явилась белобрысая тетка и укоризненно покачала головой. Я отогнала ее одним взмахом руки.
Мне думается, великое нельзя прибить к человеку кучей обычных гвоздей. Великое приходит тихо. Само собой.
Лиза
Мне было тоскливо, и тогда я пошла на балконный каньон. Ночной город походил на звездное небо в Мишкином телескопе. Электрические звезды горели окнами домов и мигали аргоновыми дорожками рекламных щитов, строились шеренгами уличных фонарей и неслись автомобильными фарами. Даже на горных прилавках мерцали россыпи света. Я подумала, что в зимних горах живут люди, которые прячут свою грусть, как я. Чтобы никто не видел. Даже мама.
Я увидела, как Мишка целуется с девицей в нашем подъезде. И сбежала, испугалась, что меня заметят. А меня никто не заметил. Теперь мне грустно, даже плохо. Я боюсь, что Мишка уйдет, и его больше никогда не будет. Он не прошел отбор, но мне все равно плохо. Почему у меня нет мальчика? Даже Мишки. Потому что я салага? Или некрасивая?
Я вернулась домой, посмотрела на себя в зеркало и ничего не поняла.
– Мам. – Я забралась к ней под одеяло. – Я красивая?
– Очень.
– Ты так говоришь, потому что ты моя мама.
– Нет, – серьезно сказала она. – Это правда.
– Тогда почему я одинокий кенар?
– Кенар? – Я почувствовала, что мама улыбается.
– Ничего смешного! – обиделась я.
– Я и не думала смеяться, – засмеялась мама.
– Моя жизнь летит кувырком, а ты смеешься! – закричала я.
Мама защекотала мне ребра, а я не ответила. Даже мама меня не понимает! Никто не понимает, что со мной!
Я закрыла глаза и вдруг увидела цветы турецкой фасоли. Их бутоны походили на высоколобых розовых младенцев с толстыми гладкими щеками, а цветки на бродячих монахов в широкополых шляпах с развевающимися на ветру рукавами-колоколами. Я видела это, когда лечилась солнцем. Если бы я часто не простывала, мне не назначили бы гелиолечение и я не увидела бы в горах солнечные призмы. В первый день мы с мамой долго ехали в сторону гор, мне хотелось спать, я клевала носом до тех пор, пока не увидела в зарослях высокой травы сверкающие солнцем стеклянные вафли.
– Что это? – потрясенно спросила я.
– Солнечная лечебница, – ответила мама.
Мы шли по узкой тропинке, проложенной бетонными плитами внутри горячей от солнца травы. Она глядела на меня розовыми человеческими мордочками цветочного народца.
– Кто это? – уже ничему не удивляясь, спросила я. – Травяные человечки?
– Турецкая фасоль, – ответила женщина в белом халате и обратилась к маме.:– Заходите с девочкой в кабинку, чтобы ей одной не было страшно.
Мы с мамой покрывались коричневым загаром, стоя в черных водолазных очках под солнечными жаркими вафлями. А я смотрела на кусок синего неба, прямоугольником врезанного в кабинку гелиолечебницы. Мы ходили туда долго, пока цветочный народец не вырос и не стал бродячим монахом. Так в моей памяти осталась идеальная вещь – солнце, запеченное стеклянными вафлями, и цветы, повзрослевшие раньше меня. Конечно, тогда я об этом не думала, но запомнила на всю жизнь и потом изобрела объяснение. Сейчас я вспоминаю о солнечном лекарстве, когда хочу, чтобы меня понимали. И не стоит спрашивать, какая здесь связь. Я и сама не знаю. Может, оттого, что мама несла меня назад на руках. Я близко чувствовала ее, и мне было спокойно. Мы до сих пор спим с ней вместе, и я не хочу, чтобы что-то менялось. Мне от этого будет только хуже.
Следующий день начался неудачно. Математичка вызвала меня к доске, а я не выучила линейные неравенства. Хотя я знаю, что такое линейные неравенства. Это горизонтальная пирамидка, где побеждают те, кто вырывается вперед. Но математичку не интересовала теория, ее волновала практика, а я не сделала домашнее задание.
– Двойка, Ромашова? – спросила она меня. Зачем спрашивать? Будто я могу изменить и мир и ее.
– Неконструктивно и противоречиво, – вредно ответила я. Нечего спрашивать, если и так знаешь ответ!
– И в чем противоречивость? – усмехнулась она.
Мама смеется, говорит, я хочу стать Эйнштейном. Наверное, поэтому меня тянут заоблачные высоты. А моя голова, как назло, запоминает не неравенства, а заоблачную математическую пудру.
– Невыученный урок не является признаком незнания алгебры вообще.
– О! – неясно выразилась математичка.
– Двойка приравнялась к нулю. Это называется кидалово.
Все засмеялись под свист Аркашки Зудина. Математичка небрежно махнула рукой, и все меня кинули.
– И что? – подняла брови математичка.
– Нуль идеален, он обозначает реальное «нет», двойка не означает ничего. Она должна вымереть, как динозавры. Короче, из двоек ничего не построишь.
– Молодец, Ромашова, – раздражилась математичка. – Садись.
Тон математички не совпал с ее словами, что явилось признаком ее отношения ко мне.
– Так что? – все же с надеждой спросила я.
– Два, – подняла брови математичка. – Строить не из чего. Дневник возьми.
В дневнике красовалась двойка, выставленная неконструктивной математичкой. Если бы она больше соображала, я стала бы ее любимчиком, а так я оказалась выскочкой.
После урока ко мне подплыли наша суперстар Реброва со своими прилипалами – Мотовиловой и Руденко.
– Слушай, нуль, что за блондинчик все время с тобой? – заинтересованно спросила Реброва.
– О чем речь? – хмуро переспросила я, хотя отлично поняла, кого она имеет в виду.
– Не догоняет! – засмеялась Мотовилова. – У нее ж сладкая парочка. То что-то беленькое чернеется, то черненькое белеется. Не слишком, Ромашова? Делись!
– Обоих давай! – захохотала Руденко.
– Тихо! – цыкнула Реброва, прилипалы замолчали. – Ромашова, с ним познакомь, лучше будет.
– Давай, – согласилась я. – Подойди к нему и скажи, что от нуля. Так и познакомитесь.
Я круто развернулась и пошла, Реброва молчала мне вслед. Ее надежда еще не умерла.
Я вышла из школы в настроении хуже некуда. Погода была под стать настроению. Белесая туманность на месте небес и дымный смог вокруг меня. За забором школы в сизом тумане я увидела Сашкин силуэт и решила сбежать, но он меня заметил.
– Мишка не здесь? – спросил он.
– Нет.
– А. Ну я пойду.