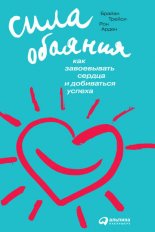Щастье Фигль-Мигль
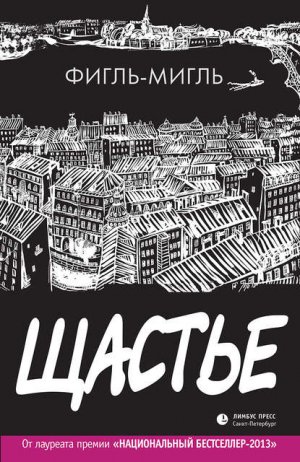
— Шшшш, — сказал я. — Это не мой бизнес.
Мы опять застряли. Муха — когда не стриг, не причёсывал, не учил стричь и причёсывать и не распродавал запасы шампуня — ходил с местными пацанами разведывать пути; все пути в нужную сторону уходили к соседней деревне, соваться в которую мальчишки боялись. Китаец бесшумно и деликатно исчез первой же ночью — Муха был уверен, что не с пустыми руками, но явной пропажи мы не обнаружили, хотя даже Фиговидец допускал, что толмач хоть что-нибудь, но прихватил. Кума расплатилась за порчу векселем на часть будущего урожая картошки; я отдал его доктору за постой. («Не кинет?» — спросил я. «Нет, — грустно сказал доктор, — она расплатится».) Доктор грустил, Фиговидец грустил, я осмотрел (снаружи) Дом культуры: серый, каменный, двухэтажный и неописуемо безобразный. От ДК веяло злом, которое десятилетиями безнаказанно творилось в его стенах.
Я прогуливался вдоль докторского забора, овеваемый тёплым ветерком. В ветерке проструился быстрый шёпот:
— Разноглазенький! Позови патлатого.
— На овраге патлатый. Сходи сама.
— Не могу сама. Стесняюсь.
Я обернулся, и алчные рыжие глаза испуганно выдержали мой взгляд.
— Что, так понравился?
Рыжая смущенно и кокетливо заулыбалась. Ещё молодая, она уже была изуродована здоровой сельской жизнью — особенно руки и ноги. Лицо мне понравилось.
— А твой узнает?
— Эвона! Мужики-то наши батрачат сезонно у китайцев. Ещё когда вернутся.
— Ладно, — сказал я. — Позову.
Фиговидец и точно валялся, подстелив ватник, на краю оврага. Рядом лежали тетрадки, карандаши и книжка, но он не писал и не читал, хмуро пялясь в небо.
— Эй, — позвал я, — глаза твои угрюмые!
Фарисей недовольно фыркнул.
— Отстань. У меня сегодня по плану депрессия.
— Ты её планируешь?
— Если не планировать, она будет каждый день. А так я её отгоняю, когда не запланировано. И жду. Говорю ей: я жду, и ты подождёшь.
— И с какой периодичностью у тебя запланировано?
— Раз в две недели, в нечётную пятницу. Пробовал реже, но не выходит.
— А ты бы развлёкся. На тебя вот бабы заглядываются.
Он опять фыркнул.
— Иди, иди. Не лишай человека радости. Да и себя, кстати. Или мне показалось, что профессора на рыжих тянет?
— Эвона! — Фарисей завозился, ища сигареты, слишком разозлившийся, чтобы врать. — Не на рыжих, если уж хочешь знать, а на победителей. И я всего лишь адъюнкт. Особенно здеся.
Фиговидец перенимал просторечие, жаргон и диалекты почти бессознательно. Какие-то выражения ему нравились, а перед вульгарно-мрачной экспрессией других он откровенно капитулировал, ещё что-то доставляло хулиганское удовольствие, но чаще всего слова запечатлевались в его уме как предметы на фотографии: какой бы прелестный закат снимающий ни пытался сберечь для долгих вечеров старости, на карточке вместе с закатом появлялись вороны, обшарпанный угол дома и край мусорной кучи с изумительно отчетливой россыпью окурков на переднем плане — удачливые безбилетники поезда в вечность. Но владел он ими как ребенок своим бренчащим в карманах сокровищем — камешками, стеклышками, фантиками, гвоздями.
— Ты знаешь, что они здесь называют экспонатами? — неожиданно спросил он.
— Разумеется. Поинтересуйся ты раньше, Муха сводил бы тебя в наш ДК.
— Но тогда я не знал.
— Что мешает тебе и впредь не знать?
В Домах культуры хранились и экспонировались результаты деятельности снайперов. Те, кого не смогли или не захотели выкупить родственники и профсоюзы, домучивали жизнь в не очень чистых и плохо проветриваемых помещениях. Ухаживали за ними на общественных началах, то есть кое-как. Школьники отрабатывали здесь прогулы, материально ответственные лица — растраты и недостачи, проститутки — нетрудовые доходы. Тех же школьников водили в ДК на экскурсии: с целью привить основы то ли милосердия, то ли законопослушности. (По этому вопросу у директоров школ традиционно были разногласия. Наша завуч, сколько помнится, твёрдо стояла за дисциплину. В глубине души она была теткой без затей и искренне не понимала, какому такому милосердию можно научиться, глядя на серые мертвенные лица калек, большинство которых не могло самостоятельно передвигаться.) Самый большой скандал на моей памяти разразился, когда весёлые по случаю Армагеддона дворники подсунули в ДК радостного. Радостные были вне закона настолько, что это соседство оскорбило даже лежавших в параличе. «У нас, по крайности, мозги здоровые», — говорили они. Они все так говорили, даже экспонаты, которые в результате терапии (кураторы не скупились на лекарства) забыли собственный возраст и таблицу умножения.
Фиговидец пожал плечами. Учат ли их этому в университете специально, но я никогда не видел, чтобы в простом движении, задуманном в начале времён как знак несогласия и протеста для усталых и не желающих протестовать, было столько шика. Фарисей был расстроен, подавлен, мог чувствовать себя заблудшим и дураком, а вот его плечи передёрнулись уверенно, легкомысленно, словно их хозяин только и делал, что поплёвывал на людей вокруг. Сейчас люди вокруг были плебеи, он — университетский сноб. Что могло преодолеть эту пропасть — разве только влечение.
— Да не хочу я её!
— Депрессивные состояния действительно угнетают половое чувство.
— А что его не угнетает?
Я лёг рядом и закурил египетскую. Следовало бы отправить фарисея к доктору Марфе, хотя, подозреваю, они разговаривали бы не как врач с пациентом, а как товарищи по несчастью. Или доктор успел забыть, какое несчастье с ним приключилось, привык от всего отмахиваться за тридцать лет тоски в этой дыре («так он же беглый, Марфа-то, — сказала Кума. — Как вы, с югов»), где в изобилии были только горе и овраги. Да, доктор вообще бы не стал разговаривать. Муха щедрой рукой отсыпал ему из аптечки таблеток, и сейчас доктор молчал и обозревал окрестности взглядом, в котором растворились и получили прощение общинное картофельное поле, огороды (с овощами) и мужики, посланные на север на заработки.
Вечером я пошел к Куме разузнать про соседнюю деревню. На завалинке (четыре составленные в квадрат скамейки) шушукалась кучка баб. Скрытый сумерками, я остановился послушать.
— Ой, мужик! — счастливо пела рыжая. — Вот это мужик! Три раза, и не по три минуты! Уж такой ёбарь, такой, — она запнулась, лихорадочно ища достойное сравнение, и наконец выпалила: — пулемет просто, вот какой!
— Брешешь, — сказал один завистливый голос.
— Удавлюсь, а попробую, — решительно сказал другой.
— Только сунься, сучка.
Я побыстрее пошёл дальше, уже не зная, радоваться ли тому, что Фиговидец внял голосу рассудка. И зачем рассудок заговорил моим голосом.
Мы ушли на следующий день, когда бабы были в поле, а доктор — в эмпиреях. Неудивительно, что фарисей счел это бегством, и даже Муха удивился. Оба попробовали возразить — достаточно слабо, чтобы не стыдно было идти на попятный. Мотивы их не совпадали, но, ища повод задержаться, и Фиговидец, и Муха сослались на доктора. («Мне жаль, что так по-дурацки получилось с Марфой, — читаем в путевых записках. — Я не знал, как поговорить с ним, чем утешить и почему он так странно смотрит, словно стыдится. Или всё, наоборот, вышло наилучшим образом? Возможно, мы были той жизнью, которую он так самоотверженно забывал все эти годы, и когда, наконец, забыл до того, что уже не захотел бы в неё вернуться, жизнь сама приперлась к нему. А ведь ему никто не нужен, кроме его животных».)
Теперь они плелись за мной, время от времени смело возвышая голоса до ворчания, не желая слышать которое, я уходил всё дальше вперёд. Лавируя между очередным оврагом и полем соседней деревни, мы вошли в светлую рощицу. Держась поодаль от зудящих голосов, я шёл прямо, прямо — и вдруг полетел вниз, вниз, вниз.
Скоро я понимаю, что лежу на мокром и дурно пахнущем дне глубокой ямы, а где-то надо мной склоняются на фоне голубого неба встревоженные головы. «Ничего не сломал?» — спрашивает Муха. «Сам выберешься?» — спрашивает Фиговидец. Жёвка мычит что-то сочувственное. Я встряхиваю гудящей головой и знакомлюсь с положением дел.
Я цел (в ушах звон, а тело как не моё, но, во всяком случае, не беспокоит), и самому мне не выбраться. Получив такой ответ, члены экспедиции устраивают быстрое совещание («а где я тебе верёвку найду?»), а я сажусь на упавшую вместе со мной сумку и закуриваю египетскую сигаретку. Недостижимо сияет небо, подступает со всех сторон затхлая мёртвая земля, уплывает дым. «О, блядь», — доносится сверху.
Как я разобрался потом, события последовали такие:
В пределах видимости появилась толпа баб с дрекольем.
Увидев их, Жёвка подхватил на закорки тележку с валютой и ломанулся прочь.
Муха в ужасе спрыгнул вниз, ко мне.
А Фиговидец остался стоять столбом на краю ямы, миролюбиво осклабясь.
Мой взгляд цепляется за последний завиток дыма и вместе с ним выбирается на свободу; плывет, летит, исчезает в Египте. Я слышу, как шумит в моих ушах, слышу неслаженный гул голосов над ямой, чувствую под боком трусящее Мухино тело. Я поудобнее вытягиваю ноги и замечаю червячка: такой маленький забавный червяк весело сражается с гнилым прошлогодним листом. Я всё смотрю на него, когда нам спускают почерневшую, тронутую гнилью деревянную лестницу.
Я выбираюсь наверх и нос к носу оказываюсь перед здоровенной мордатой бабищей. «Опять близнецы», — мелькнуло у меня. Только волосы и сапожки были другого цвета — да правая рука уныло висла на перевязи.
— Так это ты, гадёныш, порчу на меня навёл?
— Как навёл, так и сниму, — сказал я быстро. — Давай договоримся.
Муха застонал, когда кроме аптечки я вытащил из его вещей жестяную банку с кофе и кинул её вместе с упаковкой таблеток в подставленный подол.
— Раз в день две таблетки с чашкой вот этого. Класть будешь две полных ложки на стакан кипятка. Ну, как чай. Чай в деревне пьёте?
В ответ прозвучал робкий смешок, словно я спросил о предмете постыдной роскоши.
Стоявшие вокруг бабы были такие задрипанные, что их даже бояться было как-то неловко, несмотря на дубьё и вилы. Слишком тепло для этого дня закутанные, в комбинезонах, старых куртках, платках или китайских шляпах, они, казалось, и под одеждой были такими же бесформенными, как в этих обносках. Усталость их собственная и перешедшая к ним по наследству от поколений надрывавшихся на бесплодной земле крестьян тучей висела над ними, запахом пота сочилась из их тел. Их глаза были тусклыми, руки — страшными, а намерения — неисповедимыми.
— А помогнёт?
— Помогнёт. («Значит, циклодол против Сологуба, — написал потом Фиговидец. — Я бы поставил на старика».)
Одну из баб озарило.
— Мать, — сказал она, — давай их опять тудыть столкнём. Не совравши — так и через недельку отпустим, а совравши — Разноглазый как положено сделает. — Баба вздохнула. — А то где ж за ним потом по лесу бегать.
— Отпусти нас, дура! — в ужасе рявкнул я. — Не то сделаю так, что прям счас башка отсохнет!
И хорошо, что мы, подхватив вещи, тут же пошли напролом. Враги смиренно расступились. Вслед нам полетели какие-то слова, но и только.
— Ты ей всю упаковку отдал, — неожиданно сказал Фиговидец минут через десять. — Ведь передознётся.
— Возможно.
— Не такие они дикие, — буркнул Муха. — Лучше б кофе пожалел. Как в банку-то вцепилась, сразу рука заработала.
— Я растворимый не пью, — сказал фарисей.
Мы еще прошли, преодолели какие-то бетонные руины, осторожно окликая Жёвку («чёртов поц, — шипел Муха, — валяется где-нибудь под кустом, уши от страха заложило»), и оказались на железнодорожных путях, за которыми вздымалась сплошная стена развалин.
— Вы как хотите, — сказал Муха, — а ведь это Джунгли.
— Ничего, — сказал Фиговидец, — нам туда, на восток. Обратим свои спины к заходящему солнцу.
Мы обратили спины к заходящему солнцу (не очень-то оно заходило) и побрели вдоль путей. Пахло креозотом, разогретым железом, травой. Рельсы были целы и блестели.
— У них такой вид, будто ими пользуются, — неуверенно сказал Муха.
— А чего бы ими не пользоваться?
Назад мы не оглядывались, но то, что было впереди, постепенно менялось. Исчезал под зеленью искорёженный бетон, рассыпалась труха построек. Громоздились огромные каштаны, за бело-розовой жимолостью и скромными соцветиями калины робко вспенивались яблони, и уже вымахала трава, и какие-то кусты — выше травы, ниже яблонь — цвели меленько, жёлтенько, вонюче.
— О! — выдохнул Фиговидец, застывая над каким-то нежным испуганным цветком, со всех сторон теснимым одуванчиками. — Ну почему я не взял определитель растений?
— Тем более, что он всего-то в двенадцати томах, — сказал я. — Собери гербарий.
— Гербарий нопасаран. Пусть проживёт свою жизнь. — Его, как ту бабу, осенило. — Я лучше зарисую.
И вот он сел на пеньке зарисовывать, Муха сел рядом и приуныл, а я отошёл в сторонку поразмыслить, где и как нам искать наследника теткиного богатства.
3
Я сел на сумку Мухи и подставил лицо солнцу. Потом встал и повернулся к солнцу спиной. Я смотрел на тяжёлое страшное цветение Джунглей, представляя, как мы туда войдём, как отворятся ворота в благоухание. И они отворились, но не для нас. Из цветущих зарослей, овеваемая всеми запахами мая, выступила фигура, главными деталями которой были копна волос и кожаное пальто до пят. Кто-то приближался, грузной, но ловкой походкой, как божество этих мест, как покинувшее насиженное место, пустившееся в путь дерево.
К нам же он подошёл уже в виде ражего мужика со спутанными патлами, заткнутыми шпилькой в рассыпающийся узел. Я увидел глаза навыкате — очень тёмные, очень яркие; крупный, очень резко очерченный рот — и в этом рту, когда он заговорил, блеснули два или три золотых зуба.
— Греетесь?
Мы с фарисеем синхронно пожали плечами.
— Где мы — там весна, — сказал мужик. — А ты что хотел, мой прекрасный?
— Мама, мама, — прошептал Муха и погромче, набираясь сил, зная ответ: — Ты кто?
— Фрай Хер Кропоткин, — представился тот. — Добро пожаловать в мир анархии и порядка.
— Это как? — спросил Фиговидец.
— Глупцы ходят строем и думают, что это и есть порядок, — охотно ответил Кропоткин. — Но истинный порядок, мировая гармония, бежит из казарм. Разве ты скажешь, что в природе нет порядка? — Он повёл рукой. Я обратил внимание на его чистые ногти. — А разве ты скажешь, что природа сильно из-за этого порядка морочится? Природа хаотична по форме и гармонична, то есть упорядоченна, по сути. — Он говорил гладко, с удовольствием, заинтересованно и самую малость рисуясь. — Она не возбраняет каждому живому существу жить, как оно живет, к чему бы это ни приводило в итоге. У людей всё наоборот: дисциплина напоказ и хаос внутри. Ну вот что ты рожу кривишь? Испугать меня хочешь?
— Не думаю тебя пугать, потому что и сам тебя не боюсь.
Кропоткин поднял брови.
И тогда Фиговидец сказал: «Превосходно ты изложил суть дела. Но ответь, почему ты считаешь человека частью природы, а если не считаешь, то на каком основании указываешь на неё как на образец для подражания? Ведь всё в природе живёт по праву сильного, а человеческие законы — как бы там ни было — основаны на чувстве справедливости. У гармонии много обличий», — сказал Фиговидец.
— Как и у хаоса, — быстро отозвался анархист. — Значит, ты из Города. С Острова? Будешь смеяться, но я и у вас побывал. Пойдем, мой прекрасный, посидим у костра, обсудим.
— Извини, мой Хер, — сказал на это фарисей, — не могу. Мы тут товарища потеряли.
— Один теряет, другой находит. У нас твой товарищ. Кашу жрёт.
Анархисты разбили лагерь среди чудовищно старых деревьев, верхние ветви которых сплетались друг с другом, а корни ворошили и раскидывали месиво из камней, мраморных обломков и гранитных крестов. Спотыкаясь, мы прошли за Кропоткиным к древнего вида каменному строеньицу, рядом с которым был возведён шалаш. На небольшой площадке перед ними горел приветливый огонь, подле огня разместились и что-то жевали человек пять, включая нашего убогого товарища. На верёвке, протянутой от одного дерева к другому, сушилось исподнее. Я заметил также дерево, с нижнего сука которого свисала верёвочная лесенка, а чуть повыше было устроено огромное гнездо.
— Что же это? — спросил Муха.
— Кладбище, — спокойно ответил Фиговидец. — Ты что, не видишь?
— Э, — сказал Муха, — кладбище. А что это значит?
— Покойников здесь хоронят. Ну, здесь-то, — он огляделся, — уже не хоронят, раньше хоронили. Всё заброшено. Могилы старые.
— Да, — сказал Муха. — Могилы. Хоронят. Это как?
Фиговидец оживился, почуяв неизвестный ему фольклор.
— Вы что делаете с мёртвыми? — строго спросил он.
— В Раствор бросаем.
— Санация посредством концентрированной серной кислоты, — объяснил я.
— Ну вы дикие… Так вот, мёртвого кладут в гроб — это такой деревянный ящик по росту, — закапывают в землю, а сверху ставят крест или памятник. Посмотри.
Муха новыми глазами посмотрел на камни, кресты и поставленного у входа в шалаш мраморного ангела с одним крылом.
— Так это под ними всё покойники зарыты?
— Забудь ты о покойниках, — рассердился фарисей. — По сторонам гляди. Красота-то какая! — он хищно потер руки. — Я у нас по Смоленскому часто гуляю. И на похороны всегда хожу. Но просто гулять приятнее: легко дышится, хорошо думается. — Он перевел на меня ставший укоризненным взгляд. — Смоленское, конечно, в лучшем порядке, чем это. Я прилизанных кладбищ не люблю, их никто не любит — но не в помойку же погост превращать. Ну, чтоб опрятное такое запустение было, да? Без вандализма. — Он нахмурился, глядя на ангела. У того кроме крыла был отбит также нос. — А то раствор! Серная кислота… Тьфу.
— Это же профилактика, — возразил Муха. — Ну, от этих. От жутиков.
— И помогает?
— Чего спрашиваешь? Знаешь ведь, что нет. — Муха сглотнул и напустился на Жёвку. — Ну, поц? Где валюта?
Вопрос о валюте расшевелил анархистов, которые до этого не проявляли никакого любопытства. Парень в круглых зелёных очках и рыжей косухе, что-то апатично жевавший, фыркнул, снял очки и нахально, ядовито ухмыльнулся. Другой — единственный, чьи длинные грязные волосы уже поседели, — буркнул: «Делиться надо». Совсем молодой худой мальчонка (или это была девушка?) застенчиво выматерился.
— Мы не воры, — серьёзно сказал, выныривая из шалаша, Кропоткин. В руках он умудрялся удерживать целую гору мисок, ложек и стаканов. — Вы сами рассудите. — Он сделал паузу. — По справедливости.
Фиговидец заржал.
— О как, — отметил Кропоткин, довольно посмеиваясь. — Я так понимаю, мой прекрасный, это предложение продолжить дискуссию. — Дискуссия нельзя сказать что прерывалась: всю дорогу анархист и фарисей обменивались мудрёными словами. — Ну-с, милости просим. Дядя! Отведи гостей умыться.
Мальчонка (девушка?) с ленцой поднимается и ведёт нас к надгробию неподалёку. На надгробии лежит кусок мыла, стоит ведро с водой; на ближайшей ветке висит полотенце. («Что-то не пойму, — бормочет Фиговидец, ища по карманам какие-то свои записи, — это утиральник или рукотёрник?») Дядя зачерпывает воды ковшиком. «Урыльник это, — сообщает юный, старательно хрипящий голосок. — Полить?»
Когда разгораются огонь и интереснейшая, судя по выражению лица Фиговидца, беседа, я начинаю клевать носом над миской с подозрительным на вид, но вкусно пахнущим варевом. Миска едва не слетает с колен; рука, которая устремилась ей на помощь, звенит звоном отдалённых колокольчиков. (Верно, в руке же ещё и стакан.) Мне помогают (кто помогает, и почему я так устал, что даже не понимаю, чьи лица заботливо надо мной склоняются), помогают перебраться в склеп, укладывают в гамак (гамак, да) и покрывают чем-то толстым, тяжёлым и засаленным (ватное одеяло, что ещё). Когда я просыпаюсь, ночь в разгаре.
Мне не холодно, но неудобно, и я никогда не думал, что отдых в гамаке сопряжен с болью в спине. В тусклой мгле вырисовываются очертания ящиков, коробок, тюков: склеп используется скорее как склад, чем жилое помещение. Я задумываюсь, можно ли назвать жилым помещением гнездо на дереве. Туда, пока мы ели, забрался (забралась?) Дядя, мелькал (мелькала?) выглядывающей головой.
Поднимаясь, я стараюсь не шуметь. Снаружи, подле выбивающегося из сил костра, сидят Муха и Жёвка.
— Кому позавидуешь, так это Разноглазому, — угрюмо сказал Муха, увидев меня. — Прислони его в лесу к дереву, он и так заснёт.
— А тебе что мешает?
Я сел и взял переданную мне Жёвкой толстую китайскую кружку с чаем. Поодаль что-то хрустнуло, шуркнуло и затаилось. Муха дёрнулся, озираясь, и неожиданно заплакал.
— Не могу я здесь спать! — рыдал он. — Всё так и кажется, что эти из-под земли полезут.
Я кинул ему пачку египетских и повернулся к Жёвке.
— Расскажи-ка, как твою тетку занесло в Автово.
— Это не её занесло, а меня, — неохотно сказал Жёвка. — Типа, понимаешь, мать анархисты из дома сманили, завезли на край света и бросили. Или она сама от них утекла, как очнулась? Не помню я. Мать, что, пробоялась всю жизнь, что люди узнают, с кем она путалась. Ну, типа… Толком ничего не рассказывала.
— Не понял, — сказал Муха, судорожно затягиваясь. — Они её… ну, уже с тобой в проекте бросили?
— Это с кровью не передаётся, — заныл Жёвка. — У тебя, типа, самого дядя анархист был.
— Двоюродный дядя. Да и какой он анархист, погорелец обычный.
— А кто такие погорельцы? — с ходу встрял появившийся из-за дерева Фиговидец. Он выглядел оживлённым, довольным и не по погоде любознательным. — Я тут с Кропоткиным, — кивнул он мне, — перетёр кое-что. До Охты не проблема доехать.
— Ну слава Богу, — почти всхлипнул Муха. — А погорельцы — ну, недотыкомки такие, руки из жопы, мозги враскоряку. Бездельный народ, одним словом. С песнями на чужом хребте. Утром поедем?
— Нет, через пару дней. Поганкин сперва сбегает, с шофером договорится. У них кругом сочувствующие.
— Мне пары дней не выдержать, — мрачно сказал Муха. — Особенно когда она норовит в неделю превратиться. Человек не может больше двух суток без сна.
— Во-первых, может, — сказал я. — Во-вторых, будешь днём спать.
— А ночью сидеть и бояться?
— Стоп, — сказал Фиговидец. — Бояться чего?
Муха посмотрел на него умоляюще и приготовился вновь зарыдать. Фарисей занервничал.
— Что ж ты, блядь, мой прекрасный, — быстро сказал он, — без этого как-нибудь нельзя? Сухую истерику я ещё выдержу. — Он уставился на кружку в моей руке. — С битьём, например, посуды. Одна моя добрая знакомая расколотила сервиз на двадцать четыре персоны из ста пятидесяти с чем-то предметов, причем каждый предмет била в индивидуальном порядке, чтоб уж наверняка. Я при этом присутствовал, — со вздохом пояснил он, — считал от нечего делать. Знаешь, Разноглазый, никогда не связывайся с бабами из Города. — Он говорил без умолку, словно надеясь, что мухины всхлипывания не осмелятся его перебить, пока он не сделает достаточную паузу. — Или вот моя тётя. (Я не стал бы намеренно привлекать внимание к этому скандальному факту, но не только лучшие из нас располагают скопившими либо не скопившими наследство тётками, в Автово и за его пределами.) Моя тётя, в связи с неблестящими личными обстоятельствами, ощутила такую тоску, что экзамена по древнерусской литературной критике ей не сдал ни один человек из тридцати двух (это я знаю, потому что был тридцать второй и последний в списке группы). — Он перевёл дыхание и с надеждой посмотрел на Муху. — Ты понял? Плохо тебе — найди способ испортить окружающим жизнь как-нибудь поизящнее. А прилюдно плакать неприлично — следовательно, смешно — следовательно, преступно. — Он задрал голову. — Даже дождя нет. Дождь и слёзы ещё как-то сочетаются.
Муха пристыженно икнул, но вряд ли успокоился. Страшно было вокруг, и огонь не спасал, ни даже водка. Тьма-тьмущая клубилась куда ни глянь, и как вдох-выдох кого-то притаившегося пролетал шелест листьев. И неминуемо приходила мысль, что лес, что живущие в нем существа, убив, не будут, возможно, терзаться, не будут терзаемы призраками убитых, так что всякий, кто останется жив под сенью этих деревьев, возблагодарит счастливый случай и свою счастливую звезду, а не законы людей или мироздания в целом.
— Мне не плохо, мне страшно.
— Тогда к делу, — сказал Фиговидец. — Чего ты боишься?
— Он боится покойников.
— Здесь есть вещи пострашнее покойников, — беспечно сказал фарисей. — Клещи, например. Или лосиные вши. Даже жалею, что не слушал лекций на естественнонаучном. А что покойники? Эвона! На похороны нужно чаще ходить. Нужно было бы, — добросовестно поправился он. — Если б у вас с этим обстояло как положено.
«Ладно, — говорит Муха угрюмо, — ладно». Фарисей пускается в изложение правил надлежащего поведения на похоронах. Тьма вслушивается, шуршит, шелестит; одни невидимые существа приходят из-за деревьев на огонь костра, другие выбираются из-под земли на звук голоса. «Надлежит шутить и смеяться. Это специальные похоронные шутки, называется юмор висельника. Понимаешь, твоему покойнику будет приятно, если его проводят, не теряя присутствия духа». Если присмотреться, увидишь и чьи-то яркие глаза, и чьи-то пустые глазницы. Мне становится интересно, мирно ли они живут между собой, эти звери и эти кости.
Утром я отправился на поиски ведра с водой. Кропоткин что-то мурлыкал, умываясь. Дядя, с ковшиком наготове, поливал (поливала?) ему на руки. Я прислушался. «Утро туманное, утро седое», — пел анархист, и голос его становился таким отрешённо-ласковым, что не успевал сменить интонацию, когда в паузах Кропоткин препирался с Дядей. («Ты меня будешь слушать или нет?» — сердился (сердилась?) Дядя. «Зависит от того, что ты хочешь сказать».)
Кладбищенские анархисты называли себя «свободной общиной без правителя». Кладбище считалось их штаб-квартирой, но зиму они всё же проводили кто у родных, кто у сочувствующих в предместьях Охты. Кропоткин по профессии был столяр, Поганкин (парень в зелёных очках) — зубной техник, и только Крысюк (седой) — профессиональный революционер, то есть по преимуществу болтун и организатор. Остальные не питали к организации чего бы то ни было ни малейшего уважения. Кропоткин вообще уважал только свои руки, которые кормили не его одного, и свой ум, которым он дошел до таких изгибов диалектики, что Фиговидец удивлённо присвистывал. По видимости, он давно оставил всякую мысль об агитации, если вообще когда-либо её имел, и старался лишь о том, чтобы никто не мешал ему жить так, как он живет. («Он хочет быть сам по себе, — веселился фарисей. — В этом и заключается главная опасность для общества».) Однако, словом «свобода», которое не сходило с языка, например Поганкина, он пользовался редко и почти нехотя, и оставалось только гадать, почему: то ли свобода была чем-то слишком дорогим и заветным, запрещающим себя выбалтывать, то ли это дорогое и заветное уже когда-то предало его, если не иссушив источники любви и веры, то изрядно их замутив.
Он был задира и спорщик, и в споре меньше всего стремился к постижению истины и её торжеству. Пересмеяв, перебрехав, он подмигивал разгромленному оппоненту и говорил: «На твоём месте, мой прекрасный, я бы возразил так», — и с новым пылом витийствовал, в ещё более целом и стройном виде воздвигая из праха только что им уничтоженное. Неудивительно, что Кропоткин был индивидуалист и, скорее всего, мизантроп, но вот анархистом он стал единственно из-за невозможности приткнуться где-то ещё. «Я хороший столяр, — (он сделал ударение на первый слог) сказал он Фиговидцу. — Чувствую дерево. Мёртвая деревяшка, казалось бы. Но если эта деревяшка хочет быть комодом, хуй она даст сделать из себя стол. Скажи сам, мой прекрасный, много ты знаешь людей, из которых нельзя слепить всё, что тебе заблагорассудится?»
«Свобода есть возможность действовать, не вводя в обсуждение своих поступков боязни общественного порицания, — писал Фиговидец, посвятивший Кропоткину в своем дневнике целую диссертацию — или это следует назвать апологией? — Человек, которому пришлось сказать себе: „Я отказываюсь от такого-то удовольствия, чтобы избежать наказания“, — человек несвободный». Поставленный таким образом вопрос кратчайшим путём вёл в топи этики, и фарисею, слишком поздно спохватившемуся, пришлось обосновывать имморализм свободы, наскоро выведя её из круга понятий, допускающих этическую оценку. («Как рок, как страсть, как движение планет и солнца».) Сам Кропоткин поступил элегантнее, с небесной улыбкой заявив: «Человек по природе добр», — и вдоволь налюбовавшись произведённым впечатлением.
Понятно, почему эта маленькая община обходилась без правителя: за Кропоткиным и так ходили по пятам и смотрели ему в златозубый рот. Когда практика стаскивала его с облаков теоретического раздолья, он не убеждал, но простодушно командовал, используя, правда, вместо императива сослагательное наклонение («если ты почему-либо хочешь поступить правильно, то сделай так…») Он редко снисходил до объяснений («Меня в науке то и настораживает, что она всё может объяснить»), а встретив сопротивление, говорил: «Тогда делай по-своему» и «Зачем было меня спрашивать». И если кто-то после этого действительно делал по-своему, Кропоткин принимал это как должное, хотя, боюсь, посмеивался, ибо в конечном итоге прав почти всегда оказывался он.
Товарищи любили его, они им гордились; их безрассудное доверие беспокоило стороннего наблюдателя и должно было нестерпимо раздражать врагов и завистников — всех тех, кто с замиранием сердца ждал дня, когда Кропоткин наконец тем или иным образом предаст, надругается над простодушным и недалёким благоговением. (Так что не только раздражение поддерживало силы этого ожидания, но и сладострастное предвкушение.) «Будущее для нас должно быть не пугалом, а желаемым, потому что мы явимся его творцом», — гласила анархистская брошюрка, но не только враги верили, что создаваемая Кропоткиным будущая жизнь обернется адом. («И всё, что будет впоследствии, — сурово писал Фиговидец, — не отменит того чувства, которым живится сегодняшний день».) Замечу, что Фиговидец всё же озаботился рассмотреть варианты «того, что будет», включая наихудшие, и защитить «то чувство», вовсе — кто знает? — в защите не нуждающееся и даже тускнеющее от подобной защиты (как если бы на свежайшее молоко было брошено подозрение, что завтра оно, того и глядишь, прокиснет. Подозрение для «завтра» верное, но «сегодня» неуместное и смешное.)
«Я не могу, как они, — с отчаянием сказал мне на это Фиговидец. — Я умный и, как следствие, не очень благородный. Чистые сердца беззащитны перед злом, зато и их радости ничем не отравлены».
Вспоминая впоследствии то утро на заброшенном кладбище и поющий голос Кропоткина, я всегда избегал связывать это воспоминание с посторонними соображениями, добившись того, что оно стало самодостаточным и замкнутым, вырванным из путаницы причин и следствий, как драгоценный камень или золотая монета: чем-то внеположным жизни и в то же время явившим в себе всё самое яркое и дорогое, что жизнь может предложить.
Здесь уместно рассказать легенду о Католическом кладбище, которую анархисты сохраняли почти как символ веры (наряду с книжкой «Собственность есть кража»).
«Католическое кладбище спрятано в таких Джунглях, куда даже мы не суёмся, напрямик между Охтой и Финбаном. В стародавние времена его сровняли с землёй и построили на том месте завод. Но после смутного времени, когда от того завода осталась одна труба, а всё вокруг превратилось в Джунгли, Католическое кладбище — разорённое, уничтоженное так, что следов его не было — в прежнем виде проросло сквозь промышленные руины. Попытались его вторично ликвидировать, а только через пару лет Католическое кладбище снова было на своем месте — пёрло из-под земли, и никто не мог с ним ничего поделать, а потом и Джунгли стали непролазными. (Из-за этого, кстати, мой прекрасный, и на Раствор перешли — из-за этого, а не из-за привидений. Думали, если хоронить запретят, то и кладбища свою силу утратят.) Найти туда дорогу пытаются все, кого жизнь здесь допекла до последней крайности. И, полагаю, находят, потому что назад ещё никто не вернулся».
В одно прекрасное утро (рано-рано, ещё до того, как проснулись птицы) Поганкин проводил нас к ближайшему жилому кварталу, к согласившемуся помочь анархисту-синдикалисту, который работал экспедитором и время от времени пользовался казённой машиной для партийных и личных нужд.
— В другое время я бы вас прямо на Большеохтинское отвёз, — сказал высокий костлявый парень с честными сумасшедшими глазами. — Но в настоящий момент наши товарищи держат там оборону, осаждаемые оголтелой сворой преданных псов власть имущих. Правительство, эта кучка негодяев, угнетающих и грабящих трудовой народ, пытается остановить, единственно доступными ему средствами насилия, могучий поток революционного движения. Поэтому отвезу к нашему товарищу, живущему неподалёку оттуда. Там разберётесь.
— Давай, — кивнул Фиговидец. — Вези куда-нибудь.
— У этого товарища, — неторопливо и обстоятельно продолжал парень, — есть кое-какие вредные и опасные теории, по-простому говоря, заскоки на почве централизма. Вам, как товарищам со стороны, нужно быть особенно бдительными. Напоминаю, что мы, анархисты и анархо-синдикалисты предместий, решительно отрицаем всякое диктаторство единых групп и только в настоящее время, когда наши силы не настолько велики, чтобы ими можно было швыряться, принуждены с ними сотрудничать в разумных пределах — которые, впрочем, то есть пределы, единые группы стремятся расширить уж совершенно до прямого безумия. Общественные события…
Поганкин зевнул и хлопнул его по плечу.
— Я тоже прокачусь, — заявил он. — Засиделся на одном месте. Погляжу сам, как там и что на Большеохтинском.
— Арестуют тебя, — встревожился синдикалист. — Да ещё с липовым видом на жительство. Говорил я вам, товарищи, что нельзя бесконечно бравировать, провоцируя антинародный режим на массовые репрессии и словно бы даруя ему такой бравадой необходимое оправдание; сто раз говорил, и Кропоткин сам признал, что…
Поганкин снова зевнул и подтолкнул его к старенькому пикапу. Вся поездка по пустынным улицам заняла не больше четверти часа. Муха и Фиговидец разглядывали таблички с названиями улиц. «Кто он вообще такой, этот маршал Блю-Хер?» — почти сразу спросил Муха. «Вообще-то фельдмаршал, — бодро отрапортовал фарисей. — Гебхард Леберехт Блюхер, командующий прусской армией в войне с Наполеоном. Я только не понимаю, при чем тут он. Вроде не совсем здесь воевали…» «А когда это всё было? При Аристотеле?» Тут я впервые увидел смутившегося Фиговидца. «Как тебе сказать», — осторожно сказал он и погрузился в молчание. Муха решил, что сморозил не то, и тоже замолчал. Анархист-синдикалист, никем не прерываемый, громил единые группы. Он высадил нас на тихом углу, пожал каждому руку, пожелал удачи и в самый последний раз призвал к бдительности. («И прошу тебя, Поганкин, не подводи ты всех под сороковую статью».) Я хотел спросил, что это за статья, но его уже и след простыл.
4
Я сел на последний ящик с валютой и подставил лицо восходящему солнцу. Охта казалась мирной и благоустроенной. Дома в основном были небольшие, трехэтажные, опрятно окрашенные; их розовые, голубые и нежно-жёлтые стены слабо светились.
— Приятненько, — сказал Муха. — Что значит навели порядок. А это…
Я посмотрел на стоящий у дороги рекламный щит. На котором очень похоже был воспроизведён весёлый розово-голубой ландшафт, дополнительно украшенный румяными рожами весёлых детей и женщин. Надпись гласила:
ПАТРИОТЫ ОХТЫ!
ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!
— Могу ошибаться, — мрачно сказал Фиговидец после паузы, — но неприятности нам гарантированы. Что значит порядок! — елейным голоском передразнил он Муху. — Ща нахлебаемся.
Час был ранний, утро — воскресное, окрестность — безлюдна. «Пошли, — сказал Поганкин. — Сейчас патруль пройдёт».
Поднимаясь по чужим лестницам… Поднимаясь по чужим лестницам, я слышу звуки и запахи, которые, вне зависимости от того, что я вижу, остаются неизменными. Да, подъезд дома в Городе и подъезд дома на нашем берегу не могут пахнуть одинаково. Они так и не пахнут; их роковое сходство не в самом запахе, сколь угодно разнообразном, а в производимом им впечатлении. Вещи не мертвы, и, подобно людям, они не любят чужих. (Никто не любит чужих.) Стены, ступени, тусклый свет торопятся напомнить о своей неприязни. Как сторожевые псы, защищают спящих обывателей перила. (Никогда не прикасаюсь к перилам.) Муха скользит на повороте и цепляется за меня, потому что под каблук ему бросилась гладкая корка — маленький самоотверженный страж, остающийся лежать раздавленным. Таракан проносится стремительно, заботясь о своей жизни. Осыпающаяся штукатурка обнажает злую гримасу кладки. Трещины складываются в оскал. Я спотыкаюсь.
Дверь стояла нараспашку. Товарищ, польстившийся на диктаторскую идею централизма единых групп, спал и наполнял храпом практически пустую (диван и храп) комнату. Когда мы вошли и столпились у дивана, храп на самое ничтожное мгновение прервался и возобновился с уже новой, показной старательностью, полнясь всхлипываниями и присвистом.
— Злобай, — позвал Поганкин. — Хорош морочить.
— Вааа-а-а, кхгкэ-э-э! — прорычал Злобай. — Доброе утро, Поганкин. — Он вскочил, вырастая в здорового мужика. Анархисты вообще были крепкие ребята. — Здравствуйте, товарищи.
Последовал утомительный обмен рукопожатий. Я предпочитал принятые в Городе и на В.О. поклоны.
— Чем могу? — хозяин прытко оделся и рукой расчесал роскошные патлы. Я обратил внимание на обильные шрамы вокруг запястья.
— Помыться бы, — вежливо и с надеждой сказал Фиговидец.
Поганкин хмыкнул.
— Поганкин, — сказал Фиговидец, — от нас же за версту несёт кладбищем. — Он понюхал свой рукав. — Лес, костёр, минимальная личная гигиена. — Его передёрнуло. — Мы трёх шагов не успеем сделать, как нас заберут.
— Кто заберёт? — встревожился Муха.
— Полиция нравов.
— Наша полиция нравов другим занята — добродушно сказал Злобай и ткнул пальцем куда-то в пространство. — Иди, мойся.
Остальных он провёл на кухню, размерами почти не уступающую комнате и обставленную не с таким минимализмом. Стол был большой, стулья — добротные. Везде довольно чисто.
— Пивка?
— В пять утра, товарищ, — сказал я, — сознательные граждане пьют не пивко, а кофе. Жёвка, достань.
Только Поганкин со своей обычной ухмылочкой объявил себя несознательным. Мне нравилось смотреть, как он, подчёркнуто злой и насмешливый, поблескивает своими замызганными (а все ж блестели) зелёными очками. Нравилось что-то будоражащее в его нервных угловатых движениях. Свободу он воспринимал как набор (даже не цепь, цепь-то спаяна) импульсивных поступков, и на Большеохтинское кладбище собрался неожиданно и для самого себя. («Не пройдёшь, — увещевал его Злобай. — Кордон выставлен». «Захотел — значит пройду».) В нём не было обаяния Кропоткина, зато он был полон яда, что в иных случаях действует куда безотказнее.
— А что с железнодорожным мостом? — спросил Фиговидец — чистенький, кое-как вытершийся, счастливый и в огромном хозяйском халате, разукрашенном по зелёному полю чудовищными красными розами. С длинных мокрых волос, всклоченных полотенцем, ещё капало. На щеке проступала свежая царапина от бритвы.
Все молча смотрели на такое диво.
— Моста давно нет, — ответил наконец Злобай. — Одни предания и обломки. Откуда ты про него знаешь?
— По географии хорошо успевал. Ну а что там за народ, рядом с обломками и вокруг?
— Что там за народ… Отпетый там народ и довольно поганый по причине жадности. Контрабандисты.
— А власти местные? — туманно спросил Муха.
— Анархисты не сотрудничают с властью, — холодно сказал Злобай.
— Но мы-то не анархисты.
— А кто?
— Путешественники.
— И что, — нашёлся Злобай, переварив информацию, — путешественники бывают не анархистами?
— Я б пошёл с вами, — сказал Поганкин почти мечтательно. — Они ведь, Злобай, в Автово прутся, прикинь. Ты был когда-нибудь?
— Не был.
— И я не был.
— Вот и повод побывать, — выпалил Злобай. Я услышал в его голосе облегчение. И не один я. Поганкин скорчил рожу и проницательно погрозил пальцем.