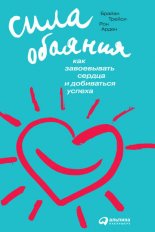Щастье Фигль-Мигль
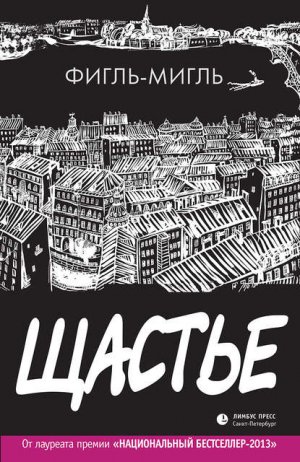
Я пошел было дальше (голоса вышли под фонарь, превратились в двух всклоченных седых стариков), но третий голос, мягкий, низкий, остановил меня не хуже впившейся в плечо руки. Голос сидел на скамейке и улыбался.
— Красивый, прогуляемся?
Я на него посмотрел. Мне не понравились зубы, кожа, ногти и то, что ботинки и носки были разного цвета. Так-то он был ничего. Я снял очки, давая ему собой полюбоваться, и впервые это ни к чему не привело. Он не смутился, не испугался, не повернулся спиной, не прикрыл ладонью собственные глаза.
— О-о, — сказал он восхищенно. — Ты еще и Разноглазый. По клиентам бегал? Это новая мода, или и у нас они завелись?
— У вас? Неужели и ты фарисей?
— Да, — сказал он нагло. — А что, не видно? Пройдись со мной, я заплачу. — Он засмеялся и добавил: — Мы просто поговорим. — И ещё добавил: — Всё остальное по желанию и за отдельную плату.
На стеклянной блестящей двери бара висела, цепляясь витым шнурком за ручку, красивая табличка:
НЕ КУРИТЬ.
НЕ БОГОХУЛЬСТВОВАТЬ.
ФИГОВИДЦАМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН.
— Мне это не годится, — сказал я, показывая ему сигареты.
— Забудь, слова на вывесках никогда не означают самих себя. — Он ткнул пальцем в клубы дыма за стеклом. — Взгляни. — Он открыл дверь. — И не на вывесках тоже. — Он пропустил меня и подтолкнул. — Я, кстати, сам фиговидец.
— Это как?
— Это, — он шагал к свободному столику, обеими руками расталкивая дым, — разделение труда. Бесплодных усилий нашего интеллекта. Одни — фиговидцы. Мы вынимаем из книг, как из шкатулки с двойным дном, потайные смыслы, при этом, учти, вытащить можем не то, что там лежало, а то, что у нас в рукаве. Что будешь пить? Не советую, коньяк здесь скверный. Что? — Он смерил взглядом худенькую, бледненькую официантку, которая если и выразила несогласие, то молча. — А ром пьёшь? Принесите, пожалуйста, ром. Другие — духожоры. Они препарируют смыслы, лежащие на поверхности. Расчленяют, перекладывают, сшивают наново — так, что получается уже не смысл, а концепция. Что то надругательство, что это, но разница всё же есть. У тебя египетские? Можно попробовать? Это правда, они с гашишем?
— Чуть-чуть.
— Спасибо. Так вот… ух, как пахнет… Разница как между этими египетскими и настоящим Египтом. Думаешь, это прямо оттуда?
— Это из фриторга. Откуда мне знать, где их делают?
— Ну ведь не в Египте?
Я пожал плечами. О Египте я слышал впервые в жизни. Это мог быть квартал, или провинция, или фабрика, или район чьих-то плантаций. Но и Фиговидец кое-чего не знал.
— А что такое фриторг?
— Профсоюзная торговля. Я, как ты понимаешь, не член профсоюза, но они иногда расплачиваются со мной бонами. Ну, это чеки, которые фриторг принимает к оплате вместо денег. В обычном магазине таких сигарет не купишь. Так у вас с духожорами вражда?
— Нет, — удивился он. — С чего бы.
— А табличка зачем висит?
— Она давно здесь висит. — Он отпил глоточек, поплыл довольной улыбкой. — Никому не мешает.
— Но кто-то когда-то зачем-то её повесил?
Он кивнул.
— Ну разумеется. Три поколения назад этот бар принадлежал человеку, у которого был заклятый враг, и этот враг был фиговидцем. Понимаешь?
— Не вполне, — сказал я. — Они что, оба ещё живы?
— Если бы они были живы, мы бы здесь сейчас не сидели.
Я сообразил.
— Наследники выполняют волю покойного?
— Какие наследники? Бар перепродавался сто раз кому попало. — Он вздохнул, поморгал, красивый голос стал подчёркнуто терпеливым. — Попробуй понять. Это богатые в Центре берегут свою кровь, родство, мы же — духовную преемственность. Эта табличка — традиция. Традиции нужно сохранять. Это касается и серьёзных вещей, и мелочей — зайди в Университет, ты увидишь, в той же аудитории, ту же скамью, на которой вполне мог сидеть твой прадедушка, и видел он те же самые стены и доску, что и ты сейчас. Зайди в писчебумажный магазин — и тебе продадут чернила и тетради в точности такие, как продавали сто лет назад. Да куда угодно зайди — в аптеку, в булочную, на почту… — Он запнулся. — Бланки для телеграмм второй год другого цвета, — признался он неохотно, с горечью. — Были бледно-фиолетовые, теперь голубые. Спасибо ректору. — Он негодующе смял салфетку. — Чего ждать от внука структуралиста?
Я засмеялся.
— А в Городе бы сказали: «Чего ждать от внука нувориша». Он сам, что, тоже структуралист?
— Это не смешно. Структуралиста в ректоры не выберут, слишком от них натерпелись. Хочешь сигарку? Может, он тайный структуралист. Приятный табак, да? Днём читает лекции по Веселовскому, а ночью, когда никто не видит, конспектирует Леви-Стросса. Теперь ясно?
— И ты веришь в такие вещи?
— Не то чтобы верю. Но мне нечего им противопоставить.
Я присматриваюсь и прислушиваюсь к людям вокруг. Они пьют медленно, говорят много, безостановочно обмениваются чьими-то давно мёртвыми именами. Голоса приглушены; многие держатся чинно, чопорно — как перед зеркалом. Их речь отличалась от того, к чему я привык. Они говорили быстрее, артикулировали чётче, иногда царапали мне ухо непривычно поставленным ударением, из пяти синонимов выбирали самый древний, давно вышедший из употребления даже в Городе, и строили фразу так, что она повисала в воздухе, словно написанная.
Несколько фигур явно выделялись на фоне этого благовоспитанного, подталкиваемого осторожными жестами журчания. Я приметил их сразу: полупьяная компания, в которой разговор то угрюмо погасал, то вспыхивал криками на грани скандала. «Не говори мне про Толстого!!! Не смей сравнивать это ничтожество с Достоевским!!!» — вопил один. «Никакого антропоцентризма! — завывал другой, размахивая пёстрым шарфом, как бичом. — Лучше уж писать от лица козявки или булыжника!» «Да пропадите вы пропадом! — неслось откуда-то из-под стола. — Литературе нужны свежая кровь и большие идеи, а не этот понос о русской классике!» «У кого понос, а у кого запор! — отвечали ему хором. — Ты уже написал первые буквы заглавия, идеолог?»
Фиговидец, который тоже прислушивался, фыркнул.
— Каждый может ошибиться, оценивая размеры своего, — он выдержал паузу, — таланта. Ты извини. Не знал, что они заявятся.
— Это что, ваши радостные?
— Радостные?
— Мы, за рекой, так называем психов.
— А! Остроумно. Нет, мы называем их убогими. Да они и не психи.
— А кто?
— Писатели.
Я очень удивился.
— Они что, ещё живы?
И он удивился.
— Ну как же, всегда есть какие-то живые писатели.
— Это тоже наследственное?
— Не обязательно. Писателем может стать каждый, кто ни к чему другому не пригоден. Если студента исключают из Университета за неуспеваемость, он сразу пишет роман.
— И что потом?
Он пожал плечами, мельком оглянулся.
— Сам видишь.
— Нет, с написанным романом.
— У вас ведь, на том берегу, есть дешёвые книги?
— И книги, и люди, которые их читают.
— Так откуда они, по-твоему, берутся?
— Я думал, это переиздания. Бог знает, когда и о чём они написаны.
— Да я про современную литературу, — сказал Фиговидец сердито. — Такие жёлтые дрянные книжонки про секс, вампиров, бандитов, коррупцию, политику и что там ещё на вашем берегу происходит.
— И я о том же. Но ты ошибаешься, ничего подобного у нас не происходит, то есть происходит, но совершенно не так. Эти книжки как сказки: приблизительно достоверные, что ли. Ты вправе ждать, что у Золушки будет одна голова, две руки, две ноги — но никто не ждёт, что во дворце она столкнется с какими-то реальными трудностями.
— С какими, например?
— Всё ж таки бал, — сказал я. — Протокольное мероприятие.
Фиговидец был так озадачен, что даже не улыбнулся.
— Ну и ну! А ведь они всё изучают, собирают материал… их специально возят каждые полгода в Дом Творчества, поближе к теме… Недавно пришлось ещё один дом под Архив отдать, столько накопилось черновиков и заметок.
— А зачем они хранят черновики?
— Писателям запрещено жечь личные архивы.
— Почему?
— Это ущемляет права будущих филологов.
Я посмотрел на сидящих повсюду филологов. Я не мог отличить фиговидцев от духожоров, и мне было любопытно, сможет ли это сделать мой новый знакомый, существуют ли вообще какие-то внятные наметанному глазу различия. За соседним столом сидели две девушки; чужое лицо просияло мне знакомой смущённой улыбкой, и я почувствовал сквозь дым запах спальни, в которой эта улыбка меня встречала.
— И письма нельзя жечь?
— Особенно письма.
— И они соглашаются?
— А кто их спрашивает? — Фиговидец безжалостно ухмыльнулся. — Лучше учиться надо было. — Он думал о другом. — Как же там всё на самом деле? — задумчиво протянул он, поглядывая на меня, но словно бы и не спрашивая: мыслит человек вслух и мыслит.
— Боюсь, что не так, как видится из Дома Творчества.
— Ладно, — он расплатился и встал вслед за мною. — Я тебя ещё увижу?
— Хорошо, — сказал я, — но меня пару месяцев не будет. Еду в Автово.
Он смотрел, не понимая.
— Пока доеду, пока вернусь.
— Два месяца, чтобы доехать до Автово и вернуться?
— Да. По предварительным оптимистичным расчётам. Джунгли, дикари, отсутствие проложенных дорог. Тропическая лихорадка. Это вносит коррективы.
— Возьми меня с собой!
Я протянул ему руку, прощаясь.
— А тебе придётся-таки.
— Почему это?
— Да потому, — сказал Фиговидец, — что у меня есть карта.
— Эка невидаль.
— Полная древняя карта. С Автово и всем остальным.
— Покажи.
— Пообещай, что возьмешь меня с собой.
Я даже улыбнулся.
— Пообещать не трудно.
— У вас недостаточно обещания? Что вы ещё делаете, пишете контракт?
— Мы не делаем ничего.
— Тоже метод.
Он дал мне свой адрес, и через несколько дней, лёжа на кушетке в комнате, из окон которой видна была та же церковь, что из кабинета Аристида Ивановича, только с другой стороны, я увидел, как он прошаркал (намеренно, с видимым удовольствием волоча крепкие длинные ноги) к бюро, и из охапки вынутых бумаг выпорхнула сложенная жёлтая карта. Не разворачивая, Фиговидец помахал ею в воздухе, и тот наполнился жёлтым глянцевым блеском.
4
В аптеке я купил упаковку аспирина и кокаин. Это было утром. Утром следующего дня бригада Миксера довезёт нас на своем драндулете до границы. Попытки сторговаться на поездку до конечной цели — максимум час ехать, безнадежно уверял Фиговидец — ни к чему не привели. «Я своих парней на край света не пошлю, — угрюмо сказал Миксер. — Голову ни за что в Джунглях сложить. Час, скажи, пожалуйста! Ты, — обернулся он ко мне, — видел, чтобы человек отсюда поехал в Автово и нормально вернулся?»
Такого я не видел, поэтому замолчал и кивнул Фиговидцу, чтобы он замолчал тоже. Фарисей понял, но продолжал ныть. Тогда стоявший рядом Муха взял его за руку и оттащил в сторонку — где он ещё долго увещевал Муху и пространство, приводя факты из далёкого прошлого. В головах этого народца с В.О. прошлое очень живучее.
Когда я привёз Фиговидца на нашу сторону (вышло проще, чем думали: его переправили контрабандисты, с партией женского белья и кофе) и поместил в своем апартаменте, Муха и Жёвка не отходили от него ни на шаг. Они таращились на него, как дети. Они трогали, щупали, вскользь, словно нечаянно, задевали плечом и руками — и снова прикасались тем или иным способом. Но и он вёл себя не лучше. Не желая выглядеть назойливым ребенком («почему» и «что это» так и рвали его плотно сжатые губы), он балансировал между самодовольным любопытством туриста и откровенной учёной любознательностью и, задав-таки свои «почему» и «что», пускался в объяснения, сравнения, примеры из книг, топил вопрос в следующей за ним цитате — которая когда-то, вероятно, была на этот вопрос исчерпывающим ответом.
Он был с рюкзаком, в ватнике; на длинном носу укромно гнездились очки. Оказалось невозможным убедить его их снять. Он послушно снимал и клал очки в карман, а через две минуты они снова красовались на своём месте. Если не тонированные, не затемнённые, с очевидными диоптриями очки аборигенов злили, то ватник приводил их в состояние шока. Экипировку довершали несколько толстых тетрадей и связка карандашей. («Для полевых лингвистических исследований, — сказал Фиговидец спокойно. — Если по уму, нужно было взять и каталожные карточки, но они не влезли. Потом систематизирую».) После двух робких попыток прогуляться (в первый раз его еле отбил у детей Муха, во второй их обоих я отбивал у подвыпивших дворников) я велел ему не высовываться из квартиры дальше балкона, где он и уселся с подзорной трубой, которую тут же пришлось отобрать.
— Кому какое дело? — взорвался он. — У нас никто не интересуется, в чём ты ходишь и чем занят на своем балконе. Все люди разные: кто-то дружит с пижонами, кто-то — фольклорист, один в сюртуке, другой — в ватнике, или попеременно. — Он машет сигаретой, набирает в себя воздух, давится, перхает, изнемогает, и на выдохе негодование вылетает из него клубом дыма. — Если я ношу сатиновые трусы в горошек, — вопрошает он, гримаской давая понять, что пример с трусами — риторический, — повод ли это наподдать мне по жопе?
— Да, — говорю я.
— Фиг, миленький, — говорит Муха застенчиво, — у вас одеваются, чтобы отличаться, а у нас — чтобы быть похожими.
— Я и надел ватник, чтобы не отличаться. Ходит же народ в ватниках?
— Нет.
Он подвигал губами, прожёвывая это «нет», жёсткое и жилистое. Ему не хотелось глотать.
— А труба чем помешала?
— Люди решат, что ты смотришь к ним в окна, — объяснил Муха. — Ну, подглядываешь. Решат, что ты извращенец или хочешь что-то украсть.
— Зачем мне подглядывать? Как они вообще увидят, что я тут сижу?
— Они увидят всё.
Я видел, как он померк и напрягся, как проступил бледной краской стыд будущих ненужных унижений и кожа треснула морщинами под напором всего, чего он не знал, не ждал, не предчувствовал, не мог допустить или, допустив, связать с собой. Ему было ещё только неуютно, но завтрашний день уже искажал горем его лицо.
— Я здесь чужой, — сказал Фиговидец покорно.
— Что же будет там, где мы все чужие? — сказал Муха с огромным удивлением, впервые оценив масштаб проблемы.
Я посмотрел на Фиговидца.
— Ты можешь вернуться.
Фарисей гордо, отвергающе дёрнулся и налетел на один из трёх привезённых утром ящиков водки.
— Это что?
— Твёрдая валюта.
Фиговидец нагнулся, сунул руку, в руке появилась бутылка, в бутылке забулькало.
— Твёрдая валюта?
— Тверже не придумаешь, — успокоил его Муха. Он повернулся ко мне: — Трёх хватит?
— Нам больше всё равно не взять.
— Ладно, ещё же боны. Миксер говорит, что в принципе — (против его воли, это слово сделало отстранённой, подчеркнуто теоретической всю фразу) — их берут.
Он опускается на колени над картой, над красками и буквами, которые Фиговидец разметал по полу. Сияющая гармония святыни (карта лежит легко и просто, как умеют лежать только мраморные тела статуй или отдыхающие тела животных — как жизнью, кровью и воздухом наполненные незнаемым ими совершенством) озаряет его склонённое лицо и принимает в себя, растворяя, полную смиренной радости фигурку. Губы его шевелятся, словно читая; я уверен, что он не видит букв, не может сложить из них ни одного названия, он ослеплён ими, ему приходится зажмуриться, прежде чем начать рассуждать.
— Логически у нас два пути, — рассуждал Муха. — Ехать вдоль реки, полосой отчуждения, или ехать на север, на Гражданку.
Фиговидец поднимает от карты недоумевающие глаза. — Нет, — говорит он, — какая же тут логика? Зачем ехать на север? Мы вот здесь? — уточняет он, аккуратно ставя палец. — Почему бы не поехать сразу направо? — (Палец ползет вправо.)
Муха соображает, соотнося незнакомые очертания со знакомым ландшафтом.
— Не, там же Джунгли.
Фиговидец пожал плечами.
— Твоя проблемы в том, что ты не воспринимаешь это как проблему, — заметил я.
— Пойдём-ка, — сказал Муха, подумав. — Мы их тебе покажем. Заодно заберём Жёвку из школы. — Он вопросительно мне моргнул. — Ты напишешь поручительство?
— Уж лучше его выкупить. В счёт наследства.
— Ага. — И он добавил, обращаясь ко мне, но глядя на Фиговидца: — И дай ему свою коричневую куртку. — И Фиговидцу: — Это недалеко.
Это было недалеко, но нам пришлось обогнуть китайский квартал, полоскавшийся на ветру — как флажки или бельё — резким чужим шумом. Фиговидец жадно косился в сторону этого шума, на уцелевшие грязно-жёлтые куски старой развалившейся стены, на бараки, и пагоды, и снующих людей, но терпел. Он даже не заикнулся о своем явном желании подойти ко всему этому поближе. Однако Муха перехватил и его взгляды, и желание.
— Китайцы — крысы, — сообщил он. — Грязные, вшивые, тифозные, подлые крысы. Пожалеешь, пустишь куда-нибудь в уголок китайца — а через день у тебя там будет двадцать пять китайцев, а через неделю тебя из твоего же дома на улицу вышвырнут. А ты помнишь, — (это уже мне), — как раз когда мы учились, был эксперимент по совместному обучению? Они стукачи все до последнего, а как драться — так только вдесятером на одного. Читать-писать еле выучивались — подлые, а тупые. Из каких они пещер к нам повылезли, хотел бы я знать.
— Ты ошибаешься, — сказал Фиговидец спокойно. (Впервые столкнувшись с народным предрассудком, он с терпеливым ещё недоумением вглядывался в его лицо.) — Это очень древняя и культурная нация.
Муха сострадательно улыбнулся.
— Так то, наверное, другие. — Он задумался. — От этих воняет, — выложил он последний и (он должен был так думать) наиболее убедительный для фарисея аргумент. Бедный Муха. Для фарисея он сам ощутимо пованивал.
Как и всё вокруг. Дорога, не разделённая на проезжую часть и тротуар, была густо усеяна мусором, в котором преобладали полиэтиленовые пакеты и тусклые клочья целлофана. В густой грязной воде луж плавало столько окурков, как если бы их высыпали туда намеренно. С просохших участков ветер поднимал мелкий лёгкий сор и песок, щедро оставленный зимой. Тухлые грязные запахи были столь сильны, что казались овеществлёнными, валяющимися повсюду, как гниющая падаль. Машины, проезжая, поднимали зловонные тучи. Люди — на этой дороге их почти не было, а кто был, торопился поскорее уйти — походили на кульки, скрывавшие под серой скрученной бумагой одежды всё тот же смрад. Некоторые машины норовили промчаться так, чтобы забрызгать грязью пешеходов; вслед им летели проклятия и камни. Муха первым свернул на тропинку, петлявшую в истерзанном кустарнике. Впереди были мягкое ровное тепло, усиливающийся запах земли, и мёртвая жёлто-коричневая трава показала свой юный зелёный подшёрсток.
Некрупные чёрные птицы бродили по траве, не боясь и что-то выискивая. Небольшой пруд стоял раствором жёлтой глины, в бледном небе стояла легкая муть. Пронеслось дуновение настолько слабое, что направление ветра определить по нему было невозможно: словно воздух, долго-долго сдерживавший дыхание, глубоко вздохнул и вновь замер. Метрах в ста начинался лес: то угрюмо-серый, то аспидный сплав искорёженного железа, бетона, кирпича и пока мёртвых деревьев.
— Летом хоть как-то выглядит, — сказал Муха. — Зелень, чертополох, то-се. В августе ходят за грибочками, кому жизнь не дорога. — Он помолчал, пошуршал ботинком по траве. — Сталкер помер недавно.
— У нас тоже такое есть, — сказал Фиговидец, невозмутимо озираясь. — Половина острова, весь западный край. В Джунглях нет ничего опаснее змей, а они не ядовитые. Эти места мало-помалу распахивают под огороды.
— О! — оживился Муха. — Огороды везде, я же говорил. У вас какие сорта выращивают?
— Я в сортах не очень разбираюсь. Применительно к климату.
— А чего больше — травы или мака?
Фиговидец задумался:
— Больше всего, полагаю, картошки. Потом капуста.
— Какая капуста?
— Белокочанная, кольраби, брюссельская, — добросовестно перечисляет Фиговидец и запинается, глядя в округлившиеся глаза моего приятеля. — Цветная, — шепчет он напоследок, и невнятная скоропись его интонации неотличима от горестных каракуль (когда горе боится себя обнаружить) «прощай навсегда» тех, кого не любят.
— Они выращивают на огородах овощи, — говорю я Мухе.
— А что ещё можно выращивать на огороде? — поражается фарисей.
— Коноплю, — машинально отвечает Муха. Он похож сейчас на человека, который внезапно узнал, что говядину можно не только есть, баб — не только ебать; вся его жизнь в этот миг откровения расплавляется, потеряв хребет, в вопрошающем взоре того, кто со всем перечисленным делал и делает что-то иное, непознаваемое.
Фиговидец переварил коноплю значительно бодрее, чем Муха — капусту и, куда-то в мыслях перескочив, поинтересовался, нельзя ли нанять машину, — в самом-то деле — поехать вдоль реки.
— Про вдоль реки забудь, — говорю я. — Ни один шофёр не согласится.
— Может, обратиться на первых порах к властям? За содействием. Знаете, как прежде, в настоящих экспедициях.
Муха сразу оправился.
— Ну ты точно ребенок, — сказал он. — Кто же обращается за содействием к властям?
— От властей наоборот откупаются, — добавил я. — Чтобы они не вздумали содействовать.
Фиговидец не спросил «почему?» Я заметил, что улыбнулся он скорее с пониманием, устало, согласно. Отвернувшись к лесу, он следил за птицами, далёким движением облаков, за тенью. Он видит, что я за ним слежу, но ему всё равно: даже если он и притворяется, то притворяется хорошо. На Муху он не реагирует искренне: как на ребенка или собаку. Он смотрит на небо, теоретическое знание о котором (небо то же самое) не совпадает со свидетельством встревоженных чувств (небо другое, чем над В.О.; ничего общего). Провонявшее от соседства со свалками земли, оно висит над нами старой половой тряпкой, из него каплями цедится жирная вода. Муха поднимает обломок кирпича. «Доброшу до прудика?» — спрашивает он сам себя. Воздух перед дождём загустел, даже камню тяжело лететь.
Школа набросилась запахами: в левую ноздрю — ядовитый запах хлорки, в правую — едкий запах мастики. По коричневому линолеуму коридора неслась завуч: тяжёлая, мощная, неизменившаяся; откинув вздыбленную золотую лаву перманента; в высоченных узких сапогах, с хлыстом в руке. Хлыст нежно, нервно гулял по слитому с ногой голенищу.
Взрывной волной рефлекса нас разнесло по стеночкам. Муха, спасая Фиговидца (есть у него эти рефлексы, нет ли), толкнул его так, что я едва успел сунуть ладонь фарисею за спину, останавливая в нескольких сантиметрах от стены. Впитавшая тысячелетия ненависти и страха, стена сочилась потом, слюной, жиром, отслаивалась ороговевшей кожей, спёкшейся кровью; в её липкую, жадно дышащую поверхность глубоко ушли мёртвые мухи.
— Родители? — на ходу каркнула завуч. — В учительскую! — Она указующе взмахнула хлыстом.
От движения хлыста частицы воздуха бросились врассыпную, и я увидел, что Муха затрясся. Позже, в учительской, пока составлялись бумаги, он сидел не шевелясь, окоченев, несчастный, немой и вспотевший, как когда-то на уроке, и смотрел, боясь оторваться, в пол — лишь бы не увидеть те же эмалевые ледяные глаза. Фиговидец покоился на своём стуле аккуратно и угрюмо; я курил и подписывал бесконечные бланки. По углам пыльной задымлённой комнаты лежали ворохи страшных воспоминаний; серые портреты на стенах (классики, учёные, выдающиеся педагоги) глядели зло и тускло, как фотографии разыскиваемых преступников. Учебники на корявых полках затаились, карауля что-нибудь зазевавшееся: муху, руку. В горле першило.
Бескрайне раскинувшись за чёрным столом, завуч смотрит на меня с любопытством — это смелое, простодушное в своей открытости, грубости любопытство, интерес человека, который не умеет бояться. Хлыст лежит перед ней, такой мирный, пасторальный, словно и не он полчаса назад разгуливал по спинам учеников и учителей. Мирный, пасторальный — но он был не сонный, нет. Он поработал, ему предстояло ещё работать; он отдыхал, но был внимателен.
Завуч не боялась меня, я не боялся её — но и только. Зло, которое я мог причинить ей, и зло, которое она могла причинить мне, находились в примерном равновесии; отлично это понимая, она не задиралась. Если применительно к таким людям можно говорить о высокомерии, то ее молчание (молчание, своего рода вежливость) было высокомерным. Мы ничего не могли дать друг другу, а отнять не получилось бы. На её лице проступила смутная улыбка, словно наблюдение за мной дало ей наконец какую-то выгоду, неосознаваемое ранее преимущество, что-то, даже самого бесчувственного человека заставляющее смягчиться. Но в этот момент Фиговидец неосторожно качнулся на скрипнувшем под ним стуле.
— Не ломать мебель! Сесть ровно! Спину прямо! Ноги вместе!
Она выкрикнула это автоматически, не просто уверенная, что ей подчинятся, но ничего не зная о возможности испытать какую-либо неуверенность в чем бы то ни было, особенно в этом. Не следовало приводить сюда фарисея, показывать школе чужака, провоцировать и её, и его. Но фарисей (он не сказал: «да как вы смеете! что себе позволили!» или: «позовите директора» или: «молчи, сучка») промолчал и застыл в рекомендованной позе. («Тюрьмы и школы по сути своей везде одинаковы, — скажет он потом. — Большая или меньшая степень грубости никого не обманывает».) Конечно, хлыстом его никогда не били и в таком тоне не разговаривали. Но и хлыст, и предельная грубость не удивили, оказавшись («по сути своей», — подчеркнёт он, криво улыбаясь) чем-то знакомым и интуитивно ожидаемым. У него не нашлось сил сопротивляться въяве тому, что раз за разом, сминая сопротивление, безжалостно расправлялось с ним в давних детских кошмарах.
Он остался внутри кошмара, даже выйдя на крыльцо, отыскав небо на привычном месте, перешучиваясь с ожившим Мухой, — и как попытки выбраться из болота заставляют увязать всё глубже, так эти будничные шутки и реплики тянули его в топи страха, на миг показавшего себя пузырями немотивированного зла, густой жижей насилия. Усилие немедленно всё забыть только раззадоривает память, старит его лицо. (Как-нибудь потом я скажу ему, что старческое беспамятство не разглаживает морщин.) Его чёткий профиль оплывает, красивые губы изъязвлены кислотой времени, и вот он — такой, каким будет через сорок лет, — подносит к сигарете огонь боязливым движением гнусного, жадного старика.
Стайка ребятишек выскочила на волю следом за нами. «А хочешь мордой об асфальт?» — бодро крикнул один другому, и остальные загоготали, теснясь и исподтишка дергая травимого пацана за куртку. Выскочил какой-то колченогий, седой, перекошенный ужасом, со свежим укусом хлыста на щеке. «Звонок был, звонок! — вопил он. — Живо все в класс на контрольную!» Какая-то женщина («мамашу чью-то к завучу вызвали», — прошептал Муха) подошла и замерла, глядя, как колченогий, сам уворачиваясь от ударов, отскакивая, наскакивая и мелко подпрыгивая, прицельно бьёт своих учеников стиснутым кулаком по ушам. («Оглох? Оглох? Так сейчас оглохнешь!») Наконец все, включая женщину («когда моих раз вызвали, потом так били, так били, а с ними-то что там делали?»), исчезли за хлопнувшей, как пасть, дверью, и быстрый тревожный шёпот Мухи окреп до нормального, вместе со звуком набирающего уверенность, голоса. «Как по-другому с гадёнышами?» — сказал он Фиговидцу. «Помнишь, это же наш математик?» — сказал он мне. Я заметил крупную ворону, которая, как на качелях, раскачивалась на ветке дерева неподалёку. Она всё ещё качалась — на другой ветке другой берёзы, возможно, и ворона была совсем другая, но с тем же острым наглым взглядом, — когда мы вслед за своими ящиками и барахлом забирались ранним утром в автобус дружинников.
— Если что, посидишь на транках, — сказал я провожавшему нас Миксеру. — Но лучше будь осторожен.
Миксер заморгал, что-то проглотил, махнул лапой. Мы сели и поехали.
ЧЕРЕЗ ЧАС
1
Я сел на ящик с валютой и подставил лицо солнцу. Сидеть было неудобно, солнце грело уже сильно; в новом сияющем мире, который я скорее чуял, чем видел сквозь сомкнутые веки, было то же напряжение, что и в моём теле. За моей спиной ребята скрипели картой. («Даже на твоей карте Джунгли закрашены серым, — шептал Муха. — Неужели они уже тогда были?» «Это была промзона, а не Джунгли, — шептал Фиговидец. — Заводы, железная дорога, тюрьмы. Видишь, написано ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА? Видишь, по серому дороги проложены? Уже сейчас, — зудел, шептал Фиговидец, — были бы на Охте, если ехать как положено».) Я вслушиваюсь в их шёпот. Мы сидим на ничейной опушке, и Муха рассказывает Фиговидцу всё, что мы знаем о наших ближайших соседях. (Текстиль, колбаса, молочная промышленность, ортопедический институт. «Больница у нас своя, ты что, — шепчет Муха, — как же без больницы. Но если нужен протез, только у них выписывают. Слышал анекдот про врача с Гражданки?»)
— Почему вы шепчетесь?
Они дружно завозились.
— Так как-то, — смущённо, смиренно сказал Муха за всех. — Непривычно.
Он прокхекался и начал анекдот, стараясь не сбиваться на шёпот («у врача с Гражданки нос отвалился»), и Фиговидец, тоже стараясь не сбиваться, направлял его вопросами («у вас протез — это протез, или как огород?»), и оба быстро сбились и снова шептали, нервничая и заводясь от собственного шёпота. И росло, отвердевало молчание Жёвки, втиснутое в их шуршащее бормотание, как камень в ручей.
В последний раз вернувшись из школы, Жёвка вынес во двор жирные растрёпанные учебники (учебники нужно было сдать), старые тетрадки, ворох непроверенных диктантов и тестов, жёлтый хлам — и спалил всё, отогреваясь у этого огня, в окружении остолбеневшей малышни. После чего впал в прострацию.
Он не отказывался пить и есть, и выполнять поручения (Муха гонял его безжалостно, добиваясь терапевтического эффекта в ущерб делу, ведь даже с поручениями «подай», «принеси» Жёвка справлялся через раз), но что-то в нём заклинило. Движения большого нескладного тела заедало, звуки не могли протолкнуться сквозь глотку, взгляд сам не верил, что видит, — и, вероятно, действительно не видел. Произошедший в нём разлад был нагляден, как руины, оставленные землетрясением на месте отлаженных инженерных конструкций, и тот, кто, помня вчерашнюю упорядоченность, намеревался здесь пройти, рисковал сломать шею.
Мы мешкаем на ничейной, брошенной опушке. Судя по искорёженным лавкам и обугленным кускам дерева (фрагменты, обрезки, когда-то бывшие строеньицами детской площадки), в теплое время года сюда приходят посидеть парочки и компании. Обычное зрелище: скамейка и кусты цветущей сирени утопают в кучах мусора, на скамейке обжимаются двое, вокруг лежит слой говна, бумаги, пакетов, пустых пластиковых бутылок, битого стекла — бурый перезимовавший мусор, наиболее выносливая часть которого встретит ещё одну зиму и ещё. «Ты улыбаешься?» — спрашивает меня Фиговидец; его дыхание шевелит мои волосы, и, даже не оборачиваясь, я чувствую улыбку на его губах, хотя они меня не коснулись. «Это нервное, — отзывается Муха. — Идём?»
Идти, мы все понимаем, нужно, но это та неизбежная вещь (как смерть или история), принимать участие в свершении которой никому не хочется. Выбравшись из кустов, мы ещё какое-то время жмёмся на их фоне. Мы на земле соседней провинции. (У нас мирные тесные связи: текстиль, ортопедический институт и т. д.) Всем не по себе. Муха покрепче натягивает на уши круглую, по голове, вязаную шапочку. «Может, тут про мирный договор не все знают, — тоскливо говорит он. — Ходил разговорчик, что в прошлом году на границе тёрки были, фуры ихние наши менты пограбили». «Мы ведь без фуры», — замечаю я. И все смотрят на двухколесную тележку, на которой один на другом составлены наши ящики. Фиговидец поправляет свой рюкзак. «Соседи куда опаснее совсем уж далёких народов, — кивает он, — если те, конечно, не проводят колонизаторскую политику». «С ментами нас не спутать», — успокаиваю я. «На определенном этапе межнационального конфликта социальная и профессиональная принадлежность уже не имеют значения. — Фиговидец с издёвкой смотрит на Муху. — Вы их считаете соседним народом или соседним государством?»
— Соседней провинцией, — говорю я. — Они не должны сильно от нас отличаться.
— Не должны. — Муха берет бинокль. — А отличаются или нет — скоро увидим.
Муха берет бинокль, сосредоточенно смотрит в одну точку.
— Не понимаю, — говорит он. — У нас Сампсониевский — и здесь Сампсониевский. — Он протягивает бинокль мне. — Посмотри. Вон тот серый дом, на нём табличка.
— А тебе не пришло в голову, что это один и тот же проспект? — интересуется Фиговидец. — Просто длинный?
Муха молчит. Я смотрю в бинокль. Серый дом — тяжёлый, прочный и некрасивый. На грубой кладке наростами и бородавками выпирают балконы. Самый нижний полуобвалился. На балконе третьего этажа стоит ведро с сосенкой, на балконе четвёртого свален хлам, на балконе пятого мужик в клетчатой рубашке, перегнувшись, плюёт (я пригляделся повнимательнее: плюёт или блюёт?) вниз.
— Неужели это правда? — говорит Муха. (Он опять шуршит картой.) — Я хочу сказать, неужели всё правда так, как здесь нарисовано?
— Разумеется, — говорит Фиговидец важно.
— А где мы сейчас?
Ответ на этот вопрос даётся фарисею уже не столь легко. Он пыхтит, смотрит то вокруг, то в карту и, наконец, дёргает меня за полу куртки.
— Какой там номер дома на табличке?
Я покидаю мужика на пятом этаже (все-таки он плюёт), нахожу табличку. Никакого номера на ней нет, только название улицы. В витрине бельэтажа вывешены рекламные плакаты эфедрина, антибиотиков и средства от перхоти — по крайней мере, именно так можно понять слоган «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» и иллюстрирующую его картинку.
— Я аптеку вижу.
— Аптека! — закричал Муха. — Значит, точно и здесь люди живут!
— Дай мне. — Я изъял карту у Фиговидца и, сложив, сунул её себе во внутренний карман. Карман застёгивается на две пуговицы, между которыми вышита крошечная золотая лиса — марка портного. Тёмно-зелёная стёганая куртка за десять лет пообтёрлась, но из неё не выпало ни одной нитки. — И помалкивайте, что она у нас есть. Жёвка! Тебе всё понятно?
Жёвка мелко, несколько раз кивает, силится что-то сказать, и я не уверен, что он кивает мне, в ответ на мои слова; не уверен, что он вообще меня услышал.
— И валюту нужно замаскировать, — вставляет Муха. — Вдруг у них нет понятия частной собственности? Отберут.