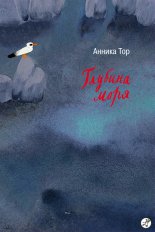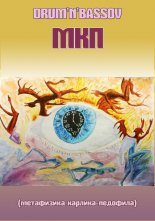Записки брюзги, или Какими мы (не) будем Губин Дмитрий

Я вот на днях пытался объяснить жене, что двадцать пар пляжных шлепок в гардеробе – это перебор (ну, шлепки в полосочку, плюс желтые с прозрачными ремешками, а также кожаные красные, и фиолетовые резиновые с цветочком между пальцев, и еще одни голубые, и одни розовые – это куда ни шло, а вот зачем, дорогая, тебе целых три пары одинаковых черных?) – но тут же мгновенно получил в ответ, что у Сары Джессики Паркер в сериале было 500 (пятьсот, дорогой!) туфель, включая изрядную часть от Джимми Чу и Маноло Бланик, которых у моей половины, между прочим, пока что нет ни одной.
И я прикусил язык.
Потому что для толкового ответа религиозному адепту нужно знать Священное писание не хуже адепта.
И выход «Секса в большом городе» на большой экран будет в этом смысле последней для мужчин возможностью понять своих женщин. И если просмотр вечер за вечером сериала вместе с женщиной выглядел, с точки зрения классической мужской психологии, не по-пацански, то вот в кино жену или подругу пригласить – это нормалёк.
Айда в кино, ребята.
2008
Акции царствия небесного
Быть атеистом в России становится не то чтобы опасно, но не уютно. А быть верующим означает вести себя как все: то есть откупаться от бога.
Не так давно я невольно обидел двух женщин, с которыми ехал в поезде. Им было под пятьдесят, и они были подруги. Одна, которая постройнее и поухоженнее, была пообразованнее и посостоятельнее. Другая была совсем простой. Словом, чеховская пара, Толстый и Тонкий, только в зеркальном (включая гендерное) отражении.
Мы ехали с ними из Петербурга в Москву и довольно мирно болтали. И вот, когда речь зашла о пасхальном чуде нерукотворного огня (дело было сразу после Пасхи, и телеканалы взахлеб показывали верующих в Иерусалиме, которые проводили благодатным – по их мнению – огнем по своим рукам и лицам, избегая, впрочем, проводить по волосам, усам и бородам), я довольно скептично об этом отозвался.
Я сказал, что был случай, когда бармен неловко опрокинул мне на рукав горящий абсент, но я преспокойно сидел и ждал, покуда он, кудахча, не собьет пламя тряпкой, поскольку знал, что спирт не горит, а горят пары спирта – то есть, исходя из неопалимости пиджака, все же не делал выводов о святости бара.
– Вы богохульствуете! – вскричала та женщина, что потолще.
– Вовсе нет, – ответил я. – Просто я знаю химию. Если пасхальный огонь являет собой чудо, то есть нарушение законов природы, эту отмену можно зафиксировать – измерив, например, температуру огня. Меня интересует мнение ученых, а не паломников. Я, знаете ли, атеист.
– Сатанист ты, – сказала толстая, логично (для нее) перейдя на «ты» (далее она не произнесла ни звука, даже при прощании: я для нее перестал существовать).
– Вы агностик? – спросила тонкая. – Как Гайдар?
Мы вышли с ней из купе, где благодатью больше не пахло. Я объяснил, что агностики – это те, которым не хватает данных ни признать бога, ни отвергнуть. А я именно атеист – примерно такой же, каким она является по отношению к Зевсу, Озирису или Вицлипуцли. И атеизм мне много что дает: например, возможность смотреть на церковь как на социальный институт, а на религиозные тексты как на тексты (и, должен сказать, легенды и мифы Древней Греции в изложении Куна мне кажутся более логичными, чем легенды Ветхого Завета в изложении Моисея).
– Так нельзя, – сказала тонкая. – У нас православная страна. У нас президент православный. Вы, получается, против народа. Сходите в церковь, поставьте свечку. Может, на вас снизойдет. На меня снизошло, и я просветлела.
– А что именно на вас снизошло? – спросил я, понимая всю обреченность вопроса. – Буддизм? Ислам? Христианство? Какой именно бог, и в каком именно виде? Католическом, протестантском, лютеранском, свидетелей Иеговы, адвентистов седьмого дня, баптистском? На меня тоже снисходит – когда я жену целую или закатом любуюсь. Вы мне можете хотя бы сказать, в чем символ вашей веры? Что вы вообще под православием понимаете?
– Это душой чувствовать надо, – сказала тонкая, глядя на меня, как врач на безнадежного больного. – Если вы русский, то православный. Поставьте свечку!
В общем, женщина не врала.
По данным центра Юрия Левады, начиная с 1999-го, более 50 % россиян считали себя православными (в 1989–1990-м – 30 %).
В 2002-м (данные РОМИР) православными себя считали уже 70 %, при этом из них только 51,3 % верили в бога.
То есть безбожный православный – это и есть ключевая фигура нашего времени. Вот он ходит в церковь (на Пасху – святить куличи и яйца, и еще на Рождество, а далее – когда окажется рядом, то есть по случаю), вот он крестится и кладет поклоны, передает записочки за упокой и здравие, а главное – ставит свечку, то есть отдает деньги за веру Он обращается к священнику, дабы тот крестил, венчал, отпевал. Он «что-то такое» в церкви чувствует. И, главное, он чувствует, что те, кто чего-то такого не чувствуют, – что они не такие. Они как бы не русские. И этих ненастоящих русских вокруг много: начиная от «плохих» мусульман (потому что есть еще «хорошие» мусульмане, у которых есть верховный муфтий и татарский президент Шаймиев: эти «наши», правильные, государственные) до католиков, которые пытаются перевербовать в свою бесовскую веру смущенные души ну в каждом буквально храме. (Я преувеличиваю? Ничуть! Последний раз об опасности прозелитизма, то есть обращения в свою веру на чужой канонической территории, мне говорил архиепископ Волоколамский Иларион, еще недавно бывший архиепископом Венским, – то есть занимавшийся в Австрии, с моей точки зрения, примерно тем же, чем католики, с точки зрения владыки Илариона, занимаются в России. Когда же я ему это заметил, он сказал: «В отличие от католиков, православные в чужом храме не проповедуют». Я вот все пытаюсь отыскать: где, в каких православных храмах ксендзы охмуряют Козлевичей?!)
Не буду утверждать, что перечисленные выше обряды наш средний православный совершает механически: вовсе нет. Например, он искренне и жарко молится (или, по определению писателя Амброза Бирса, просит отмены законов Вселенной в пользу одного признающегося в своей ничтожности просителя): чтобы господь помог сдать сессию, не дал уволить со службы, излечил паховую грыжу, склонил банк на выдачу кредита, вразумил сына (мужа, тещу, жену), а еще оставил место на паркинге перед офисом.
То есть церковь для среднего православного является местом совершения сделки. Я тебе – свечку, ты мне – выполнение желаний. О да, этот средний православный (как и вообще все среднее) не слишком умен, начитан, просвещен, – но он невероятно, фантастически гибок, потому что опыт всех предыдущих поколений научил его: не прогнешься – не выживешь.
Он знает (точнее, «что-то такое чувствует»), что в системе социального распознавания «свой – чужой» «своим» тебя делают не убеждения и разум, а соблюдение внешних формальностей. Сегодня, чтобы выглядеть «своим», нужно быть крещеным и пару раз в год ходить в церковь: атеиста в «Единую Россию», может, и примут, но в политбюро (или как там оно называется?) ему ход заказан.
Точно так же во времена юности моих попутчиц для социальной стратификации было важно вступать в пионерию, комсомол, в партию, сдавать Ленинский зачет и посещать Ленинскую комнату со строгой иерархией чинов, напоминающей девятиуровневую небесную канцелярию (Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы – интересно, кто-нибудь сегодня еще верит, что Там, Наверху все устроено именно так?).
Чтобы считаться в СССР своим, в построение коммунизма было верить не обязательно – примерно как в бога сейчас – но важно было соблюдать обряды. И – существенный момент! – «душой чувствовать», что Ленин хотел как лучше и что в коммунизме «что-то такое есть».
Чувствование «душой» (а не рассудком) вообще очень помогает находить спасительную тропинку в окружающем тебя социальном буреломе.
Система распознавания «свой – чужой», так легко воспринимаемая моими согражданами в ущерб поиску истины, по причине чего в России равно легко устроить на месте храма бассейн, а на месте бассейна храм (я даже думаю, что и бассейны, и храмы у нас надлежит делать разборно-сборными) – она не есть результат добровольного общественного договора.
Она есть результат директивы, спускаемой сверху российским государством, то есть труппой людей, использующих власть в собственных интересах. Попробую показать на примере.
В 2003 году тогдашний президент России Владимир Путин, встречаясь с тогдашним главой Русской зарубежной православной церкви митрополитом Лавром, произнес примечательную фразу: «Нет большего блага для церкви, чем служение родине». К 2003 году Владимир Путин был воцерковленным православным: нам, во всяком случае, показывали его в храме со свечой, и рассказывали, что у него есть духовник – наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон (тот называл президента «искренне верующим и знающим Бога»). Причем православным Владимир Путин был новообращенным, поскольку большую часть жизни прожил коммунистом и атеистом, без чего его не взяли бы в КГБ (вариант, что Владимир Путин всегда был тайным православным, я с негодованием отвергаю: тогда получается, что он изнутри КГБ работал на развал СССР, а о развале СССР Владимир Путин всегда искренне сожалел). Это я пишу безо всякой задней мысли или, упаси боже, издевки: путь из Савлов в Павлы предпочтительней обратного хотя бы потому, что на Савле есть кровь, а на Павле – нет. Просто новообращенным свойственно говорить глупости: знаю, сам таким был. Но умный священник глупости поправляет.
Однако главе российского государства никто не возразил, сказав, что нет большего блага для церкви, чем служить богу; а что до родины – так ведь в христианстве «несть эллина и иудея», и на том свете паспорта не спрашивают, в чем у Владимира Путина, как искренне верующего, будет еще возможность убедиться. И что вот именно эта интернациональность христианства – вне наций, границ, государств, вне родин – и сделала его мировой религией, в центре которой индивидуальное, а не коллективное, всей Российской Федерацией, спасение души.
А спустя четыре года глава Русской православной церкви уже начал (видимо, в порядке алаверды) пасхальную службу словами: «Дорогой Владимир Владимирович!»
То есть, если я правильно понимаю, состоялась сделка. Русская православная церковь ставит своей целью укреплять государство, превращаясь тем самым в отдел небесных дел при администрации президента, – а русское государство зачищает торговую площадь от конкурентов (включая внутренних, вроде совсем уж мракобесного экс-епископа Диомида, видящего ересь в каждом штрих-коде) и подает гражданам знак, как себя следует вести и, главное, в какой именно храм теперь будет вести дорога.
Не случайно все многочисленные христианские церкви, что составляют так называемый «библейский пояс» США (а США – весьма религиозная страна), в России существуют на положении злокозненных сект.
Русский человек ныне обязан быть православным, то есть держать свечку, креститься, молиться, класть поклон, – и меньше думать (а также болтать) о том, что, как и почему вокруг него происходит, повторяя, как попка-дурак, что всякая власть от бога, – или чему его там научат.
Ему предложили «народное IPO» акций православия – а раз эти акции поддерживает государство, их курс должен расти. Надо брать.
Если сделка между церковью и государством заключена и акции запускаются в оборот, следует ждать продолжения road-show. Следующим шагом будет обязательное преподавание основ православия (в Татарстане, Ингушетии и Чечне – ислама) в школах: к тому все идет.
Но это, пожалуй, единственное, чему я, будучи атеистом, искренне рад.
Потому что история России – вещь циклическая, повторяющаяся, и ее ход довольно предсказуем.
Именно обязательное – нудное, мучительное, скучнейшее – преподавание Закона Божьего в дореволюционных школах (почитайте Чехова или Кассиля!) и привело к тому, что народ-богоносец в революцию стерпел замену церквей на бассейны и склады, поскольку занудство и серость православных священников воспитали если не атеистов, то антиклерикалов.
А мозга мальчиков и девочек в нежном возрасте устроены так, что вновь заставят попыхтеть срочно переученных православных учителей (да-да, они будут снова скучнейшими: хотя бы потому, что я в православной церкви ярких людей вообще не встречал; и Иларион, увы, из того же числа) над искренними вопросами: «Если в рай попадут только православные, значит ли это, что большинство человечества в рай не попадет?» «Почему православная церковь писала приветственные письма КГБ и потом в этом не покаялась?» «Почему среди ученых-лауреатов Нобелевской премии лишь двое были верующими?»
И, не получив вразумительного ответа, школьники начнут читать под партой что-нибудь вроде «Бог как иллюзия» блистательного и страстного атеиста Ричарда Докинза.
Которого, кстати, неплохо бы прочесть прямо сейчас.
2009
Золотые телемальчики
Полгода вместе с Дмитрием Дибровым я веду на ТВЦ программу «Временно доступен». И за это время узнал про телезвезд такое, что лучше бы не знать. А знаете, кто сегодня для телика знаменитость? Тот, кого показывают по телику!
Меня спрашивают знакомые:
– И что, тебе интересно с Дибровым? Он все молчит, а потом говорит-говорит-не-остановится… У него реакция какая-то старомодная!
О да, мне невероятно интересно. Дибров – это такой мамонт. Подобные ему повымерли. Он умеет говорить не фразочками, хохмочками, шуточками, репликами, – а периодами, когда в эфире разлита бывает длительность, как в метрике Гомера; умеет выражать мысль при помощи сложносочиненных связей. А главное – формулировать ее прямо перед камерой. Ну, например, когда в студию приходит боксер Валуев, Дибров как бы невзначай замечает, что мультфильмовского Шрека героем делает не то, что он сильный, а то, что он добрый. И, если эта мысль кажется вам банальной, объясните, почему никто до Диброва этого не заметил? Или вот мой тезка утверждает, что верить в потустороннее нас заставляет страх смерти, небытия (было такое на эфире с офтальмологом и по совместительству путешественником Эрнстом Мулдашевым). Или что возведение Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным баварского замка в подмосковной деревне Грязи есть практическое воплощение тезиса Маркса о том, что не следует эстетику опускать до уровня жизни, а следует жизнь поднимать до уровня эстетики.
Дибров такое умеет. Я – нет. Я, когда вижу тысячи метров галковско-пугачевских стен с зубчиками и донжонами, вдруг вскочивших князями из Грязей, сжимаюсь в комок от мысли, что дух Людвига Баварского сослан с альпийского Нойшванштайна в посюстороннюю русскую ссылку. Я не вижу в этом нелепейшем замке ни эстетики Маркса, ни эстетики Гегеля, но отголосок трагедии, должно быть, случившейся в жизни некогда светлого мальчика, филолога и лингвиста Максима Галкина (с которым я познакомился лет двенадцать назад, когда он еще был однозначно светлым) – потому что такие архитектурные формы возводят не для жизни, а для забытья, подобно тому как алкоголик заливает похмелье водкой. И, наверное, моя позиция на экране чувствуется, в отличие от позиции Диброва, который, хотя и очень умный, но и очень телевизионный человек. Поэтому он знает, какие вещи на телевидении говорить можно, а какие – нельзя.
В принципе, телевизионных кумиров можно спрашивать о чем угодно – хоть о любовных делах (Михаил Пореченков признался под камерой в наличии у него внебрачного взрослого сына, о чем доселе не говорил), хоть о приводах в милицию, даже о заработках – это имиджу не вредит, поскольку и скандал, и гламур равно помогают продвигаться в рейтингах.
А самый неприличный вопрос на телевидении таков:
– А что вы сейчас читаете?
На вопрос про чтение кумирам непонятно, как отвечать, потому что для большинства из них честный ответ звучит так: «Я уже давно, лет десять, ни хрена не читаю, только глянцевые журналы, где про меня пишут».
Это колоссальное изменение роли книги как источника информации заметно во всем – ну, например, когда Пугачева в восьмидесятых пела песни на стихи Мандельштама, эстетов это коробило, но я узнал Мандельштама именно благодаря Пугачевой, потому что в школьной библиотеке города Иваново никаких Мандельштамов не водилось. И я хорошо запомнил тех лет интервью с Пугачевой, в котором она говорила, что всегда читает на ночь стихи, как бы ни устала, и это выглядело не позой, а скорее гигиенической привычкой разумного человека чистить мозги перед сном.
Если не чистить зубы, появится кариес; если не читать книги, закисают мозги. Половина телегероев говорят сегодня то же, что говорили и пять лет назад, – в них не видно развития. У них мгновенная реакция, это да, у них привычный юморок (то есть такой, который не обманывает ожиданий, а наоборот, их подтверждает, типа «знакомится олигарх с блондинкой»), и они очень милые люди, – но анализ мира вне экрана для них есть нечто излишнее.
Я говорю о книгах, потому что именно книга заливает в бак мозга горючее, состоящее в вопросах: зачем я живу? Бессмыслен ли мир? Что же будет с Родиной и с нами? К чему б это, право, такая хандра? Кто мы, зачем мы и камо грядеши?
Нет вопросов – нет и человека.
О том, что заменило ум на сегодняшнем телеэкране, а шире говоря, и в России вообще, мне очень наглядно объяснил Федор Бондарчук, образцовый герой обложки журнала «Hello!», великолепный, замечу, актер, а также довольно странный режиссер, после отличной «9-й роты» снявший «Обитаемый остров»: эдакий гламурный клип по антигламурным Стругацким.
Бондарчук рассказал, как он снимает кино по, условно говоря, голливудским технологическим лекалам: диалог на экране, который зритель воспринимает как единое целое, склеивается из шести дублей, что дает шанс даже середнячка сделать великим актером. Плюс метод «отстраненного внимания»: это когда во время монолога героя показывают не его, а второстепенного персонажа, актер-актерыча, чья реакция и заставляет нас верить, что герой прекрасно играет.
В технологиях самих по себе ничего дурного нет, – проблема в том, что эти технологии существуют ради технологий. Бондарчуку, похоже, было решительно все равно, на какую тему снимать блокбастер (мне говорили, что на съемки по Стругацким его подбил Александр Роднянский, и если это так, то вина Роднянского велика – соблазнители виновнее соблазненных, – это ж надо умудриться снять фильм по Стругацким и тут же вступить в «Единую Россию»: полагаю, чтобы упростить финансирование прочих съемок, это же так технологично!). Но точно так же до этого Бондарчук снимал технологически безупречные клипы: неважно, на какую попсу, неважно, для какой певицы или певца, – важно, что для милых людей и за хорошие деньги. Эк вон как каждый кадр выстроен! «Я люблю, тебя, девочка» и «Посмотри мне в глаза». Теперь можно и за Шекспира.
Милый и богатый – это сегодня тот типаж, которого все обожают.
Умный ведь может и начать говорить про публику то, что он думает, а милый и богатый будет говорить только то, что он знает.
Потому-то Бондарчук и говорит повсюду в защиту «Обитаемого острова», что картина взяла самый большой в стране фильм-бокс.
Вот вы можете себе представить Тарковского, хвастающегося кассой «Зеркала» или «Иванова детства»?
Я и Эльдара Рязанова в таком качестве представить не могу.
Иван Ургант, отличная реакция, тридцать один год, ожидаемые шутки, показан по всем каналам, колоссальные гонорары за проведенные корпоративы, квартира в доме на набережной – вау! Герой.
Федор Бондарчук, Михаил Пореченков, Николай Фоменко – герои, герои, герои. Вам ведь они нравятся, правда, да?
Я, боже упаси, не хочу сказать, что они плохие люди, потому что даже плохой (с моей точки зрения) фильм и пустая (с моей точки зрения) программа не делают их создателей плохими. Бывает, в конце концов, и производственный брак. Но я хочу сказать, что многие из этих людей считают своей добродетелью одну: умение развлекать. И только.
Добро, зло, обман, стыд, подлость, предательство, отчаяние, поиск выхода, самосовершенствование, утрата и обретение веры, закольцованная злосчастность российской истории, то есть все, что придает человеческой жизни вес, заставляя ее отпечатываться на земле – об этом еще можно говорить с людьми старой школы, то есть с Ярмольником или Гармашом. С выпускниками школы новой – нельзя. Непонятна сама тема для обсуждения. Так для актера неважно, кого играть, Моцарта или Сальери, за него решает режиссер, и в этом смысле у нас телеведущих нет, – остались одни телеведомые.
Еще раз: я не спорю, они милейшие люди, но вы их видите с той стороны экрана, и они вам нравятся, потому что вы такие же милейшие люди, которые тоже очень хотят денег, и любви, и давно не читают книг, и со вздохом смотрят на тех, кто что-то пищит о нравственности и морали.
Но вот я, готовясь к эфиру, читаю интервью с одним из кумиров: он рассказывает, как его отец, в бытность советским начальником, держал на столе фотографию, где был вместе с Хрущевым. И вот, чуть пронесся слух, что Хрущева снимают, на столе отца фотка с Хрущевым мгновенно сменилась фоткою с Брежневым.
Понимаете, да? Сын может – всякое бывает! – увидеть отца и пьяным, и голым, и вообще совершающим неприличный поступок. Но тогда он должен об этом молчать, а не разбалтывать в интервью, не задумываясь о том, как это выглядит (и даже не задумываясь, что над этим можно задуматься).
По крайней мере, я так понимаю мораль, но мораль стала таким смешным словом, что про нее смешно говорить.
Леонид Ярмольник – человек, к слову, проделавший над собой титаническую работу с времен «Вокруг смеха» и пресловутого цыпленка-табака (что тогда заставляло меня относиться к нему примерно так же, как я сегодня отношусь к Бондарчуку; то есть у Бондарчука шанс еще есть), заметил, что актеры, прошедшие школу сериалов, навсегда остаются порчеными для кино. Они, в принципе, могут изобразить страх, любовь, отчаяние, – но никогда уже не смогут изобразить оттенки.
Это очень жестокая оценка, но можно посмотреть встык, скажем, «Адмирала» с Колчаком-Хабенским и «Анну Каренину» с Карениным-Янковским – и сразу станет понятно, почему Янковский не снимался в сериалах, а Хабенский почему не дотягивается до Янковского.
Я сейчас даже не про телик, я вообще про жизнь: игра на понижение (ради денег, ради карьеры, неважно ради чего – друга моей семьи Сашу Половцева никто знать не знал, когда он блестяще играл в «Барабаниаде», а параллельно подрабатывал грузчиком в магазине, а узнали, когда он стал майором Соловцом из «Ментов»: создал, так сказать, положительный образ профессии, которая вне сериала не вызывает любви), – так вот, игра на понижение, на упрощение разливает внутри пустоту, которую старшие поколения заполняют алкоголем, а младшие немыслимым пафосом при полной убежденности, что весь мир таков.
Я в этом вовсе не так уверен.
Самым непафосным и простым в общении для меня был Микки Рурк. У него вообще довольно пацанская биография: его бил отчим, он занялся боксом и набил морду отчиму, мать выгнала из дома, он подрабатывал, накопил на актерскую студию, добился успеха, связался с дурной компанией, пропил и промотал все, что было (включая «Роллс-Ройс»), ради заработка дрался на ринге, постепенно вернулся в кино… В моей студии в тот день валилось все: у гримеров выпадали из рук кисточки, потому что это был «сам Рурк», в двери лезли пьяные телезвезды, чтобы с «самим Рурком» сфотографироваться, бились чашки с кофе и падали стулья – вокруг царила истерика – а мне, повторяю, было легко, потому что это из него все делали героя, а он из себя героя не делал. «Микки, ты по-прежнему посещаешь психиатра?» – «Да, потому что без него мне не выкарабкаться». – «А что ты сейчас читаешь?» – «Мемуары одного рестлера, мне очень интересно». – «Как для тебя выглядит самая счастливая ночь жизни?» – «Я сижу со своими собаками на берегу и слушаю, как шумит море».
Попробуйте-ка наших спросить про психиатра или про ночь!
Однажды я не выдерживаю и устраиваю маленький, но прекрасный производственный скандал. Я говорю, что больше не могу в телевизоре говорить с людьми из телевизора, потому что все разговоры сводятся к телевизору. Но мне мой демарш несогласного быстренько усмиряют: «Пиши свой список».
И вот тут я понимаю, что список написать не могу.
То есть я с легкостью могу представить, кого бы я хотел видеть в эфире, когда бы вел его, скажем, век назад. Потому что очевидны герои того времени. Путешественники. Поэты. Военные. Инженеры. Изобретатели. Летчики. Хирурги, вирусологи, вообще врачи. Загляните, будучи в Петербурге, в Институт акушерства и гинекологии имени Отта (не обязательно быть беременной женщиной). Вам откроется не роддом, а сотворенный архитектором Бенуа гимн науке. Там каждый лестничный марш поет, что наука побеждает болезнь, а скоро победит и смерть (и, кстати, так больше уже строить больницы не будут). Достичь бессмертия, полететь к звездам, сделать человечество счастливым – это были миссии, достойные героев столетней давности.
То есть тогда кумирами были исследователи и преобразователи мира – а если актеры в этот список и попадали, то на правах украшения. Основу составлял все же принцип открытия – хотя бы Станиславским «школы переживания».
Кого сегодня интересуют космонавты или инженеры? Физики или стихотворцы? Мир для моих сограждан – это телевизор. Герой телеэкрана – тот, кто создает запоминающийся образ. Зачем образу познавать мир?
Понимаю, что рублю сук, с которого кормлюсь, но телевидение – это довольно убогий информационный источник, и это причина, по какой я телевизор уже лет десять как не смотрю. Быстрая смена картинок и крохотные цитаты, ставка на эмоцию – это как пролетевшая мимо модница. Радио по своим возможностям богаче телевизора, журнал – сложнее радио, книга – сложнее журнала, а интернет – сложнее всего перечисленного, потому все перечисленное в себя включает. Телевидение просто по своей технологии лживо и криво, и, например, прямой эфир – это попросту один из механизмов выпрямления этой врожденной кривизны. Без этого телевидение легко превращается в пропаганду, причем потребительскую скорее, чем политическую.
Надеюсь, вы понимаете, к чему я веду. Поколения, черпающие информацию о мире через телевизор; доверяющие телевизору и мечтающие в телевизор попасть, совершили грех подмены мира иллюзией мира. Они перестали изучать планету, Вселенную, себя – и стали потреблять телевизионный продукт. Ведь консьюмеризм с его пресловутой пирамидой искусственно созданных потребностей есть просто ориентация на телекумиров. У этих-то милых людей в шкафу всегда пятьсот пар обуви, как у героини Сары Джессики Паркер, – а с исследователя-то Пржевальского что можно было взять, кроме одной лошадиной силы?
Я вообще порой полагаю, что наше телевидение и завело нас в наш кризис.
Хотите, чтобы кризис кончился? – кончайте играть в ящик, сыграйте в жизнь.
2009
Новая духовка Ксении Собчак
Вот уже несколько лет девушка по имени Ксения Собчак повторяет публично: гламур, с его стразами-вечеринками-клубами-тусовками, выходит из моды. Немодно больше клубиться и прожигать жизнь.
Публика с танцпола повзрослела и поумнела: в моде теперь духовность. (Тут Ксения Собчак морщится, потому что ей, как и многим, противно, что слова у нас, до важного самого, в привычку входят и линяют, как платья, купленные на мелкооптовом рынке) – то есть, поправляется она с (само) иронией, в моде «духовка». Ныне, добавляет Ксения Собчак, продвинутые юноши и девушки посещают галереи (и я даже знаю, какие: Айдан Салаховой и Даши Жуковой! – Д. Г.) и театры (опять же знаю: ходят на Гришковца и Серебренникова, модно! – Д. Г.). Эти люди поняли, что бездуховная жизнь ведет в пучину несчастья, и решительно приобщаются к разогретым в духовке продуктам.
Я знаю девушку Ксению Собчак не первый год и готов засвидетельствовать: если в чем ее и можно обвинить, то только не во лжи. И если она предстает на широкой публике эдаким журналом «Афиша» во плоти – значит, абсолютно точно чувствует, что именно в этом направлении дует ветер времени, wind of changes. Ведь главная чуть ли не физиологическая особенность Ксении Собчак – это длинный нос, которым она способна различить малейшие перемены направлений ветра и малейшие запахи, им несомые («У меня в этом смысле нос, как у Буратино», – сказала она как-то раз с гордостью).
Боюсь навлечь гнев, но Ксения Собчак не просто родная дочь, а реинкарнация Анатолия Собчака, когда бы тот воскрес в эпоху, когда от политики за версту разит известно чем, а потребность чувствовать ветер времени остается. Вел бы он сейчас как пить дать развлекательное шоу на телике – «Фабрику академиков» или «Академию фабрикантов».
Сходство между отцом и дочерью тем более заметно, что противники и терпеть их не могут за общую фамильную черту: обоим свойственно брезгливое, высокомерное отношение к невеликому человечку и фокусирование на мире звезд, Ксенией Собчак расширенное еще и до мира богатых. И как Анатолий Собчак расцветал, встречаясь с Генри Киссинджером и устраивая свадьбу Пугачевой с Киркоровым (ремонт мостовых его возбуждал меньше), – так же и Ксения искренне заявляет, что никогда не сможет связать судьбу с мужчиной, зарабатывающим меньше двадцати пяти тысяч долларов в месяц (ну, или двадцать тысяч евро в неделю. Каюсь, точную цифру забыл. Но деталь не из тех, чтобы в ней спрятался хотя бы хвост дьявола).
Думаю, что именно этого «профессорского высокомерия» Собчаку не простил маленький петербургский народ на губернаторских выборах 1996-го, и именно этого высокомерия («не снисходит до нас, а сама кто такая?!») не прощают Ксении ее нанавистники (по преимуществу тетеньки в кофточках) сегодня, – но это так, к слову.
Боюсь, что идея, суть которой в том, что духовность есть такой же товар на рынке, как прочие (надо просто знать способы проверки ее качества, отличать духовность первого сорта от духовности с душком, иметь некоторое количество денег и заходить в правильные бутики по продаже духовки, где проконсультируют и выдадут гарантийный чек), – эта прелестная идея имеет все шансы овладеть массами. Как ими в России мало-помалу овладели и прочие идеи из того же лабаза: ну, например, что смысл жизни в том, что сперва нужно как можно больше заработать, а затем счастье само снизойдет.
Идея о возможности покупки духовности – по своему анамнезу гламурная, глянцевая, телевизионно-журнальная. Я в этом котле сам когда-то успел повариться. Она сродни идее современного воцерковления – попостился, покаялся, покрестился, причастился, испытал подъем, поставил свечку: ура, душа спасена, и даже недорого обошлось. Все эта глянцевая перевернутая пирамида, поверьте, строится на единственном умолчании, всеми участниками заговора поддерживаемом допущении: что смерти нет. То есть что достаточно читать правильные книжки, смотреть правильное кино, есть правильную еду, ходить в правильный спортзал, соблюдать правильные правила, – и все, ты вечномолод и вечносчастлив, как картинка в Vogue. Смерть – это если и случается, то не с тобой и красиво, типа как у фотографа Хельмута Ньютона, разбившегося в Лос-Анджелесе на спортивном автомобиле, врезавшись в стену на полном ходу.
Неприятная правда, однако, состоит в том, что духовность имеет самое непосредственное отношение к твоей личной, персональной, биологической смерти, которая непременно (и, скорее всего, гадостно, с болью, сиделками, утками, лживыми врачами) наступит. Потому что духовность, или жизнь духа – это возможность продлить жизнь после смерти. Духовность вообще начинается тогда, когда дается честный ответ на вопрос, что останется от тебя, когда тело начнет разлагаться. Причем честный ответ состоит в том, что загробной жизни в фольклорно-декоративном стиле – среди ангелов, гурий, чертей, или же в новом теле посредством реинкарнации – не существует, и даже консервативные православные патриархи сегодня больше говорят об «аде в душе», «рае в душе», отводя картинам материальных ада и рая место на стенке в музее.
Получив шанс приобщиться духовности – то есть первый раз ужаснувшись всерьез смерти тела – ищущий продления жизни человек либо бежит от ужаса прочь (и тогда мир глянца, гламура – замечателен и спасителен, как опий для больного саркомой), либо сознает, что марксистская формула о жизни как способе существования белковых тел наивна; что жизнь – это обработка и переработка информации, ergo, единственный шанс добиться продления жизни – создать нечто такое, что останется после тебя.
Существование белковых тел ограничивается в России средним сроком в шестьдесят восемь лет; максимальный срок жизни духовного продукта, созданного этими телами, на сегодняшний день не известен. Пушкин жив, кто бы сомневался, и безымянный автор «Задонщины» жив (после физической смерти имя, которое надевает на себя жизнь, совершенно неважно), и сотни, тысячи, миллионы покойников по всему миру прекраснейше живут в своей духовной ипостаси. Так что, спрашивается, жизнью считать?
То есть «духовка» – это целенаправленная работа по продлению жизни, а вовсе не целенаправленная работа по поглощению того, что рекомендовано журналом «Афиша» (или Ксенией Собчак): вот что я хочу сказать. Хотя, с моей точки зрения, «Афиша» – замечательный журнал (а Ксения Собчак – весьма любопытная барышня). И многое из того, что рекомендуют потреблять эти два знаковых явления времени (в смысле выставок, книг, спектаклей, ресторанов, клубов и кинофильмов) действительно способствует поддержанию духовной жизни – примерно как массаж способствует поддержанию физической формы.
Нужно только понимать, что за чем идет и что из чего следует: механическое потребление сродни морковке перед осликом на водокачке, – животное ходит по кругу; и никаким массажем не добиться появления жизни в куске глины (рабби Лёв когда-то попробовал, но получился Голем).
То есть, например, я знаю немало писателей, занимающихся массажем публики, то есть написавших романы для того, чтобы срубить бабла, попасть в струю и вообще отметиться пахотой на литературной ниве; написанию таких романов можно научить в тот же срок, что учат массажу на соответствующих курсах; даже лицензия не нужна. Но у меня при их чтении возникает ощущение убитого времени и мерзостный, почти физический, привкус во рту, как глотанул прокисшего кефира.
Но вместе с тем мало кому известный писатель Александр Терехов, испытав десять лет назад всепожирающий ужас смерти (мужчины нередко в полном объеме ощущают этот ужас в возрасте примерно тридцати пяти лет, – именно он, а не начинающая убавлять обороты половая функция, приводит к кризису среднего возраста), – так вот, Терехов бросил все, плюнул на приносящую деньги халтуру, и отшельником в течение десяти лет занимался романом, получившим название «Каменный мост» и неподъемный объем в восемьсот пятьдесят страниц. На последнее, впрочем, Терехову было плевать, поскольку он имел дело с другим критиком, нежели литературный.
По моему разумению, получился лучший роман, написанный в России за последние годы. Он производит феноменальное впечатление, поскольку там герой, движимый страхом смерти, проводит реконструкцию совсем молодых жизней, оборвавшихся в 1943 году (сын наркома застрелил дочь посла), и, задыхаясь, пытается понять, почему в те времена люди часто не боялись смерти (да потому, что были наконечниками на стрелах, посылаемых Империей в вечность), и, в итоге, воскрешает вообще всю Империю, от Сталина до школьника.
Это – первый роман о сталинском времени, в котором нет ни бодания с императором, ни преклонения перед ним, но есть тяжкий труд прозектора, археолога, сыщика; там время засасывает в свою воронку так, что не за что ухватиться – и это при том, что закрученного сюжета нет, все с самого начала известно: неврастенический балованный мальчик застрелил, играя в любовь, равнодушную к нему девочку и застрелился в панике сам. Духовка не в описании любви, духовка в воскресении жизней и эпохи, духовка вообще может быть только в области созидания, а не в области потребления.
И в этом смысле в бабушкиных рецептах пирожков с повидлом духовности куда больше, чем в некоторых телепрограммах, которые по неведомым мне причинам – да неужели ж только ради денег?! – ведет вполне неглупая девушка по имени Ксения Собчак.
2009
Накрылись науч-попой
В моем списке лучших научно-популярных книг (то есть делающих инъекцию знаний о мире практически внутривенно) нет ни одного современного российского автора. Российского читателя у этих книг тоже нет.
Порою я читаю лекции по журналистике – не то чтобы часто, но с географией от Хабаровска до Минска. И там проделываю один и тот же трюк: спрашиваю, кому известно имя Джона Перри Барлоу. Вот вам – известно? Меж тем Барлоу, ковбой из штата Вайоминг и по совместительству поэт, на излете 1990-х сочинил двенадцатистраничную брошюру Cybernomics, «Киберномика», где сравнил нынешнюю информационную экономику с классической капиталистической. На этих двенадцати страницах он много чего понаписал. И про то, что принципы товарного производства (вещи создаются трудом, недоступным одиночке; их легко сосчитать и легко определить принадлежность) не подходят современной эре, когда, скажем, невозможно сосчитать и определить принадлежность копий выкладываемой в интернете программы. И про то, что современная экономика продает не вещи, а артефакты, то есть представления о вещах. И про то, что ценности в киберномике создаются не предметами, а разностью знаний (так функционируют биржи), и что вообще информационное общество напрямую копирует биологию жизни.
Барлоу написал предостаточно, чтобы самые недалекие увидели в нем знамя борьбы с копирайтом, самые продвинутые – основателя философской школы; в целом же двенадцать страниц потрясли Уолл-стрит. На сайте The Merrill Lynch Forum «Киберномика» установила рекорд читаемости и обсуждаемости. До России, повторяю, Барлоу не дошел, хотя осилить его на английском способен и старшеклассник.
Впрочем, с тем же успехом, что и про не изданного у нас Барлоу я мог бы спрашивать, читали ли мои коллеги биолога и антрополога Джареда Даймонда. Десятитысячный русский тираж его «Ружей, микробов и стали: Судьбы человеческих обществ» пусть и раскупили за пару месяцев, но три тысячи экземпляров «Коллапса: почему одни общества выживают, а другие умирают» продавались целых два года. В мире, для сравнения, у Даймонда миллионные тиражи.
Миллионные тиражи в мире и у феерического дарвиниста и воинствующего атеиста Ричарда Докинза (у нас «Бог как иллюзия» вышел в отличном переводе лишь благодаря усилиям фонда «Династия» Дмитрия Зимина – да-да, того самого, основателя «Вымпелкома», отошедшего со своими деньгами на пенсию, но не от дел! – да супругов-книгоиздателей Сергея Пархоменко и Варвары Горностаевой).
Аналогичная ситуация с историком Роджером Осборном («Цивилизация. Новая история западного мира»), физиком Стивеном Хокингом («Мир в ореховой скорлупке», «Кратчайшая история времени»), политологом Самюэлем Хантингтоном («Стычка цивилизаций»), критиком экономики потребления Наоми Кляйн («No logo»). И я не валю в одну кучу, а объединяю в команду мечты людей, которые в разных областях знания сумели сделать одно и то же: во-первых, выдвинуть гипотезу, меняющую наши представления о мире, подобно Копернику, а во-вторых, описать ее блестящим языком.
– А почему вы даете книги только западных авторов? – недавно спросили меня на одной из лекций.
Я хотел отмахнуться, поскольку на глупые вопросы, типа преимуществ социалистической математики над капиталистической, не отвечаю, но быстро понял, что вопрос вовсе не глуп.
Дело в том, что сегодня в России не просто иссяк слой читателей, которым необходимо непосредственное и свежее знание о себе, о мире, о Вселенной. У нас иссяк и водоносный слой авторов, которые дают это знание, и который, кстати, существовал даже в СССР, когда, начитавшись Лотмана, в семиотику лезли сотни тысяч честных советских людей, которые в результате нового знания – пусть даже в виде комментария к «Евгению Онегину» – превращались в не совсем советских и даже антисоветских. И – да-да! – завороженные поиском истины и ненавистью к мозговой трухе, потом эти тысячи и миллионы стали движущей силой перестройки, в которую, кстати, они так же упоенно, как Лотмана, читали Льва Гумилева. (И я был грешен – в моей библиотеке есть «Этногенез и биосфера» с автографом.)
И – отвечая на вопрос – в принципе, есть двое россиян, написавших в наше время труды, сильно повлиявшие на общество. Это математик Анатолий Фоменко с его исторической «Новой хронологией» и политолог и философ Александр Дугин – в адептах его «Основ геополитики» походили в свое время многие, от Лимонова до Курехина (а попробуй не походи, когда на первых же страницах брошюры «Задачи нашей борьбы» Дугин пишет, что главной проблемой нашей эпохи является отчуждение человека от того продукта, который он создает. Что больше нет булочников, пекущих булки, или кузнецов, кующих подковы – есть гигантский бизнес, в котором ты никто: песчинка, офисный планктон).
Я с идеями Фоменко и Дугина знаком. И, к сожалению, должен включить их не в основной, а в дополнительный список – любопытных ложных идей (весь Дугин, по большому счету, исходит из того, что Москва есть Третий Рим. Интересно, что бы он написал, когда бы родился не в России, а в Пакистане?). И то, что самые яркие научно-популярные книги российских авторов содержат ложные, с моей точки зрения, идеи – для меня тоже показатель.
В современной России вообще случился сдвиг по фазе. Научно-популярная литература не открывает устройство мира, а уводит от открытия; художественная же литература не создает новые миры, а занимается публицистикой. Быков с его «ЖД» и «Списанными», Сорокин с «Сахарным Кремлем», Пелевин с «Песнями Пигмеев Пиндостана» – чистейшей воды политические памфлетисты (которым в наши дни заказано место в периодике, занимающейся не журналистикой, а, скорее, потребительскими обзорами, будь то потребление политики, искусства или, там, дамских сумочек).
И вот это, дамы и господа, и есть сегодняшняя российская реальность. В которой нет ни читателей, ни писателей и в которой жажда познания сводится к информации о новых коллекциях, а также о скидках и распродажах.
Кое-кого, понятное дело, такое положение злит и бесит – но нас таковых, судя по тиражам науч-попа, на всю страну наберется хорошо если пять тысяч.
Так что остается либо ждать, когда остальные в своем потреблении нажрутся, либо мечтать, что шоппинг-молл прогорит, либо – как сейчас я – заказывать через интернет свежую книгу научного обозревателя «Вашингтон пост» Малкольма Гладуэлла о принципах распространения идей вкупе с «Джихадом. Экспансией и закатом исламизма» Жиля Кепеля да «Историей велосипеда» Дэвида Херлихи.
Присоединяйтесь.
2010
Часть 3
Практические экзерсисы. Избранные места из разных мест
Фабрика чудес
Из Москвы в Питер на выходных приехали знакомые знакомых: покупать землю под Стрельной. У них – они многозначительно переглядывались – есть информация, что Путин после президентского срока переедет в Стрельну, как Ельцин в Барвиху.
Меня им рекомендовали как знатока Петербурга. Узнав, что в ценах на землю я небольшой специалист, они загрустили, но услышав, что одну квартиру в Петербурге собираюсь продавать, воспряли и немедленно потребовали показать. Не понравилась: «в старом доме». Очень радовались назначению питерца Зубкова премьер-министром: переедет Путин или нет, но при продлении питерской линии в Кремле земля у Константиновского дворца будет дорожать.
С собой стрельнинские помещики прихватили отпрыска, студента: он учится на таможенника-юриста, о чем родители с гордостью повторили раз пять. «Понимаешь – наш человек в Гаване!». Им эта шутка нравилась. Как и повторять «все схвачено». Оба работали во времена СССР в «ящике», кстати.
Отпрыск оказался волооким, розовощеким и пухлогубым недорослем, умудрившимся к своим двадцати побывать изо всех городов мира только в Сочи. Сочи ему понравился: фотографы с мартышками ходят, пальмы растут, прикольно.
Перед тем, как отбыть на осмотр земель, родители уговорили меня «хоть немного показать парню Санкт-Петербург».
В машине дитятя:
а) попросил поставить радио с русской попсой;
б) на Дворцовой площади сказал, что «неа, Москва круче, там дома выше»; и спросил, «а где здесь торговый центр вроде Манежки»;
в) услышав в ответ, что в Караганде, потому как в питерском центре такие центры некуда помещать, разочарованно протянул – «ну вы и живете…».
Тот факт, что Александрийский столп держится исключительно силой своего веса, а в штормовую погоду крест у ангела раскачивается чуть не на метр, его не вдохновил. Правда, трехглавые орлы на ограде прикололи.
В Эрмитаж он пойти наотрез отказался. Зато когда проезжали мимо «Авроры», попросил тормознуть и помчался, как заяц, на крейсер. Видели, что происходит с детьми, когда они выпивают большую бутылку колы? Тут был эффект, как от двух. Когда же я сунул вахтенному сотенную за проход на капитанский мостик (на пропускании на мостик за мелкую мзду матросик делал свой бизнес; не знаю, делился ли с капитаном), – малый и вовсе осовел, доверительно икнув мне в ухо, что на учебу он давно забил, в академию в этом году нос не совал, и никаким таможенником он, на хрен, быть не хочет, потому что там его «или убьют, или посадят». Это была идея родаков, – учиться либо на таможенника, либо на мента. И тогда уж лучше на таможенника. А лично он мечтает попасть на «Фабрику звезд». У «Фабрики» есть свой дом. На Дмитровском шоссе, 80. Он там у входа забивает стрелки. «Вам, дядь Дим, надо там как журналисту обязательно побывать!».
Я его после этого признания просто-таки полюбил.
Если бы все недоросли ради «Фабрики звезд» побросали свою таможенную, ментовскую, гаишную или гэбэшную учебу, я бы, чес-слово, стал «Фабрику» смотреть.
Вот только бы не пронюхали про наши планы его родаки.
«На Невском», 2007
Избранные
Примерно с четырнадцати лет, после открытия архимедова рычага внизу живота, мужчина сталкивается с револьверным дулом приставленных к нему требований, – как и писал в свое время Мандельштам, хотя по другому поводу.
Мужчина не должен плакать. Мужчина должен переносить боль. Он не имеет права даже на болезнь, если болезнь делает его менее мужчиной (мой учитель, журналист Валерий Аграновский, перед операцией в больнице не ел и не пил, чтобы сестра не выносила из-под него утку). Даже любовь, сжигающая мужчину, не извиняет его ни в чем (в отличие от женщины). Мужчина-это хранилище и продолжение сотен мастхэв’ов; они абсолютны.
Весь этот список Моисея и Шиндлера, запечатленный сначала в российской, а потом в советской литературе, с пеленок убеждал в этом. «Детство Темы», «Детство. Отрочество. Юность», «Детство Никиты», «Школа». Какое нам дело до неороссийских мемуаров, в которых некто, не слишком удачливый студент (чтоб получить работу по специальности), не слишком удачливый агент спецслужб (чтобы получить должность после их развала), не слишком удачливый региональный политик (чтобы выиграть выборы) и т. д. – рассказывает, что женился только ради работы за границей, да вдобавок и не на той девушке, что нравилась? И дело не в том, что не постеснялся признаться в браке по расчету (у многих такие браки счастливы), – а что не постеснялся, урод, опускать жену на глазах миллионов.
Но мы ведь сторонимся этого, как сторонимся мужчины, бросающего женщину ради карьеры, не заботящегося о безопасности в сексе, не платящего алименты на нежеланных детей, но при этом нетерпимого ко всем, кто своим поведением хоть сколько-нибудь нарушает образ мачо (спрашивается, какого черта мачо так возмущают не-мачо, если им негде пересекаться и некого делить?).
Словом, бытие мужчины и бытие мужчиной не столько наука, сколько религия, начисто игнорирующая разум. Мужская благодать почиет непосредственно; что значат для нее поп-пьянчуга или властитель жалкий и лукавый, плешивый щеголь, враг труда? Что значит паршивая овца на фоне мужского стада? (И даже стадо паршивых овец на фоне золотого руна?)
Однако, если отречься от мужской религии, повернувшись к мужскому дарвинизму, тут же сквозь поросль на груди проступит очевидное.
Мужчина более хрупок, чем женщина. Он чаще болеет (и хуже переносит даже легкую хворь). Он менее склонен к монотонной работе и больше от нее устает. Он легче впадает в стресс, тяжелее из него выходит; он быстрее изнашивает свой организм, наконец! Во все времена и во всех странах мужчины таковы – везде и всюду мы умираем раньше женщин. Даже при отсутствии войн, производственного травматизма и бытового алкоголизма.
Кого, спрашивается, тогда должны пропускать вперед первым?! Кому – уступать место?! Кого – провожать раньше на пенсию?!
Вплоть до середины XX века мужчина отказывался видеть факты, следуя своей вере: пропускать – женщину, уступать – женщине, провожать – ее же. Потому что женщина подписывалась под совместным пактом, который означал: мужчина содержит и охраняет семью пусть даже ценой жизни; женщина растит зачатых от него детей и варит борщи (или следит за прислугой, которая варит). Во второй, менее публичной части пакта значилось, что мужчина имеет право удовлетворять сексуальную страсть на стороне, а женщина имеет право на сексуальную страсть, только если это страсть к мужу.
Но ручки при этом мужчина женщине целовал и шубку подавал беспрекословно. Так же, как и умирал на войне.
Но глупо не замечать, как этот замечательный пакт (нам – ответственность и свобода, вам – несвобода, но преклонение) давно стал филькиной грамотой. Парень, до ночи вкалывающий в офисе, может не обнаружить по возвращении домой борща (да и собственной жены – при том, что будет честно покупать ей шубку). Мужчина, желающий завести семью ради детей – возможно, будет приглашен на роль донора спермы. Деловая, романтичная, заботливая, самостоятельная, распутница, строгонравная, пуританка, лесбиянка, – женщины давно шагнули на большую сцену и вместо единственной роли сыграли всего Шекспира. Причем с удовольствием, нимало не комплексуя, вполне комфортно себя чувствуя в новых ролях.
Мужчина растерялся не потому, что появилось слишком много разных женщин, а потому, что его прежней роли больше не находилось пары. От чего многие ломались, превращаясь вот в этих самых, плешивых врагов труда, пьющих папиков перед теликом.
Во всем мире мужчины пережили кризис самоидентификации, и только последние годы выходят из него. Метросексуалы, ретросексуалы, уберсексуалы, активисты гей-комьюнити – все это не столько реакция на моду, не только оборот колеса в мире гламура (красиво упаковывающего человека до степени товара), сколько поиск иного, отличного от рыцарского, но все же комфортного и уважаемого в собственных глазах образа жизни. Где можно комфортно плакать, или комфортно принимать женскую помощь, или комфортно охранять домашний очаг самому, пока твоя вторая (без иронии – вне зависимости от пола) половина зарабатывает на еду.
Или оставаться тем самым (в первоначальном, сияющем сталью брони смысле) мужчиной, конкистадором в панцире железном. Но уже быть готовым и к тому, что, быть может, если надлежащая рыцарю дама и явится, то медсестрой, зашедшей в палату заменить утку.
«На Невском», 2007
Про любоффф
Известное утверждение, что так называемая любовь есть результат игры гормонов, с удовольствием распространяемо людьми либо ограниченными, либо бесповоротно циничными. По преимуществу, кстати, последними.
Томление тела есть результат игры гормонов, желание чужого тела тоже, но любовь – еще и порождение культуры.
Скажем, при Леониде Ильиче мальчики и девочки зачитывались журналом «Юность», нашпигованном подростковыми повестями про драку во дворе и первый поцелуй на закате, и вырастали с убеждением, что это и есть любовь. Подрался, защитил честь девушки, нежно поцеловал, испытал счастье. Повести Крапивина и Фраермана, старший Гайдар с его Тимуром, девочкой Женькой и хулиганом Квакиным – все было лыком в ту же строку. Первый поцелуй был идеален, и узнавание, что в поцелуе участвуют не только губы, но язык, слюна – потрясало потом многих.
Мальчики и девочки росли в твердом убеждении, что любовь (с первым безъязыким поцелуем) случается в пятнадцать лет непременно, а отсутствие любви было симптомом неполноценности, как сегодня свидетельствует о неполноценности отсутствие хоть какой недвижимости годам к тридцати пяти. Старшие школьники и студенты времен Леонида Ильича чуть не ежедневно себя переспрашивали: люблю ли я? Влюблен (а) ли я? Или кажется? Или нет?
Большей частью, конечно, казалось. Но в концентрированном растворе не могли не выпадать кристаллы. Ради любви следовало жениться, и женились. Те, что женились не по любви, делали вид. Брак по расчету, привычный в дореволюционной России, в советской клеймился. Любовь во времена СССР была ценностью № 1. Далее следовали книги, водка, «Волга», полированный гарнитур, ковры, хрусталь и коммунизм.
Любовь, кстати, знавала такие глобальные изменения на уровне наций и континентов. Если сексуальная революция свершилась в XX веке, то любовная – еще в Возрождение. До этого, в Средневековье, важен был объект любви, а не субъект. Важно было не то, что полюбил, а кого полюбил. Рыцарю полагалось любить Прекрасную Даму. Иная дама не могла быть объектом страсти, и поколения за поколениями рыцарей вырастали на этой идее, как сегодня поколения растут на памперсах и телепузиках. Иные любови (к непрекрасной даме и не к даме), полагаю, тоже случались, потому что любовь все же – не только культура, но и гормон, но их держали в тайне, спрашивая себя, подобно студентам эпохи Леонида Ильича: люблю ли эту, прости, господи, батрачку, байстрючку? Неужели я и правда? Ох…
А вот Возрождение все изменило. Оказалось, что достаточно любить – и неважно, кого. Субъект любви стал важнее объекта. Замечательно это описал Давид Самойлов:
- Говорят, Беатриче была горожанка
- Некрасивая, толстая, злая.
- Но упала любовь на сурового Данта,
- Как на камень серьга золотая.
С тех пор просто любить, невзирая на красоту или богатство, в массовом сознании стало оправданным. И Пушкин с его сотнями увлечений, и Маяковский с его парой огромных чистых Любовей и миллионом маленьких грязных любят, и Собчак и Нарусова, и Горбачев и Горбачева, и Элтон Джон и Дэвид Ферниш – все это вышло оттуда, из Возрождения, от Данте и Беатриче, от Петрарки и Лауры, от Микеланджело с Давидом («мой мальчишка», как он его называл). Важно оказалось иметь талант испытывать чувство, противоположное природе жизни, основу которой составляет инстинкт самосохранения и выживания.
Любовь – это когда жизнь любимого важнее собственной жизни, и в любви это так очевидно, что вопрос: люблю ли я? влюблен ли я? и не выдумал ли это я? – самой своей постановкой означает отрицательный ответ.
В советские времена любовь во многом была придуманной книжной ценностью. Эта ценность порой разрушалась от ненаступления любви, а порой от вмешательства физиологии (полагаю, что пресловутый секс по-советски, с выключенным светом, под одеялом, под которое ныряли в лифчике и трусах, был не только следствием непросвещенности, но и попыткой защитить свою книжную любоффф). Но все же главным убийцей любви во все времена был страх. Страх, что твое персональное чувство не соответствует массовому представлению о чувствах.
А представления меняются, и сильно.
Главной темой новейшего российского времени стала идея о том, что все можно купить. Поэтому любовь в сегодняшней России не исчезла, но кристаллизация стала проходить реже. Ценность любви в массовом сознании уступила место материальным ценностям. Неконвертируемость любви в эти ценности не столько девальвировала ее, сколько вернула в Средневековье. Если все продается, то покупать нужно лучшее. Если появляться на людях с женщиной (с девочкой, с мужчиной, с собачкой) – то с самыми крутыми. «Подруга-модель» («муж-банкир») стало важно. Чуфффства – нет. О чуфффствах – то есть о том, что вне рынка – стало принято говорить иронично: ведь кто вне рынка – тот лох. Хозяин жизни должен быть богатым, крутым, циничным, желательно со стоящим членом, что, впрочем, гарантируется благодаря фармакологии. Но на чувства фармакология не ориентирована.
Я не говорю, что деньги убивают любовь. Я даже знаю истории нескольких сильных, сжигающих страстей, начинавшихся с секса за деньги. Но трансформация субъект-объект решительно меняет проявления чувств.
Поговорите со школьными учителями. Пятнадцатилетний влюбленный мальчишка, рядовой персонаж восьмидесятых, сегодня практически исчез, хотя осталась пятнадцатилетняя влюбленная (в актера, в участника реалити-шоу, во фронтмена бойз-бэнда) девчонка. Поговорите со студентами – они расскажут, как часто слышат от однокурсниц: «Ты милый, хороший, но, прости, ты не можешь сводить меня в ресторан, покатать на дорогой машине и пригласить за границу».
Девочки ищут состоятельных мужчин, мужчины ищут спутниц с модельной внешностью, отсутствие результата в поиске отчасти компенсируется базой знакомств mamba.ru.
Время первой любви отодвинулось; все больше тех, кто впервые влюбляется, уже состоя в браке и родив ребенка – им в голову не приходило, что брак должен быть основан на любви. Все больше тех, кто действительно считает любовь игрой гормонов, и даже в игре гормонов видит расчет, и этот цинизм поощряется всеми вертикалями – что власти, что культуры. Вы знаете хоть одного политика, способного сказать, что горизонтальная, прорезаемая нечастыми шпилями небесная линия Петербурга, какой больше нет нигде в мире, заставляет плакать белыми ночами, и что ради любви к этой линии и этому городу можно отдать все бюджеты, небоскребы и «Газпромы»? Господи, да любая Матвиенко ради денег застроит хоть Неву – вопрос только в сумме. Вы знаете хоть одну современную хорошую книгу, где речь шла бы просто о любви? Сорокин, Пелевин, даже последний Лимонов – все они не о том, и во всей современной литературе любовь, похоже, испытывает лишь один дореволюционный детектив Фандорин, и то его страсть меркнет на фоне криминальной интриги.
Проблема, однако, в том, что возвращение в глухую темь Средних веков после революции, утвердившей отвергающую самосохранение любовь как высшую ценность, идет с большим скрипом.
Тоска по любви, по чувству, не знающему, что такое деньги, крутизна, гламур, VIP, фейс-контроль и фэн-шуй, такова, что нет-нет, да и бьет в самом неподходящем месте. Ошеломляющий успех «Тату» был основан не на музыке и не на образе малолетних лесбиянок, а на песенках, каждая из которых сочилась кровью дикой тинейджерской любви – до побега из дома, до вскрытых вен.
Ну, значит, будет пробиваться любоффф где-то там травой сквозь асфальт. Пока не раскрошит.
Я даже не хочу писать глупости, что за высоченными заборами в Репино или Горках-9 растут-де поколения, которые отвергнут ценности отцов. Я и самих отцов со счетов еще не сбрасываю.
Вот, допустим, жил полтора века назад демократ, помещик и стихотворец Некрасов, описывал горестную долю народа нелепым для ямбической культуры трехстопным размером. А под конец жизни забыл вдруг и про ценности демократии, и про долю, и раскрошил дактиль до размера свободного стиха:
- Зина, столько уж дней, столько ночей
- Сердце мое разрывается…
Чернила, говорите, в вашей персональной чернильнице высохли? Ну-ну. Доживем до смертного одра – тогда и поговорим.
Pulse St. Petersburg, 2007
Соблазненные и соблазнители
Каждому российскому спортсмену – гореть в аду. Обещаю. И чем знаменитее – тем злее будут черти и жарче пламя.
Гореть всем: от футболиста Леши Смертина, с которым интересно говорить о поэте Иосифе Бродском (а не только о футболе) – до фигуристки Ирины Родниной, которую лично я люблю за ум, отчаянную стойкость и иронию, которая отличает ее, даже когда она участвует в благоглупостях от «Единой России». От милейшего Андрея Аршавина до страннейшего Евгения Плющенко (он-то участвует в партийных благоглупостях всерьез).
В России они – соблазнители детей и вообще малых сих, грех их велик; сейчас объясню.
Большой спорт не имеет отношения ни к здоровому образу жизни, ни к миддл-классовым ценностям (комфорт, семья, счастливая старость); большой спорт – это травмы, деньги (которые куда чаще зарабатывают на спортсмене, чем он сам), неустроенная или наспех устроенная личная жизнь (теннисистка Елена Лиховцева как-то говорила, что ей повезло, что у нее есть муж, сопровождающий ее на турнирах – в теннисе гигантское количество, добавила она, лесбиянок, причем лесбиянок, так сказать, от безысходности; позже я слышал то же про геев-пловцов).
То есть герои большого спорта не пример добродетели ни в каком виде, они – пример отклонения от нормы. Они – воплощение live fast & die young, они – пример либо горения, либо стяжательства, либо пролонгированного самоубийства. И греха на них нет лишь тогда, когда параллельно им основная часть нации просто ведет здоровый образ жизни, заполняя свободное время физкультурой, или фитнесом, или чем-то еще в этом роде, то есть занимаясь спортом ради удовольствия. То есть когда среди основных полей, долин, морей и рек национального пейзажа спортсмены возвышаются на манер заснеженных скал, кремнистых утесов, предупреждающих маяков. Тогда они украшают и оттеняют пейзаж. Но пейзаж без моря, где одни маяки – это картина безумия.
Понимаете, о чем я?
Когда в огромной массе мальчиков и девочек, бегающих, плавающих, прыгающих и прочее, вдруг выявляется небольшой процент тех, которые понимают, что их счастье – ломать кости, разрывать сухожилия и лишать себя простых радостей ради сверхнапряжения, ради миллиметров или миллисекунд рекордов, – это нормально. Это даже интересно и поучительно. Это, в конце концов, безопасно – когда в стране есть процент людей, устроенных не как все, и когда эти не-как-все преобразуют свою разрушительную энергию в большой спорт, и когда у каждого есть выбор: пойти за ними или остаться со всеми.
В стране с высокой бытовой культурой этот особый слой и поставляет чемпионов – не соблазняя тех, кто чемпионами быть не создан. Тогда отделившиеся от любителей профессионалы собирают вокруг себя таких же ненормальных – и тогда на них нет греха.
А на наших спортсменах – есть. Потому что в России нет ни массовой заботы о здоровье, ни культуры массового спорта. В России есть вера в чудо и пожирающая нацию алчность, когда родители тянут ребенка в теннис, футбол или лыжи не затем, чтобы физически развить, а потому, что рассчитывают, что их ребенок станет чемпионом и разбогатеет. И тогда они разбогатеют на ребенке. А то, что на спорте можно разбогатеть, опыт спортсменов-звезд их убеждает. Кому были бы интересны футболисты «Зенита», если б не зарабатывали миллионы ногами? Впервые, кстати сказать, в российской истории – не считая балерин.
Только Родниной, может, удастся избежать мук ада – потому что она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой во времена СССР, когда каток заливался в каждом втором дворе. И еще Смертину, может, удастся – потому что он играл за «Портсмут» и с ним невозможно было идти по Портсмуту, где дети его сразу окружали толпой. А в городе Портсмуте, где нынешний стадион строил еще Конан Дойль (и, кстати, лично стоял на воротах), – дети каждую свободную секунду гоняют мяч, потому что помешаны на футболе. И отцы их помешаны, и деды.
Но в России, повторяю, все по-другому.