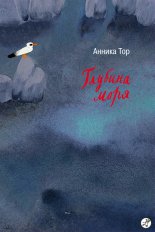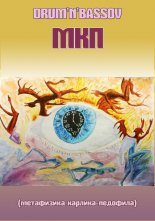Записки брюзги, или Какими мы (не) будем Губин Дмитрий

И спасало разве то, что технологии и логике увольнения меня учил мой собственный начальник, немец Михаэль фон Ш., который требовал, чтобы я минимум дважды в подробностях объяснял подчиненному, почему им недоволен, и только на третий раз ставил вопрос ребром.
Знаете, оказывается, это ужасно тяжело – обосновывать причину своего недовольства. Приводить рациональные аргументы. Опускать эмоции. Объяснять, чего ты ждешь. И вообще, быть объективным.
А потом, когда все аргументы исчерпаны, так же невыносимо тяжело думать об ответственности за доверенный тебе бизнес и говорить человеку в лицо, что ты с ним расстаешься, и обсуждать условия расставания.
Вот тогда я и понял, почему начальник при увольнении должен глядеть в глаза подчиненному. Потому что в этом случае он разделяет стресс увольнения вместе с ним. И вот эта боль, этот ужас, эта тяжесть страхуют от опрометчивых, случайных, эмоциональных решений куда надежнее, чем весь КЗОТ от Гостомысла до наших дней.
Но теперь я точно знаю, откуда проистекает новое русское увольнение.
От разлитого в обществе цинизма.
Увольнение – это очень внутренне циничная вещь: ведь, увольняя, ты ценой крушения чужой карьеры строишь карьеру собственную, – карьеру рачительного руководителя, которому интересы бизнеса важнее душевного спокойствия. То есть идешь по чужим головам, какими бы соображениями это не объяснялось.
А циники, как мне когда-то объяснял один умный, но цинизма также не лишенный человек, бывают трех типов.
Старые циники – это те, которые идут по головам, когда другого выхода нет.
Просто циники – это те, что идут по головам, когда это самый прямой путь.
А новые циники идут по головам, удивленно спрашивая «Какие головы?». И фишка тут не в том, что они притворно не замечают чужих – и живых – голов. А в том, что они, и правда, считают, что слабые головы созданы для хождения по ним. Ведь им же однажды объяснил популярно их лидер, что «слабых бьют». И, соответственно, дал отмашку слабых бить.
И вот эти, третьего типа, циники, составляют ключевую фигуру наших дней – причем, боюсь, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания и даже политической ориентации. Они не встречаются с тобой, не объясняют резонов и не смотрят тебе в глаза по той простой причине, что эти действия – лишняя работа их сердца, лишняя загрузка их мозга и вообще неприятная эмоция, которой они, новые тонко устроенные гедонисты, платонианцы и неогегельянцы, хотели бы избежать. Зачем портить себе настроение? Ведь коли явление не существует в мозгу – оно ведь и вправду не существует?
Если вы читали данные февральского, этого года, исследования ВЦИОМ, то помните, что в ответе на вопрос, как изменились россияне за последние годы, первое место занял ответ: «стали более циничными». 59 %.
Следует уточнить: циничными по третьему типу. Прежние русские стали новыми циничными русскими.
Это значит, что увольнений в новом стиле будет больше, и к ним должен быть готов любой.
Крайне забавно будет поболтать на эту тему с Байбаковым, если накануне президентских выборов он узнает о своем увольнении от собственного шофера.
2007
Я приду плюнуть на ваши могилы
Зимой я катаюсь на сноуборде, летом – на роликах; оптимальное место в Москве для последнего – Поклонная гора с ее военным антиквариатом и ровным асфальтом, а упоминаю об этом по той причине, по какой драматург, еще до первой реплики, сообщает: «в столовой, слева от камина, висит охотничий карабин». Ну вот, вы предупреждены, а теперь пьеса.
В подмосковном горнолыжном местечке Степаново, одном из немногих с кресельными подъемниками, я в феврале с этого кресла чуть не свалился, не поверив глазам. Сбоку от леса и почти на самом спуске находилась – сомнений никаких – могила: с оградой, железным памятничком и даже, кажется, полуоблетевшим венком.
Таких фальшивых, без покойника, но упрямо борющихся за внимание могил немало произрастает вдоль российских дорог, но это была первая могила сноубордиста. И она меня чудовищно злила: и своей фальшивостью (при том, что смерть была настоящей), и тем, что взывала к скорби там, куда я приехал развлекаться, и тем, что устанавливали ее наверняка такие же тупорогие, что и (тут я уж совсем переходил грань) покойник. Потому что память – это не только продолжение той красоты или ужаса, которые человек производил при жизни, но и возможность реванша, если красоты произведено недостаточно. Память – продолжающийся со смертью матч, шанс на бессмертие. Хотите в годовщину помянуть друга – зажгите свечи, бросьте охапкой на снег цветы. Знаете, каким он парнем был… Устройте покатушки с факелами в ночи, черт возьми, заведите страницу в интернете. Но если вы ради него собираетесь портить и вид, и склон, и мне настроение – то что, спрашивается, я должен о нем и о вас думать?
Фальшивые могилы, называемые греческим словом «кенотаф» – явление, с одной стороны, древнее, а с другой стороны, в промышленном масштабе – неорусское. Их не было в СССР, их нет (вне кладбищ) в современной Европе. Впрочем, дважды я встречал там их подобие, но столь отдаленное, что уже и противоположное по смыслу.
Первый раз – в Греции, на горном серпантине, где чуть не на каждом втором повороте встречалась иконка; ночью у иконок горели свечи. Я там спросил закутанную в черное селянку, в честь чего горят. В ответ я услышал, что не в честь, а за упокой – тех бедолаг, которые, в отличие от меня, не вписались в поворот.
Но там все же были иконы и свечи, а не ограды и памятники, да и ставили их на своей территории местные жители, а не вторгающиеся к ним чужие родственники и друзья.
Второй же раз во Франции на Атлантике я наткнулся на могилку у тропы над скалами. В крохотный холмик был воткнут сделанный из камышинок крест с табличкой, на которой значилось: «Здесь покоится лягушонок Леонардо, который жил у Паскаль, Андре и Юго, которые его любили».
Паши массовые придорожные могилы поражают иностранцев. Помню, я долго объяснял английскому журналисту, что это имитации, а хоронить можно только на кладбищах, санитарные нормы и все такое – после чего коллега выразил желание на нашем кладбище побывать. Я отвез его на Южное под Петербургом. Была поздняя осень. Приторно пахло свежим трупом. Перед нами расстилался кладбищенский мегаполис – со всеми своими разномастными оградками, убогими памятничками и не менее убогими двухметровыми изваяниями конкретных пацанов на бандитской части погоста сразу у входа. Хлюпала вода. По правой границе на могилах росли камыши. Иностранцу нужно было в туалет, я остался снаружи. Он выбежал с выпученными глазами, я зашел. Этим сортиром мог пользоваться только мертвый, и то, если был не брезглив.
На обратном пути я услышал вежливо сформулированное предположение, что у нас делают фальшивые могилы возле дорог, потому что на настоящих кладбищах стыдно и противно людей хоронить.
По-моему, это была наивная концепция.
Она не объясняла, почему, сбегая из убогой коллективной тюрьмы на простор, люди воспроизводили такую же убогость, только индивидуальную.
Есть люди, любящие посещать кладбища; я – нет. Однако запомнил Хайгейтское в Лондоне (с могилой Карла Маркса), на которое как-то влетел с толпой человек в пятьсот роллерблейдеров: такой тогда был выбран устроителями маршрут. Представьте: бесшумно летящие среди ангелов люди, Лондон, закат. До сих пор перед глазами.
Или крохотное кладбище в Лаппеенранте, в самом центре городка: несколько старых гранитных плит со стертыми именами, сосны.
Или кладбище при церкви под Портсмутом, с крестами, поросшими таким идеальным мхом, что они казались реквизитом для Голливуда; оно соседствовало забор в забор с футбольным полем, по которому бегал на тренировке игравший тогда за «Портсмут» наш Леша Смертин.
А на Тянь-Шане мне показали кладбище погибших альпинистов: куски скал, неведомо как перетащенные в расщелине к ручью (техника там точно пройти не могла).
Все эти места объединяло одно. Они располагали к размышлению, элегии, даже грусти, но только не к отчаянию от того, что в дерьме жил, в дерьме и будешь погребен.
Это была эстетизация завершенного жизненного цикла. Красиво жил, достойно похоронен; наследники в черном и вдова благородно смотрятся у гроба. Я же говорю: Голливуд.
Кладбища в СССР были отчаянной попыткой добиться частной собственности на землю, пусть и посмертно. Эта интенция реализовывалась посредством оград; именно разномастные ограды придают советским, а теперь и российским кладбищам убогий вид (без них они были б бедны, но терпимы). Урвать, ухватить право на четыре квадратных метра и не дать посягнуть на них соседу (а ведь нет сомнений, что посягнет, – сами такие), установить межевой знак. Когда в 80-х под городом Иваново открыли новое кладбище, где ограды на европейский манер были запрещены, похороны там приравнивались к немилости, к публичному изгнанию в низы; мало-помалу там стали расти низенькие огражденьица; постепенно все перешли на кинг-сайз.
Вторая интенция состояла в неколебимом материализме, понимаемом так: тем скорбим сильнее, чем матерьял дороже. Реализация популярной мысли, состоящей в том, что смерти можно дать взятку, облегчала скорбь и повышала социальный статус (в глазах самого утешаемого). Наследник со связями добывал на могилу гранит и мрамор (провинции они во времена СССР не полагались), наследник без связей ограничивался мраморной крошкой, а люмпен выводил по бетону «золотой» краской звездочку или лавровую ветвь. Типа, богато.
Борьба за «хорошее» место на кладбище была сравнима с битвой за гараж или за урожай. Государство же, будучи осведомлено об индивидуалистических склонностях подданных, в отместку выделяло места под кладбища непременно на неудобицах, вдоль железных дорог и в подтопленных низинах, – кстати, точно также, как и места под гаражи. Оно и землю под садоводство на одной шестой части суши демонстративно ограничивало шестью сотками.
Работой советского государства, вообще, было уничтожить человека.
Надо признать, работа была выполнена качественно и в срок.
Эльдару Рязанову больше не снять про гаражи фильм; недвижимость приватизирована, проблема решена. С дачами тоже вроде все ясно: при наличии денег можно иметь дворец и парк при дворце.
Но кладбища по-прежнему остаются исключительной вотчиной государства, и с ними происходит то, что обязано происходить. Потому что в частном бизнесе результат может быть хорош или плох, но в государственной вотчине он только плох, причем во всем, от армейской службы до пенсионной реформы, от ГАИ до ЖКХ. Он отвратителен настолько, что ты, узнав о гибели близкого в катастрофе, не можешь свою память этому государству доверить, а бежишь давать взятку директору, условно, ФГУП «Востряганьковское»; а потом, рыдая, прибиваешь к сосне у шоссе скрюченное автомобильное крыло и врываешь в землю крест.
То есть делаешься от государства неотличим ни эстетически, ни морально. Там конкретные люди приватизировали общественные посты – тут ты приватизировал общественную сосну.
Это и есть картина царящей сегодня в России стабильности и общественного согласия.
Когда я катаюсь на роликах по Поклонке, превращенной в мемориал, то есть тоже по своего рода кладбищу-кенотафу – я думаю, как замечательно, как бы прекрасно было это место, если бы средь кущ и рощ, средь свежепокрашенных танков и «Катюш», была бы выстроена не церетелевская пошлятина, а устроены скейтпарк и рампа для трюкачей-экстремалов на смешных маленьких велосипедах ВМХ, плюс пара склонов для даунхилла. Представляете, как сильно звучала бы там тема смерти и жизни? Это мог быть мирового уровня мемориал. А то, что сделал Церетели, все эти храмы-фонтаны-купола-стелы-бронзы-мраморы – это надпись краской-бронзовкой «для красоты».
Самое печальное, что вкусы Церетели, Лужкова и, я полагаю, народа – едины. И по той причине народ будет получать то, что получает – от кладбищ до армии и парламента.
В Думе про закон о частных кладбищах, со всеми его прелестями, вроде права на ликвидацию могилы после прекращения аренды, даже не заикаются. Там грозят кулаком Эстонии по поводу Бронзового солдата. Я к Эстонии без иллюзий отношусь, они из Пярну вдову Давида Самойлова с больным ребенком когда-то буквально выдавили. Но вот то, что эстонцы прах наших солдат достойно перезахоронят, я не сомневаюсь. И что могила Самойлова на ухоженном, с горящими в стеклянных колпаках свечами, кладбище не будет оскорблена – не сомневаюсь тоже. Мне просто хочется иногда, чтобы вместо заботы о давно истлевшем прахе в Таллинне очередной государственный муж хоть что-нибудь квакнул о не успевших истлеть прахах под родными осинами. Впрочем, он и не квакнет: у них там наверняка спецпогребение.
Так что правильно Бродский улегся на общих основаниях в землю Венеции, а не получил по мандату место на давно закрытом Смоленском кладбище в Петербурге.
Я его понимаю.
И хочу вполне серьезно, чтобы меня по отделении души от тела не хоронили, а кремировали, прах же развеяли в ветреный день у Петропавловки над Невой, когда меж крепостью и Зимним дворцом вскипают бурунчики на волнах.
Вдова пусть накинет шаль с кистями, которые красиво будут взлетать на ветру.
Пусть другие уродуют своими смертями мир.
2007
Р. S. Эта статья была опубликована, когда я получил ехидное письмо, в котором сообщалось, что лжемогила в Степаново – это не кенотаф сноубордиста, но военного летчика, разбившегося здесь во время войны с фашистами. Согласен, mea culpa. Но я перечитал еще раз текст – решительно ничего в нем это уточнение не меняет.
Хмурое утро
Всемирный Экономический Форум (World Economic Forum, есть такая организация) выдал на-гора рейтинг туристической привлекательности стран: Россия заняла шестьдесят восьмое место из ста двадцати четырех.
Ну заняла и заняла, делов-то. Любой человек, путешествовавший от Хабаровска до Казани и от Архангельска до Сочи, знает, что гостиницы наши скверны, сервис хром, дороги разбиты и что – самое главное – смотреть в России решительно не на что: города наши большей частью безрадостны и одинаковы, и Омск на Иртыше на вид неотличим от Иваново на Уводи; и я, ей-богу, зайду в тупик, если спросят, чем заняться в крайне симпатичной мне Вологде, кроме как заглянуть на час в Кремль да пройтись по району жутких панельных пятиэтажек, где убили поэта Рубцова.
В общем, обидно, конечно (тем более, что привлекательнее нас и Литва, и Латвия, и даже Грузия), но понятно, что семьдесят лет унификации даром не прошли. Что же до крррасот природы – то у нас специфическая красота, с комарами, и непонятно, почему ради скромных красот надо ехать в Россию, а не в Финляндию, где природа все та же, но комаров нет, они остаются на погранпунктах со стороны России. Ей-ей, можете проверить: в Торфяновке вас облепит туча гнуса, а в Valimaa не найдете ни единого комарика, хотя Торфяновка и Valimaa – это сто метров расстояния.
Но, повторяю, нет смысла расстраиваться, а тем более злиться на рейтинг: он заранее прогнозируем. Однако в его деталях таится дьявол. Дело в том, что рейтинг WEF – интегрированный, сводный. Для его составления использовалась как статистика, так и исследования еще пяти международных организаций, включая ЮНЕСКО, а оценивалась масса параметров. В России, например, самый низкий риск заболеть малярией (1 место); у нас все хорошо с количеством врачей (4 место) и внутренними авиаперевозками (6). Все очень плохо с милицией (120 место: они понятно – менты не народ, а власть от народа охраняют).
Но вот на показатель доброжелательности населения по отношению к приезжим хочу обратить внимание. Потому что оценка доброжелательности – это, с моей точки зрения, и есть оценка той самой пресловутой души, о которой в России не говорит только немой; доброжелательным быть население может и при плохой инфраструктуре, и при скверных правителях. Так вот: в рейтинге из ста двадцати четырех национальных душ российская душа занимает пятое место. С конца. А если считать с начала, то мы сто девятнадцатые.
Это – реквием по мечте, которая, во времена голодной перестройки и высоких надежд, звучала так: «Когда проклятая советская власть забудется окончательно и настанет капитализм, все будут улыбаться друг другу». Да-да, я тоже верил, что в 2007-м году в российском сервисе меня будут с улыбкой и счастьем в глазах вылизывать с головы до ног.
Не будут. Не вылизывают, вообще не улыбаются. Я не Всемирный Экономический Форум, у меня вся статистика – холодные наблюдения и горестные заметы (у вас, полагаю, тоже). Так вот, количество приличных магазинов, гастрономических шалманов, вообще всяческого сервиса у нас невероятно возросло. Доброжелательность обслуживания – в той же пропорции упала.
Дело не в возврате к советскому хамству; с хамством встречаешься редко, хотя дух возврата к СССР ощутим. Дело и не в отсутствии улыбок, которых лет десять назад было больше: раньше хотели выглядеть «как на Западе», а теперь, когда что на Западе, что на Востоке одни враги, фигли ж с врагов брать моду.
Дело в том, что сегодня в России на клиента вообще не обращают внимания. Он – лишний по отношению к той внутренней жизни, к тому общению, которым озабочены два швейцара в некогда почитаемом мною за эталон гранд-отеле «Европа»: они болтают друг с другом и продолжают болтать, даже заметив меня. В салончике «Евросети» я пытаюсь провести платеж через автомат; никак не получается; девушка за прилавком с ненавистью смотрит на меня, потому как занята написанием sms и понимает, что сейчас я обращусь к ней. Действительно обращаюсь, она – «Смотреть надо, какие цифры вводите!»
И так – всюду, везде, на каждом углу. Я сначала думал – дело в том, что мы, я и вы, по отношению к людям из сервиса лишние, пока не понял: для людей из сервиса лишней является их работа.
Для них является лишней любая работа, кроме той, которая дает возможность либо сразу заработать миллион, либо мгновенно прославиться, либо каким-то другим способом стать персонажем глянцевой жизни, героем времени.
Неглянцевая жизнь, как и неглянцевая работа, жизнью и работой не считаются.
Большинство моих либеральных знакомых, тоже видящих и чувствующих эти изменения, все же склонны объяснять их общим разворотом страны в сторону СССР, в котором винят власть. Логику я уже описал: если за семь лет правления Путина у нас в мире исчезли друзья, и все приезжие наши враги, то с какого дуба мы должны им улыбаться?
По большому счету, любой человек, приезжающий в другой город и даже просто выходящий из собственной квартиры, становится таким врагом: что ему тут делать? Чего ему у себя не сиделось?
Однако мне кажется, что наши правители есть производное от народа в не меньшей степени, чем народ от правителей. А русский народ сегодня исповедует вполне простую религию: деньги – это все, а все остальное – ничто, и ради всего можно поступиться ничем.
Я далеко ухожу от темы? Нисколько. Если страна подсела на деньги, то уважаемыми профессиями в ней становятся только те, что дают много денег. А содержанием профессии становится добывание денег.
Я видел фантастических отельеров в Испании и Франции; это были семьи, передававшие свой отельчик из поколения в поколение. В одной такой гостиничке в Каннах был потайной сад с замшелыми статуями, и в этом саду сервировали завтрак; восьмидесятилетняя хозяйка разносила, светясь от счастья, круассаны, а потом, так же светясь от счастья, выстукивала на «Ремингтоне» счет за номер. Она меня любила, отель был ее жизнью, каждый клиент к этой жизни что-то добавлял. Я видел в Париже стариков-официантов, молниеносно обслуживавших разом дюжину столиков, при этом не записывавших заказ, а просто запоминавших: они получали удовольствие от этого своего виртуозного лавирования, как получает удовольствие от жонглирования цирковой артист.
У нас я такое встречал лишь в кафе «Клон» на Дмитровке, устроенном на месте знаменитой советской таксистской забегаловки «Зеленый огонек». В «Клоне» фантастической красоты девочка принимала заказ, присев перед столиком, положив на стол руки, уперев в них подбородок и немигающе глядя на тебя. Потом она повторяла заказ слово в слово и так же не отрываясь смотрела.
Это были какие-то просто шелка и туманы, я долго ходил в «Клон» ради нее, пока девушка не исчезла и «Клон» не закрылся.
Это было исключение, щемяще прекрасное на фоне правила.
Общее же правило, повторяю, таково.
Уважается только то, что дает деньги. Работа в сервисе денег дает немного, и неприветливость – это демонстрация, что обслуживающий тебя человек тут временный и вот-вот отчалит в сторону блестящих перспектив.
Ты зашел в магазин посмотреть? Ты нам не нужен, оставляй деньги или выметайся. Ты заехал в гостиницу? Давай деньги и не говори про Европу, а не нравится – сваливай туда, здесь мы все такие.
Деньги – товар – деньги.
Все проявления жизни, к которой относится любопытство, радость, удивление, желание помочь, любезность, улыбка – исключены. Обратите внимание: за границей уличные музыканты играют, чтобы развлечь толпу, развлечься самим, да еще и подзаработать. У нас большей частью играют, чтобы извлечь прибыль из сострадания прохожего к их мучениям, заставить откупиться от вида человека, принужденного играть на улице, – это заработок на шантаже.
Удивительно, что мы заняли всего сто девятнадцатое место.
Неужели есть страны, где деньги значимы еще больше, чем у нас?
2007
С широко закрытыми глазами
Если не давать слово врагам, их место займут фантомы, в борьбе с которыми мы и увязнем.
Есть в Москве, в кишечнике переулков близ Мясницкой, клуб «Билингва», с пивом и музыкой – из числа, что называется, неформальных. Главной его особенностью являются политдебаты, на которые раз или два в месяц специально собираются авторы страничек в Живом Журнале.
Ради дебатов в «Билингву» и имеет смысл идти. Там сходятся в драке и алогубые, нежнолицые блондины, исповедующие арийского типа нацизм, и низколобые, из подмосковных районов, скины, и холеные европеизированные либералы. Страсти кипят нешуточные и непроплаченные; ощущение – будто в трюме «Титаника» близ топки.
Я там помню схватку по русскому вопросу. На дуэли сошлись автор «Духlеss’а» Сергей Минаев – и Константин Крылов, главный идеолог русского национализма в ЖЖ. На стороне Крылова выступила одна вполне себе милая девушка, вынужденная, по ее словам, десять лет назад сбежать из Узбекистана. Судя по недурному брючному костюму и обильным украшениям – побег удался. И вот, позвякивая цепочками и кольцами и ломая, что называется, пальцы, девушка заговорила. О том, что если ее ровесница носит хиджаб, ее это страшно пугает. Что непозволительно, нельзя, живя в России, пять раз в день становиться на коврик лицом к востоку и творить намаз, что это оскорбляет верования и уклад коренных жителей. Что вот ей же в Эмиратах не дадут ходить в мини-юбке, а что ж они у нас ведут себя как дома?! Нет, пусть снимают хиджаб! (Дался ей этот платок!)
Это был прелестный момент.
Ах, если бы это могла видеть ее бабушка в далеких 1960-х! Представляете, что бы сказала она о внешнем виде вот такой фифы?
Проститутка. Агент капитализма. Ни чести, ни совести, срам. Раздавить гадину (ой, нет, это из более поздней оперы).
Но ничего – всего два поколения сменилось, и мы вполне принимаем агентессу империализма в свои ряды и даже позволяем говорить о морали.
Банальная мысль о том, что страхи с развитием общества меняются, но не исчезают, не стоит пафоса предыдущих абзацев хотя бы потому, что неверна. Страх – это материализация неизвестности; неизвестность можно и устранить.
Вот в центре Лондона в 1970-х возник Чайна-таун – с сотней китайских ресторанов и китайских же аптек. Там даже дорожные указатели писаны иероглифами. Можете себе представить, какие крики о гибели России вызвало бы подобное в Хабаровске? А вот лондонцы – ничего, приняли. Почитают кто за честь, кто за достопримечательность. Как почитают за достопримечательность наличие на севере аналогичного индийского района – с запахом карри, с выставленными в витрине сари – и надписями исключительно на хинди. А уж то, что дамы в хиджабах с сумочками от Gucci заполоняют и Оксфорд-стрит, и Гайд-парк – это вообще общепринятая реальность, которая пугает и возмущает, по моим наблюдениям, исключительно русских туристов. Во всяком случае, полиция у них документы не проверяет, и эти два факта – русское возмущение и британская невозмутимость в отношении одного и того же явления достойны внимания.
Дело в том, что лондонцы куда лучше знакомы с тем, что такое инаковость в ее теории и практике; они даже о причинах исламского экстремизма неплохо осведомлены, причем из первых уст. В Лондоне долго читал проповеди имам Абу Хамза Аль-Масри, прозванный Имам Ненависть. Он призывал к созданию мирового халифата, утверждал, что Гитлер был послан для наказания евреев и даже призывал к убийству немусульман. Его в итоге судили и осудили, но покуда суд не вынес вердикт, он проповедовал, реализуя свое право на точку зрения, а лондонские газеты его цитировали, реализуя право читателя знать эту точку зрения.
Правда, это для нашего уха звучит чудовищно?
Правда, мы не хотим такого в России?
Абсолютная правда.
Потому что в свое время мы проглотили: нельзя давать слово террористам, – и не уточнили: а кто, собственно, ставит клеймо «террорист»? Меня на Би-Би-Си когда-то резануло, что в сообщениях о терактах не используется слово «теракт». Но мне объяснили, что его заменяют нейтральными, потому что не имеют стопроцентной уверенности, что это теракт, а не, скажем, провокация спецслужб. И пока доказательств нет (выяснять истину – дело суда), они не имеют права, поддавшись эмоциям, давать оценку, влиять на слушателя и портить репутацию беспристрастного источника информации.
У нас все не так. Приняв, что вердикт может быть вынесен в досудебном порядке, мы позволили и дальше искажать картинку: теперь нельзя давать слово экстремистам, причем под экстремизм попадает абсолютно все, что выросло без разрешения. Нацболы – экстремисты, слова не давать (публика орет: а то! Лимонов – он же нацболо, фашист! – хотя уж к чему-чему, но к фашизму Лимонов отношения не имеет). Скинхеды – тоже экстремисты, это на вкус либеральной общественности (а у меня дома есть фотоальбом «Скины» Гэвина Ватсона, из которого с неизбежностью следует, что первые скины – просто дети окраин и пролетариев, шокировавшие бобби по выходным черными высокими башмаками, белыми галифе, подтяжками, котелками и вскинутыми пальцами в букве «V»). Эстонцы – опять же, враги России, слова не давать (вы хоть раз слышали эстонские аргументы за перенос Бронзового солдата?). Березовский – госпреступник, спонсор госпереворота (и вот на эфире у Соловьева Березовского судит Хинштейн, и понятно, что у Березовского шанса на защиту нет, хотя он есть в суде даже у серийного убийцы). Все эти Закаевы-Басаевы-Дудаевы-Вачагаевы – платные слуги Березовского и террористы, слова не давать (и теперь половине из них уже действительно не дать).
Причем последние имена бесят, подобно хиджабу, даже разумных людей, которые вдруг обрастают пеной у рта: «Это же тер-ро-рис-ты! Они убивали детей! Ты что, не знаешь, кто такой Басаев?! И этой гниде надо было давать слово?!!»
Ой-ля-ля. Я, положим, не слишком хорошо знаю, кто такой был Басаев. Но мне очень хочется понять, что заставило бывшего шабашника, недурно, по слухам, строившего коровники в центральной России, стать убийцей. И какую роль в его безжалостности к русским детям сыграло убийство русскими военными его собственных детей во время бомбежек. Потому что если ясна логика врага – есть шанс ему противостоять. Если логику врага запрещено понимать – значит, появится фантом врага, наделенный нашей логикой, и мы будем биться не с врагом, а со своими стереотипами. Причем с заранее прогнозируемым результатом.
– Дим, ты сдурел! Не строй из себя дурачка! Быдло должно знать: у нас есть враги, и враги не имеют права даже пикнуть, а ты что предлагаешь? Соскучился по Березе – возьми да и позвони. Потом расскажешь, интересно.
Это мой бывший друг, ныне циник. В разговорах со мной он без смущения говорит, что нация делится на элиту и быдло, пастухов и стадо. (А как же Пушкин: «Зачем стадам дары свободы, уделом их из года в годы?..») А потому умный человек имеет два пути. Либо притворяется быдлом, потакая предрассудкам, а сам ведет стадо на скотобойню, где сдает по рыночной цене (таков Жириновский), либо, когда шансов выглядеть бараном в глазах баранов нет, устраивается непосредственно мясником. Ну, или (если брезглив) стрижчиком руна.
А я веду себя неправильно, рассказывая стаду про мясников – а стадо меня все равно не полюбит, а мясники накажут. Это реальность. И умный должен ее понимать. А цинизм – это попросту мудрость. И вовремя предать – значит, уметь предвидеть.
И я со знакомым еще встречаюсь, но уже не спорю, потому что процесс зашел далеко.
Если сначала элита создает врагов для быдла, а потом отрубает любую возможность понять, что врагами движет, то затем сама начинает верить, что эти симулякры, фантомы, плакаты – реальны.
Сейчас мы на этом этапе. Российская элита по знанию мира стала занимать уровень лондонского быдла. Мой знакомый уже верит в заговор против России. Вот он ездит по заграницам, а там все его спрашивают про Политковскую и «Марш несогласных»: вестимо дело, Береза проплатил. Он теперь не верит, что людей в другой стране просто так, без денег, может интересовать гибель журналиста или избиение мирных граждан. Не верит, потому что давно сам ничего не делает за бесплатно, и ничем не интересуется за границей, кроме шоппинга. А ведь было время, и он, абсолютно искренне, ужасался бойне на Тяньаньмэнь. Тиражировал самиздат и жаждал знать правду. А теперь кривится на замечание, что устав Би-Би-Си не позволяет ей заниматься пропагандой («Ну, поговори еще со мной о преимуществах демократии!»: предполагается, умные люди знают, что у демократии нет преимуществ, и что в Европе демократии нет, и что Би-Би-Си занимается пропагандой по заказу властей, просто делает это тонко).
Он судит мир по себе, а его последний опыт жизни таков, что государство приватизировано и что в закон верят только лохи.
Он нашел себе идеал; он определил врагов идеала.
Пока он еще не на третьем этапе – не начал с врагами серьезную, полномасштабную войну. Но война эта, боюсь, все же будет. И за нее все заплатят. Абсолютно все – тут уж без деления на погонщиков и стадо. И абсолютно все – и погонщики, и стадо – будут в этой войне виноваты.
Впрочем, это я убежал далеко, а пока есть еще шанс насладиться предвоенной жизнью (кажется, в наслаждении состоит новейшая российская идея). Чему, конечно, мешает страх, у каждого всякий: одни трясутся при виде хиджаба, другие – налысо стриженых подростков, третьи (те, которые в хиджабах или налысо стриженые) – милиции или ОМОНа. Впрочем, я ОМОНа тоже боюсь, не понимая совершенно, что делать, если окажусь рядом во время очередного «Марша несогласных», и дубинки, стучащие по щитам, приблизятся ко мне. Может ли меня спасти искренний крик:
– Ребята, не бейте!
Или, наоборот, они смилостивятся, услышав:
– Я член «Единой России»!
Как они там внутри устроены? Что чувствуют, когда бьют людей? Про ваххабитов я все же знаю больше, чем про ОМОНовцев.
А потому у меня есть идея, которую пока трудно признать подрывной и антигосударственной. Ради уменьшения страхов нужны книги типа «Милиция для чайников», «Нацболы для чайников», «Ислам для чайников», «Быдло для чайников», «Коррупция для чайников», «Администрация президента для чайников».
Чем-то таким, просвещающим, пытался заниматься в свое время Илья Кормильцев, основавший издательство «Ультра. Культура»: выходившие книги представляли другие точки зрения на мир. Кончилось, правда, плохо: за публикацию научного труда о марихуане против Кормильцева возбудили уголовное дело, он скрывался в Лондоне, где и умер от рака.
Но вряд ли бы он одобрил в этой ситуации опускание рук.
А пока такие книги пишутся, хотя и не нами. На чемпионате мира по хоккею иностранные журналисты рассказывали, что снабжались на родине инструкцией по поведению в России. Где, в частности, им настоятельно рекомендовалось избегать контактов со стражами порядка. Коллеги походили по Москве, повосхищались храмом Василия Блаженного, поужасались состоянию ВДНХ и подивились существованию возле нее торговых рядов, где в открытую торгуют ворованными телефонами. Затем они взяли такси, договорились о цене и поехали в гостиницу. Когда же приехали, таксист затребовал с них в десять раз больше. Они попробовали возмутиться, но он пригрозил милицией.
Они вспомнили еще раз инструкцию – и заплатили.
Я полагаю, правильно сделали.
2007
Предчувствие гражданской вины
Никогда еще в России так сладко не ели, так мягко не спали и так разухабисто не потребляли: по моим наблюдениям, называющие себя миддл-классом в Москве живут на уровне up middle в Лондоне. С чего бы тогда постоянно, настойчиво и всюду – разговоры, что скоро все накроется?
Чем успешней социальный слой, тем чаще внутри него подобные разговоры: это примета последних лет трех. Их важная составляющая-слово «подушка». Подразумевается, смысл жизни в России – заработать столько денег, чтобы превратить их в постоянный источник дохода, и с этой подушкой перенести семейную спальню в Прованс или тот же Лондон. Показательно даже не стремление к жизни рантье (мечта о ней характерна для всей корпоративной культуры), а то, что жизнь рантье в пределах России не признается жизнью. И то: русское население Лондона выросло за три года с двухсот до трехсот тысяч!
Успешный россиянин – получивший в рекордные сроки с жизни в России очень большую, по западным меркам, премию – мучим эсхатологическими настроениями. Я насчитал десять объяснений этой тревоги.
Точно так же, как литературу в России порой считают «учебником жизни» (хотя она – лишь развлечение, и изредка – корм для ума), так и историю многие полагают инструментом прогноза.
Когда еще, спрашивается, Россия развивалась так бурно? Когда на 10 % в год рос ВВП? Когда страна переживала такой строительный бум? Правильно: в серебряный век 1900-х, кажущийся теперь золотым. Чем кончилось – известно: войной, революцией, крахом. Второй бум потребления, уже в конце 1990-х, был краток и, опять же, завершился дефолтом и пятикратным падением рубля. Следовательно, и нынешние изобильные годы, с их миллионами продающихся иномарок и гектарами вводимых в строй гипермаркетов – наваждение, морок и жизнь взаймы.
Возражения, что спады сменяют подъемы всюду и везде, отметаются: известно же, что мы не такие, как все.
Россиянин, путешествующий по миру, не всегда сформулирует, но всегда чувствует важное отличие России от Европы. Нигде нет такого контраста между провинцией и столицей: отъедьте от Москвы на полсотни верст. Провинциальные французские Тур, Амбуаз, Санлис – прелестны, как бонбоньерки; то же с итальянской Вероной, испанской Валенсией. Дело не в истории (Ярославль, что ли, менее историчен?), а в поголовной бедности наших регионов, вид которых вызывает неизбежное ощущение, что московский пир изобилия – пир грабителей во время чумы. Грабителями же и устроенной.
Владение же «Мерседесом» в окружении «Жигулей» уверенности в будущем не прибавляет. Прибавляет – владение «Ламборджини» в окружении «Мерседесов».
Смысл в том, что пресловутая анонимная «власть», управляющая политически пассивным населением, к тому же преданным президенту, ведет себя так, как будто этого президента все только и мечтают свергнуть – чем порождает нервозность даже среди лояльных.
Спрашивается: зачем избивать участников митинга в Петербурге, тихо-мирно шедших к метро? Зачем придумывать идиотские даже для идиота способы недопущения в Самару участников «Марша несогласных»?
Когда власть сильна, она либо позволяет оппозиции все, либо уничтожает ее на корню. То есть если бы «Другая Россия» допускалась к митингам и эфиру (или если бы Каспарова, Рыжкова и Касьянова расстреляли на стадионе), обыватель был бы спокоен. А так, как говорит мой знакомый лондонский банкир – «авторитаризм в России пластмассовый. Закручивает пластмассовые гайки пластмассовым ключом». Миддл-класс знает за пластиком свойство дешевого заменителя металла – и невольно вибрирует, подозревая за властью не силу, а постыдную тайну.
Треть населения страны прочно влезла в кредиты. Вице-президент ритейлового банка из первой тройки по размеру капитала рассказывал о попытке год назад выйти на Урал: оказалось, что в Екатеринбурге местными банками выдано двести шестьдесят тысяч кредитов. Ну и что, город-то – миллионник? А то, что в пересчете на экономически состоятельное население – это два кредита на семью. Набрав же кредитов, россияне обрекли себя на нервозную жизнь от выплаты до выплаты. И вот сидит московский менеджер, переехавший в Беляево из «однушки» в «трешку», и трясется: зарплата у него $4500, а выплаты банку $2500, а в новой квартире кладут полы из дубовой доски, а старая квартира, продажей которой он рассчитывал свести концы с концами, зависла в листинге, хотя уже трижды снижали цену И вот – очередная выплата, а зарплата на карточку еще не переведена. Как ему смотреть с оптимизмом в будущее?
Словно в анекдоте, в котором нового русского не радуют старые елочные игрушки, многие из самых обычных россиян напоролись на то, за что боролись. А боролись они со времен СССР за материальную обеспеченность, в процессе борьбы придя к убеждению, что любые штучки типа «духовности», «нравственности», «морали» или, не к ночи будь сказано, «культуры» есть либо удел лохов, либо инструмент их разводки.
И вот телевизор, машина, квартира и дача приобретены, но место счастья занимает тоска. Счастье, как выясняется, не продается, а другие потенциально ведущие к нему пути поросли травой.
Упоминаю лишь потому, что большинство уверено: именно углеводороды есть источник их благ – пусть даже их личные блага проистекли из торговли каким-нибудь китайским трикотажем. На самом деле, продажи нефти и газа обеспечивают лишь 40 % ВВП, а в последние пару лет не они, а потребительский спрос является главным двигателем российской экономики. Другое дело, что основные нефтепотоки национализированы, то есть переведены от известных владельцев к неизвестным. Это приводит к ситуациям, когда, при росте мировых цен на нефть, капитализация нефтяных госкорпораций падает. Когда такое случилось, спрашиваете? Да вот в этом, 200? году.
Парадокс: какое социологическое исследование ни возьмешь, деятельность всего государства, кроме главы государства, оценивается ниже уровня воды в сортире, в котором когда-то глава государства обещал замочить всех врагов. Государственное здравоохранение? – Зурабова готова разорвать не только чернь, но и приличные портфельные инвесторы; пенсионная система? – полный кошмар; армия? – дедовщина и три копейки в год на довольствие.
Попробуйте хоть раз проехать по трассе Москва-Петербург. Там мириады автопоездов с новенькими иномарками и километры кошмарной разбитой двухрядки с засевшими в кустах гаишниками. Иномарки в страну ввозятся благодаря частному бизнесу, дороги не ремонтируются и поборы взимаются благодаря государству. Десятки моих знакомых в последние годы построили себе дачи, но ни к одной их них не подведен газ. Хотя в стране существует «Газпром», и глава его неплохо выглядит.
Уровень инфляции в стране (около 10 %) в полтора раза ниже роста доходов. Казалось бы, это повод не для тревоги, а так, для раздражения, которое вызывает, скажем, подорожавший на два рубля йогурт. Если бы не одно: растет и расслоение по доходам. Так что доходы опережают инфляцию у богатейших, а что у беднейших (да и среднейших) – вовсе не факт.
Вот моя знакомая петербургская барышня десять лет курсирует (как и я) между двумя столицами. Только предыдущие девять лет она курсировала в купе, а в этом году – в плацкартном вагоне. Если самый дешевый купейный билет в январе стоил девятьсот рублей, то в мае – полторы тысячи. За билет на скоростной поезд в один конец (пять часов, шестьсот пятьдесят километров) надо выложить две тысячи семьсот рублей. Для сравнения: поезд Париж-Биарриц (те же пять часов, но девятьсот километров) обходится в сто евро в оба конца. Барышня является переводчиком-синхронистом, а потому подумывает из России отчалить. В сторону Биаррица.
У приятеля детства, владельца автосервиса – большие проблемы. Сына схватили средь бела дня и забрили в армию. У жены, работающей в химпроме, Госнаркоконтроль остановил производство, объявив растворитель этанол наркотиком, а ее саму – сотрудницей наркокартеля.
Сын был отмазан за пятьсот долларов (дешево отделались), с женой сложнее: эмвэдэшная крыша знакомого объяснила, что передел собственности в химической промышленности крышует ФСБ.
Я не знаю, что здесь правда (кроме проблем), приятель тоже. Возможно, его крыша разводит его на деньги; возможно, на деньги разводят крышу Факт в том, что любая серьезная крыша давно стала государственной, а разница между бандитами без формы и бандитами в форме только в форме. В возможность решать проблемы по закону, через суд, он не верит ни на грош. «Суды куплены, МВД поголовно куплено, ФСБ втрое дороже, но куплено, администрация куплена», – говорит он, не доводя рассуждение до главного: а кем, собственно, куплено все?
Бизнес приятеля недавно был оценен в миллион. В полмиллиона – его квартира. Сегодня он думает, что – бизнес или квартиру – выгоднее продать, и, опять же, свинтить. Он просто не уверен, что не придут за его автосервисом.
Между прочим, 60 % российского фондового рынка – деньги зарубежных инвесторов. А мировой фондовый рынок переживает не лучшие времена. Многие предрекают скорый кризис: начнется все с США, где ждут обрушения рынка недвижимости, вызванного, в свою очередь, кризисом ипотеки.
Какая связь между ипотекой в Айове и работой в Курске? Прямая. При глобальном кризисе инвесторы в первую очередь выводят деньги с emerge markets, рискованных рынков, к которым относится и Россия. Капитализация наших компаний падает, кредиты для них становятся золотыми, сотрудники теряют работу, а банки банкротятся, потому что ипотечные и потребительские кредиты перестают возвращаться. А политическая элита, так же обедневшая, вмиг перегрызается и начинает рассказывать друг о друге весьма интересные вещи.
И тут уж действительно – требовать импичмента и строить баррикады. Чему МВД, ФСБ, спецназ и ОМОН, потерявшие доход от крышевания, вряд ли будут сопротивляться…
Честно говоря, я попытался суммировать все версии. Но в итоге пришел к еще одной – собственной. Разваливая с яростной радостью СССР (а его погубила нелюбовь суммарного «мы»), строя новую России в голоде и холоде (буквально), мы, в общем, грезили о стране европейской, или точнее, пан-атлантической цивилизации. Базовые принципы которой едины от Ванкувера до Копенгагена: равенство, свобода, справедливость, закон, благосостояние. И где последнее есть только следствие из первых четырех. И к которому (в смысле, богатству) некоторые страны шли десятилетиями.
Мы же мгновенно, при первой углеводородной оказии, разменяли на деньги и равенство, и свободу, и справедливость, и закон. По уровню потребления – мы вполне Европа. По типу внутреннего устройства – даже не Азия, где картель, семья, жус, клан открыто узурпируют власть. Мы стали вновь, как и во времена СССР, уникальной страной.
И теперь трясемся, не видя ни примера, ни поддержки нашей уникальности – чувствуя только, что дом стоит на песке. Ну, или на нефти: качается.
И к этому привели не Ельцин и даже не Путин, а общее коллективное – и, боюсь, что сознательное. Поэтому каждый, способный хоть к малейшему анализу, и ощущает сегодня так тревожно свою вину. Потому что знает: на этом свете или на том, самому или наследникам, но ее придется искупать.
2007
Ничего не меняется
С кем ни поговори – все твердят о возвращении СССР. С тоской или с пионерской улыбкой. Да я и сам (мне казалось) видел признаки этого возвращения. А 10 июня этого года прозрел: не СССР.
Я люблю кататься на роликах и катаюсь.
И 10 июня я летел на них через Троицкий мост и Дворцовую площадь на Стрелку Васильевского острова, где когда-то собирался умирать Иосиф Бродский, но с которого я рассчитывал вернуться живым.
Стоял прекрасный воскресный вечер; набережные были полны публики; над Невой вздувались паруса; играла музыка и били фонтаны – в общем, империя праздничным днем. Кататься в толпе, замечу, не очень удобно, но тут уж без выбора. Второй год любимое место питерских роллерблейдеров, памятник архитектуры Кировский стадион сносится ради строительства нового стадиона. Сторонники проекта упирают на то, что новый проект будет шедевром технической мысли Кисе Курокавы, а скептики утверждают, что единственный смысл разрушения старого – в освоении средств, и что японца Курокаву позвали ради прикрытия, как звали до этого ради неосуществленного строительства Мариинского театра Доминика Перро: прозрев, и Перро, и Курокава из России бежали.
Но это так, к слову. Я же летел по праздничной картинке империи, счастливый, как бог, и соблазнительный, как дьявол; свернув с Биржевого моста на Кронверкскую протоку, улыбнулся обильно толпившейся милиции, ни на секунду не задумавшись, имеет ли милиция отношение ко мне. В ушах были наушники от плеера, губы у стражей беззвучно шевелились; я их строй проскочил за секунду. То, что они меня собираются бить, я понял позже, когда сквозь музыку услышал свистки и меня, догнав, схватили откуда-то сбоку.
Схвативших было трое. Они являли, с поправкой на время, троицу Никулин-Вицин-Моргунов. Бить меня собирался толстозадый ментяра, в руку вцепился мертворожденный сержант-женщина, рядом мялся кривобокий и кривозубый подросток-курсант, с болтавшейся в ступе воротничка шейкой. Такие обычно растут в деревнях в самых убогих хатах: они, мечтая о выходе в люди, карьеру делают не через курсы комбайнеров, а через школу милиции, со временем эволюционируя в толстозадых ментяр.
Вот представьте, любезный читатель, что это вы летите с насыщенной эндорфинами кровью по прекраснейшему в мире виду, а вас хватают и собираются бить. Я, конечно, не знаю, что вы при этом думаете, но я лично испытал мысль из числа двойных, хорошо описанных Достоевским в «Братьях Карамазовых».
Первая мысль была, что 10 июня в Петербурге завершается Международный экономический форум, и, следовательно, сановники с форума изволят откушивать в плавучем ресторане «Летучий голландец», жандармы же их охраняют, перекрыв все дороги вокруг, дабы подлая чернь, вроде меня, не нарушала покой.
Вторая же мысль состояла в том, что я отчетливо, почти на физиологическом уровне вдруг понял, почему Вера Засулич стреляла в Трепова, Степан Халтурин готовил убийство Александра II, а Александр Ульянов – Александра III. Более того, в эту секунду я в некотором смысле стал одновременно Засулич, Халтуриным и Ульяновым-старшим (получается, меня правильно схватили).
А третьей одновременной мыслью, не описанной Достоевским, но несомненно распускавшейся в моем воспаленном мозгу, была та, что сегодня Россия в своем развитии вернулась вовсе не в СССР, то есть в странную и чуждую русскому духу утопию, где милиция охраняла народ, а не бар от народа. Мы вернулись к нормальной, естественной и единственно возможной форме существования страны, дихотомия которой выражена формулой: «здесь барство дикое и рабство тощее», а также «страна рабов, страна господ».
Более того: никогда, ни в какие времена жизнь у нас, в России, другой не была – и, подозреваю, никогда другой и не будет. Про «возвращение в СССР» мы же твердим, будучи сбиты с панталыку формой, вроде советских песен или советских названий: на самом же деле, милиция (слово, подразумевающее в противовес полиции народность) – она никакая не милиция, а жандармерия: в той степени, в какой ОМОН – это не особый милицейский отряд, а казаки с нагайками (то-то ряженое казачество так добивается прав ОМОНа!).
Хотите понять, что сегодня в стране происходит? Проводите параллель не с правлением Брежнева, а, условно, Николая Второго, тем более, его управленческие таланты, на мой невзыскательный вкус, равны менеджерским талантам Владимира Путина. В стране есть две группы: баре и быдло, между ними мятущаяся прослойка напрасно сочувствующих быдлу интеллигентов, вчерашних разночинцев. Невиданный экономический подъем подогревает сочувствие, усиливает социальные сдвиги и порождает революционные ожидания, то есть разговоры, что деление на тиранов и рабов несправедливо и надо это дело, на европейский манер, прекратить. Вот, 9 января (ну, или какого-то там мая) в Петербурге прошел мирный «Марш несогласных», который казачество покрошило. Шествие, как полагает государь император, было устроено на деньги германских агентов, которым выгодно ослабление российской империи, и Каспаров – немецкий шпион и агент. Что, я что-то не так описал?
Между тем деление на бар и быдло – не столько требующая разрешения несправедливость, сколько симбиоз, существовавший, повторяю, во все времена и являющийся сущностью русскости.
Если в Европе в Средние века стеной обносили города, страхуя от разорения не только барона с вассалами, но и свободных ремесленников, составляющих основу городов, то в России кремли защищали лишь бояр да попов, оставляя подлый люд в чистом поле под ударами (подлый люд, несмотря на это, яростно защищал именно кремль, а не свои дома: к вопросу о симбиозе). В Европе социальные потрясения означали смены социальных устройств (начиная с голландской революции 1566-го), а в России – лишь смену элит, причем борьба во имя справедливости приводила только к репрессиям: вспомните декабристов. У нас такая страна, и другой она быть может, либо лишившись русского населения, либо перестав быть Россией – что, в сущности, одно и то же, и что есть крайне интересный проект, но пока не о нем.
Сейчас же хочу поделиться тремя простенькими соображениями.
Первое: в российской жизни не надо ничего принципиально менять (да-да, я понимаю, что Сурков этой идее рукоплещет, но он, возможно, рукоплещет и в театре – это ж не повод, чтобы не идти на спектакль). Сочувствие униженным и оскорбленным – доброе чувство, но не повод, чтобы приводить их во власть. Представьте, что оппозиция победила и что Касьянов – премьер, а Немцов – президент. Оба будут гонять по Кутузовскому с мигалками: собственно, оба уже и гоняли. Среди оппозиции особняком только Лимонов и Каспаров, первый из которых натуральный Бакунин, а второй – не столько агент Европы, сколько либеральствующий барин, эдакий Некрасов: немножко попашет – попишет стихи. В единственном удавшемся случае построение нового социального строя в России привело к тирании столь кровавой и мерзкой, что померкла Ходынка. СССР стал более-менее терпим, лишь когда обрел привычное деление на номенклатуру и совков, чему совки в массе были только рады. То есть, еще раз: любые изменения в России – это изменения не социального строя, а внутри строя. Из грязи можно попасть в князи (или в мрази, что обычно одно и то же): история дает массу примеров, взять хоть Меншикова. Хотя можно, не рассчитав силы, из князи попасть в грязи: привет Ходорковскому, который, наверное, не раз пытался припомнить, чем закончилось житие Меншикова в Березове.
Второе: тем, кому мерзки оба клана, остается возможность побыть пресловутой прослойкой, причем не без комфорта, имея доход выше раба, но не имея политических рисков бар: надо только держать баланс. Кажется, именно это и имел в виду империалист Дима Быков, сказав как-то, что любит империю за возможность спрятаться в ее складках (ну да, в прозрачной демократии не спрячешься). И кто бы сказал, что пышущий жаром Быков, эдакий Алексей Толстой нашего времени, некомфортно живет?
Третье: надо получать удовольствие от восстанавливаемой связи времен, о которой так грезила интеллигенция во времена СССР. От созерцания картины Руси и России, воссоздающейся на глазах. Ну да, квартал под Мариинский театр снесли, а театр не построили; ну да, небоскреб «Газпрома» убьет небесную линию Петербурга. Но Николай Второй вообще планировал снести часть петербургского центра под строительство «возвышенного метро» (представляете Северную Венецию с сабвэем?) Не нравится ста сорокаметровый небоскреб? – не надо участвовать в его строительстве и надо терпеливо ждать, пока средства на зачистку района под стройку будут освоены; тогда там вместо газпромовского гиганта возведут квартал элитного жилья. Что же до справедливости, то в Петербурге в 1913-м году судили группу строительных подрядчиков, наворовавшихся на двухсотлетии города: время ускорилось, и нам, возможно, надлежит ждать не 2013-го, а всего лишь 2008-го.
Зато оглянитесь по сторонам: нынешний переход России на дореволюционные рельсы делает ясными многие прежде туманные картины: мечта историка! Как пел Окуджава, «а прошлое яснее и ясней». Вот я долго не мог понять, как после революции народ-богоносец мог крушить храмы и допускать расстрелы попов – а теперь, после попыток ввести основы православия в школах, после пасхальных служб со словами: «Дорогой Владимир Владимирович», очень даже пониманию. Потому что православие в России есть не вера в бога, а вера в русское – с барством и рабством – устройство жизни. Исчезнет устройство – рухнет и православие, сохранившись на уровне кружка ревнителей старины. Сегодня вообще очень понятно, откуда взялась революционная ситуация в России в 1905-м и в 1917-м. Понятно, например, почему Морозову давали заигрывать с революционерами: просто его не успели отправить, отобрав собственность, в Краснокаменск.
Конечно, общественное устройство по принципу «барство-рабство» есть вещь опасная в том смысле, что постоянно провоцирует смену элит: шантрапа, пробравшись во власть, хамеет и перестает ощущать запросы толпы. Но с другой стороны, хамство – это глубинный настрой толпы: какой обладатель на последние деньги купленного «жигуленка» не мечтает на джипе сгонять с дороги тех, кто на «Жигулях»? И значит, мягкая смена элит успокаивает толпу, в отличие от революции – а мягкая смена элит скоро нам предстоит.
Здесь бы я и поставил точку рассуждением о приоритете эволюции над революцией, тем самым превращая письмо ученым соседям в некотором роде в письмо Булгакова товарищу Сталину, но есть еще одно соображение, касающееся поведения той самой укрывшейся в складках империи прослойки, к которой я сам принадлежу – и, подозреваю, к которой принадлежит немало читателей «Огонька».
Во-первых, хватит иллюзий по поводу альтернативных – европейских, американских, протестантских, азиатских, китайских – путей России. Быть русским – это значит принимать как данность барскорабство. Кто это принимает – тот и русский, будь то гастарбайтер, подставляющий выю под строительное ярмо, или атомный православный, своими хоругвями, как отмычкой, отворяющий дверь во власть. А кто не принимает – тот эмигрирует в мир с иным устройством жизни (горькая правда в том, что большинство российских фрондеров просто боится или не может в этом ином мире с тем же комфортом существовать: в России мыслящий класс во многом кайфует именно от того, что не причастен ни к тупости черни, ни к мерзости власти).
А во-вторых, прослойке пора определяться с правилами и параметрами своего прослоечного существования. Иначе получится, как с милым и тонким что-где-когдашником Михаилом Барщевским, который, придя работать во власть, тут же нацепил наличный «Мерседес» хамскую «мигалку», хотя его не принуждали.
Никто не мешает сегодня внутри своего кондоминиума, своего дома, своего подъезда, своего двора жить абсолютно европейским укладом, – то есть в равенстве, справедливости, законности и чистоте. Как, собственно, никто не мешал и до революции, когда ходили в галошах и не воровали галошных стоек из Калабуховского дома. У меня есть подозрение, что именно этот стиль жизни внутри образованного (но не являющегося властью) класса до революции и создает у нас теперь иллюзию дореволюционной России как европейской державы.
И еще одно: с властью можно сотрудничать тогда, когда сотрудничество не подло (читает же профессура в госуниверситетах лекции за мизерную плату). И нельзя сотрудничать – ни за какие деньги – когда это сотрудничество подло. Нельзя работать на пропагандистской программе даже звукорежиссером, нельзя участвовать в строительстве небоскребов в Петербурге даже инженером, нельзя участвовать в экономическом форуме, ради которого перекрывают движение в городе (но в лондонском форуме – можно). Как видите, даже краткого списка запретов достаточно, чтобы убедиться, что миссия мыслящего тростника настолько сложна, что революционное физическое устранение градоначальника на этом фоне выглядит соблазнительно легко.
Но быть Верой Засулич – тоже нельзя. Нужно попросту милиционеров (не говоря уж про градоначальников) на своих роликах объезжать за километр.
И, Сурков, довольно аплодировать: это не вода на вашу мельницу, это просто вода.
2007
Борцы и джентльмены
В России с времен Льва Толстого никто не предлагал модели поведения в ситуациях, когда окружающее возмущает тебя. Но это не значит, что модели не существует. Быть европейцем в России – вполне достойная среднего класса миссия.
Недавно на дорогах Москвы со мной произошел случай, который вполне мог приключиться и в Питере, и в Ярославле, и в Ковыкте, и не только со мной.
Мы ехали на машине приятеля в умеренно плотном потоке по Садовому кольцу, когда сзади обнаружилось авто из числа Больших Черных Машин – имя им легион. Машина металась из ряда в ряд, не показывая, разумеется, поворота, подрезая всех и всякого, и, пристроившись сзади, стала сигналить ксеноном фар (я так полагаю, что мущщщине за рулем дико хотелось продемонстрировать, что у него не лампы накаливая, а именно дорогой, голубого спектра свечения ксенон).
– А вот хрен ему, – угрюмо сказал приятель, купивший иномарку гольф-класса в кредит.
– Да пропусти, – посоветовал я.
Большая Черная сзади сигналила в истерике.
– Свинья, – сказал приятель.
Свинья при этих словах метнулась вправо-вперед, а потом так же эпилептически шуранула влево в дырочку между нами и шедшей впереди машиной. Приятель двинул по тормозам, и, судя по визгу, то же проделало все Садовое за нами. А свинье хоть бы что: только вылетела пустая пластиковая бутылка из приоткрывшегося на секунду окна. Полетела хрюкать дальше.
В общем, крики приятеля про мочить в сортире и жарить на гриле я опущу, потому как после вылетевшей бутылки сам к ним присоединился, за что теперь стыдно. Но я давно искал повод рассказать совершенно другую историю, и вот этот повод нашелся.
История же такова.
Несколько лет назад, в Англии, до приезда в которую я был убежден, что это чопорная, замороженная условностями страна, у меня состоялся с одним английским господином разговор по поводу того, что такое есть джентльмен.
– Видите ли, Dmitri, – сказал мне мой vis-a-vis. – Gentleman – это тот, кто gentle born, то есть рожден в мягкости, в терпимости. Кто мягок по отношению к внешнему миру, кто принимает все его проявления.
– Хорошо, – гнул я заложенную в России и, как теперь понимаю, дурацкую линию, – а белые носки джентльмен носить может? С костюмом? Разве джентльмен не носит всегда только черные?
– Видите ли, Dmitri, – не моргнув глазом, продолжал собеседник, – костюм вообще ужасно формальная вещь, не обращайте на него внимания. Джентльмен носит носки того цвета, какого хочет. Черные носки носит шофер джентльмена.
– Отлично, – не унимался я, – а разве можно представить себе джентльмена в рваных носких?