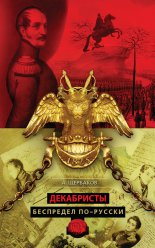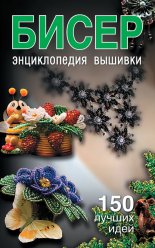Она уже мертва Платова Виктория

Часть первая
Дети
Август. Белка
…Ждали Сережу.
Он должен был прилететь еще вчера, но вместо Симферополя оказался в Люцерне. О чем и сообщил Лёке – единственному счастливому обладателю номера его мобильного. Прежде чем ответить на звонок, Лёка долго шевелил губами, считывая имя с дисплея, затем покраснел, вспыхнул и приложил палец к губам.
– Это Сережа! – торжественно произнес он.
Если бы он сказал: «Минуточку, нам звонит Бог», никто бы не удивился. Сережа и есть бог их многочисленного, бестолкового, разросшегося вкривь и вкось семейства. А с самым настоящим Богом его роднит частота упоминаний в прессе. И еще то, что его никто и никогда не видел живьем последние двадцать лет. Двадцать два, если быть совсем точным. Ровно столько времени прошло с тех пор, как они собрались здесь в последний раз – в то страшное лето, ознаменовавшееся одним исчезновением и одной таинственной смертью.
Никто не любит вспоминать о том лете.
Нет, не так. Все просто вычеркнули его из памяти, вовремя остановились у черты, за которой снова появляется этот запах – затхлого песка, мертвых дафний и полуразложившихся водорослей. В них когда-то нашли…
Не произносить имени.
«Да» и «нет» не говорить, черное и белое не носить – как в главной игре того лета. В нее играли младшие дети, но изредка присоединялись и старшие, и тогда все становилось намного интереснее. Для Белки, во всяком случае. Белка не была самой младшей, но и старшие, с их первыми тайнами и влюбленностями, обходили ее стороной. В то лето ей исполнилось одиннадцать, самый никудышный возраст. Самый уязвимый: вечно надутые губы, одиночество среди стрекоз, взрослая книжка, небрежно брошенная на веранде, кто тут у нас читает «Идиота»?
Этот вопрос задал Сережа.
В три часа тридцать минут пополудни, о чем засвидетельствовал бой часов в гостиной. Вопрос как раз и совпал с боем часов, оттого и получилось грозное: «Кто тут у нас читает „Идиота“, бо-ом бо-ом?» И Белка сразу поняла, что перед ней – бог. На десять лет раньше всех остальных.
Бог держал в руках кроссовки, за плечами у него болтался рюкзак, а в волосах застрял кузнечик. Белка сосредоточилась на кузнечике и хмуро произнесла:
– Я.
– Ясно. Давай знакомиться. Я – Сережа.
– А я… – тут Белка назвала свое настоящее имя.
– Да? – бог почесал переносицу. – Вообще не очень-то похоже.
– Это еще почему?
– Потому.
В три тридцать пополудни Белка еще не знала, что безапелляционное «потому» – любимое Сережино слово. Исключающее долгие и нудные пояснения.
– Буду звать тебя Белкой, – кузнечик оттолкнулся от жестких, как проволока, волос Сережи и шлепнулся на лямку рюкзака. – Возражения не принимаются.
Белка и не думала возражать. Ей понравилось новое имя, а еще больше понравился Сережа и то, что он сделал потом. Осторожно снял кузнечика с лямки и положил на раскрытую ладонь. Тот, подобно Белке, тоже не возражал, сидел на ладони смирнехонько, расставив длинные ноги. Сережа тихонько дунул на него, и кузнечик… исчез! Растворился в стеклянном жарком воздухе, как будто его и не было. Белка смотрела на пустую Сережину ладонь, словно зачарованная. А потом спросила:
– Это такой фокус, да?
– Ни разу не фокус, – засмеялся Сережа.
– Ты повелитель кузнечиков?
– Не только.
– Всего-всего?
– Можно сказать и так, – совершенно непонятно, шутит ли бог или говорит правду. Наверное, говорит правду, потому что боги не лгут. А если и лгут – то кому-то более значимому, чем маленькая девочка, застрявшая на тридцать пятой странице романа «Идиот». Например – бабушке.
Белка боится бабушку. Бабушка – строгая, молчаливая, скупая на ласку. Рук у нее явно больше, чем две, но сколько именно – разглядеть не удается. Всем этим рукам находится применение в хозяйстве, но Белка ни разу не видела, чтобы они гладили кого-то по голове. Стегали тонким жестким прутом – лозиной – это да. Не далее чем два дня назад Белке тоже досталось, воспоминания о лозине и сейчас вызывают в ней приступ бессильной ярости. Вот если бы бабушка исчезла от дуновения – как кузнечик! Нет, Белка вовсе не кровожадная и не хочет, чтобы бабушка испарилась навсегда. Но двух-трех дней было бы вполне достаточно. За это время тонкие фиолетовые полосы на икрах побледнеют и ярость пройдет. И – оп-ля! – бабушка снова может возвращаться к своей многорукой хозяйственной деятельности.
– Если я тебя попрошу… Раз уж ты повелитель всего-всего… Можешь сделать так, чтобы исчез один человек?
– Смотря что за человек, – теперь Сережа выглядит серьезным и даже озабоченным просьбой Белки.
– Э-э…
– Только не говори, что это – Парвати.
– Кто такая Парвати?
Следить за передвижениями бога – невозможно. Только что он был в трех метрах от Белки, а теперь оказался совсем рядом. Навис как скала. Это – не простая скала, а скала с маленьким водопадом; она увита уютным диким плющом, и если напрячь зрение, то можно разглядеть в зелени крошечных ящериц, крошечных птичек и таких же крошечных лемуров. В толстой книжке «Идиот» о лемурах не сказано ни слова, просто эти зверьки ужасно нравятся Белке.
Именно так – ужасно.
Применительно к Сереже это звучало бы – уу-жжжжа-аа-сссс-но!
Больше всего Белке хочется остаться в тени скалы – вот где ее ждет спасение от палящего южного солнца, такого же многорукого, как и бабушка.
– Ты не знаешь, кто такая Парвати? – шепчут ей на ухо прохладные струи водопада.
– Не-а.
– Наша бабушка.
Как есть – бог! Ну кто бы еще догадался о нехороших мыслях, что роятся в голове Белки? Застигнутая врасплох, она краснеет, из глаз вот-вот брызнут слезы, летний день померк в одночасье. И только в Сережиных силах вернуть свет. Но он не торопится, лишь внимательно обшаривает глазами Белкино лицо. В жизни своей она не видела таких удивительных глаз, их цвет меняется ежесекундно: сначала они показались Белке светло-карими, а теперь они – зеленые, как исчезнувший кузнечик. Уж не там ли он сейчас обитает, кузнечик?…
– Есть проблемы? – Сережа подмигивает Белке.
– Не-а.
– Врешь, – это сказано без всякого укора, напротив – с пониманием и даже одобрением.
– Я никогда не вру.
– Так не бывает, чтобы никогда.
– А вот и бывает.
– Ловлю тебя на слове.
– Зачем? – искренне удивляется и без того пойманная в силки Сережиного обаяния Белка.
– Затем, что рано или поздно наступит такой момент, когда нужно будет сказать правду. Какой бы горькой или страшной она ни была. Врунишки попытаются отвертеться, тогда и наступит твой звездный час. Звездный час правдивого человека.
Правдивому человеку по имени Белка трудно понять, что имеет в виду бог по имени Сережа. О какой горькой и тем более страшной правде идет речь?…
– Ладно, проехали.
– Проехали, – трясет головой Белка.
– Без остановок.
Отличная идея – ехать куда-то без остановок, тем более – с Сережей! Несколько секунд Белка выбирает между воображаемым поездом и воображаемым трамваем, склоняясь в пользу последнего. Она не любит поезда: поезда – неуклюжие и длинные, как змеи. Они дурно пахнут, кашляют и, утробно урча, переваривают людей в своих железных желудках. Не далее как две недели назад, Белка увидела это воочию. Перрон Витебского вокзала был полон стариков, детей и взрослых, и все они – за небольшим исключением – казались ей красивыми. Особенно – собаки (Белка любит собак!), в их с Машей-Мишей вагон загрузились сразу три: такса, щенок добермана и веселая трехцветная дворняга. Маша-Миша – Белкины кузены, так называет их мама. Белка же сократила кузенов до МашМиш, лучше было этого не делать! От МашМиш рукой подать до кишмиша, который она терпеть не может. И вечно выковыривает его из покупных ванильных булочек. МашМиш так просто не выковыряешь, у них – хватка. Что подразумевает под словом «хватка» мама – Белке неведомо. МашМиш никого особенно не хватают, держатся почтительно, как и положено провинциалам. Они живут в городе Саранске, в Ленинград приехали впервые – всего лишь на несколько дней; Ленинград – не конечная точка их путешествия, а начальная. Здесь они прихватят Белку и все втроем отправятся на юг, к бабушке. Так решили после бесконечных телефонных переговоров по межгороду отец Белки и мама МашМиша. За Белку в такой солидной компании можно не волноваться, МашМишу не так давно стукнуло шестнадцать, они – взрослые.
И они – двойняшки.
Почти близнецы.
Почти, потому что МашМиш не могут, как это принято у близнецов, смотреться друг в друга, как в зеркало. Во-превых, Маш – девушка, а Миш – парень. Во-вторых, у Маш – черные как смоль волосы, а Миш – блондин. Маш – резкая и порывистая, а Миш – самый настоящий увалень, к тому же он на голову выше сестры. Но это ровным счетом ничего не значит, Маш вертит братом, как хочет. Белка подозревает, что не только братом.
Маш – красивая, но эта красота совсем иного свойства, чем простодушная привлекательность таксы, щенка добермана и трехцветной дворняги. В красоте Маш скрыт какой-то подвох, хотя объяснить, в чем именно он состоит, Белка не может. Ей остается лишь наблюдать, как Маш орудует своей красотой, наносит удары окружающему миру и все они попадают точно в цель. Места им достались не самые удачные: плацкарт, последнее купе рядом с туалетом, плюс верхняя боковая полка по соседству. Но и десяти минут не прошло, как кузены оказались в центре вагона, с двумя нижними полками в активе. Что сделала Маш?
Всего лишь улыбнулась – сначала проводнику, а потом вислоусому кавказцу и дядьке с огромным животом и такой же огромной лысиной. Лезвие этой улыбки сразило всех троих наповал, и огромный живот и кавказские усы отправились куковать у туалета. К ним присоединился студентик, выкинутый проводником с места, которое теперь занимает Белка. Больше она их не видела, а если и видела, то не узнала. Всему виной неустанный пищеварительный процесс в недрах поезда-змеи: змея всасывает чистых и опрятных людей, а уже через несколько часов от чистоты и опрятности и следа не остается. Все выглядят унылыми, помятыми, как будто вывернутыми наизнанку. Все липнут друг к другу, как монпансье в жестяной коробке, запах пота смешивается с запахом жареной курицы; такса поскуливает, ей вторит дворняга, и лишь щенок добермана кажется довольным жизнью.
Он, да еще Маш.
В отличие от взмокшего, хватающего спертый воздух ртом Миша, Маш чувствует себя прекрасно. От нее веет прохладой, но Белке почему-то приходит на ум, что это – никакая не прохлада.
Сквозняк.
А мама строго-настрого запретила Белке торчать на сквозняках, может быть, поэтому ее отношения с Маш не задались с самого начала. Что странно, ведь она ждала приезда МашМиша, как только может ждать одиннадцатилетняя девочка. МашМиш даже трижды приснились ей – прекрасные, как морские звезды. Во сне они протягивали Белке руки-лучи, беззвучно смеялись, приоткрыв створки ртов: там были спрятаны жемчужины взрослых тайн, которыми МашМиш просто обязаны с ней поделиться. Ведь именно для этого существуют старшие братья и сестры, пусть даже двоюродные. Но в жизни все вышло гораздо прозаичнее, хотя рот Маш и впрямь напомнил Белке кладбище отборного жемчуга. Зубы Миша – вовсе не такие ровные и блестящие, он явно не дотягивает до сестры.
Никто не дотягивает до Маш, всех сдувает безжалостным сквозняком.
– Значит так, – заявила Маш, едва они обустроились на своих новых местах. – Слушаться меня беспрекословно. И не вздумай капризничать и качать права.
– Иначе? – протянула Белка.
– Иначе – расстрел, – Миш свесил с верхней полки лохматую голову и подмигнул девочке.
– Шутка, да?
– Нет, – ответила Маш вместо брата.
И Белка сразу поверила в невероятное: Маш может пристрелить ее за малейшую оплошность. Вряд ли она сделает это сама, у нее и пистолета-то нет. Но пистолет найдется у кого-нибудь еще, и этот кто-то обязательно пустит его в ход, загипнотизированный улыбкой Маш. И ни одна живая душа не вспомнит о маленькой Белке, не пожалеет ее. Никому она не нужна, кроме мамы и папы. Но они остались в Ленинграде, на перроне Витебского вокзала: на их плечи улеглось предвечернее солнце, – не потому, что устало и ему пора отправляться на покой, а потому… что оно тоже ищет защиты от Маш и ее острой, как нож, улыбки.
Вспомнив о родителях, Белка шмыгнула носом. В горле у нее запершило, а из глаз выкатились две аккуратные слезинки. Маш взглянула на них с презрением и даже какой-то гадливостью, как будто это были вовсе не слезы, а парочка угрюмых и неприятных на вид пауков-землекопов. Атипичные тарантулы – так называет их папа, о, у Белки непростой папа! Он – ученый, специалист по паукообразным. Раннее детство Белка провела в Туркмении, в пустыне Каракумы, затем была пустыня Кызылкум с самыми что ни на есть типичными тарантулами. А потом они вернулись в Ленинград, где Белку ждал первый класс средней школы. А теперь, спустя четыре года, еще и расстрел на месте – в железном пищеводе поезда-змеи.
– За дурацкие слезы тоже полагается пуля в лоб, – заявила Маш, и атипичные тарантулы тотчас испарились, не достигнув подбородка.
– Усекла? – поддержал сестру Миш.
Белка кивнула головой и забилась в самый дальний угол, прижав к животу тощую вагонную подушку. Кажется, так она и просидела все два дня (ровно столько заняла дорога), исподтишка наблюдая за Маш и вынашивая планы мести жестокосердной кузине. Главным орудием будущей мести были, конечно же, горячо любимые папины пауки: птицееды, каракурты, бокоходы и кругопряды. А также примкнувшие к ним не совсем пауки – фаланги и скорпионы. Не все из них ядовиты, но устрашающе выглядит любой. Мама, к примеру, так и не смогла привыкнуть к папиным подопечным и вздрагивает, стоит лишь самому безобидному пауку появиться в поле ее зрения. А ведь мамина специальность гораздо более серьезна, чем даже папина, она – серпентолог.
Специалист по змеям, кандидат наук.
Конечно, змеи в борьбе с Маш были бы куда как предпочтительнее, но… С ними одна морока! Они слишком большие, чтобы воспользоваться ими незаметно, слишком непредсказуемые. А по ядовитости ни один паук с ними не сравнится, разве что каракурт и его грозная самка – «черная вдова». «Черная вдова» – папина любимица, он не устает восхищаться ей и утверждает, что ее яд в пятнадцать раз опаснее, чем яд гремучей змеи.
Наличие «черной вдовы» не помешало бы. Белка так и видит эту чудесную, единственную в своем роде, картину: парализованная ужасом Маш корчится в муках, и никто, никто не приходит ей на помощь. Даже Миш, от которого в принципе нет никакого проку. Он лишь оруженосец. Или, лучше сказать, ножны; именно в них Маш сует свою улыбку, когда устает от нее. Лохматый увалень Миш – бледная тень сестры, а тень не способна принимать самостоятельные решения. Это понимает даже одиннадцатилетняя Белка. Она не даст кузине умереть. Все, что ей нужно, – увидеть, как Маш перестала быть божеством.
Низвержение божества происходит лишь в сознании Белки. А в остальном ничего не меняется, Маш – по-прежнему предмет поклонения всей мужской части вагона. Даже щенок добермана благоволит ей, что совсем уж не лезет ни в какие ворота. Собаки чуют плохих людей – так всегда утверждал папа. Наверное, где-то он ошибся. Что-то недоучил на своем биофаке, увлекшись паукообразными.
Маш – богиня-разрушительница.
Но теперь у нее появился противовес – добрый бог Сережа. И он главнее Маш, это несомненно. Сереже ничего не стоит оседлать трамвай и вместе с Белкой отправиться на нем без остановок. Куда? Белке все равно. Их волосы полощутся на ветру (в трамвае открыты все окна), сплетаются друг с другом, и лемуры, маленькие птички и крошечные ящерицы свободно скачут по ним, как по лианам в тропическом лесу. И улыбка Сережи совсем не такая, как у Маш, – она не похожа на нож или на опасную бритву, а… На что она похожа?
На все то, что Белка любит больше всего: эскимо «Ленинградское», овсяное печенье, подоконник в гостиной, низкий и широкий, на нем замечательно сидеть, расплющив нос по стеклу, и наблюдать за Кировским проспектом… Фу-у, какая же она дура! Как можно сравнивать Сережу c овсяным печеньем? А тем более – c эскимо и подоконником, пусть даже он и похож на палубу корабля и тело его испещрено загадочными, едва заметными сквозь множество красочных слоев надписями:
ЮЛИЯ ЛОВУАРЪ и Ко
Невста безъ мста
Гд ты, кромшное счастiе моё?
Впрочем, кое-какое сходство все же имеется. Правую Сережину руку украшают непонятные значки, столбцом тянущиеся от плеча к локтю. Они заинтересовали бы и маму и папу, потому что похожи и на пауков, и на змею одновременно:
Иероглифы, вот как это называется! А еще это называется татуировка, у Белкиного папы тоже есть татуировка, она окопалась на спине, и папа немного ее стесняется. «Ошибки бурной юности» – именно по этому разряду проходит квинтет разухабистых скелетов, вооруженных музыкальными инструментами: контрабас, саксофон, тромбон с трубой и ударная установка.
«Ленинградский диксиленд» – так именует папино наспинное безобразие мама, о чем ты только думал, когда заводил этот вертеп? Уж точно не о жене и о ребенке.
– Мне было восемнадцать, и я был дураком.
– Не таким уж дураком, – парирует мама. – Иначе выбил бы скелетов у себя на лбу. Или на груди. Чтобы здороваться с ними, выходя из душа. Надолго бы тебя хватило?
– Ненадолго, – вздыхает папа.
– Но ты предпочел, чтобы их видел кто угодно, кроме тебя. О чем это говорит?
– О чем?
– Ты – эгоцентрик. Любитель распустить хвост по поводу и без повода.
Белка знает наперед все то, что скажет папа: если бы он был любителем распустить хвост, то занялся бы львиными прайдами, а не какими-то невнятными пауками. И украсил бы спину не скелетами, а группой «Битлз». Или, на худой конец, Лениным, слушающим «Аппассионату». И вообще, эта чертова татуировка принесла ему кучу проблем, но ты ведь не оставишь меня из-за такого пустяка?
Белка знает наперед все то, что скажет мама: даже тривиальный поход на пляж оборачивается сущей морокой, потому что к ней подходят самые разные люди с одним и тем же вопросом – «не разыскивает ли вашего спутника милиция?». И можно только представить, какой ажиотаж вызывает татуировка среди посетителей общественных бань!.. Тут папа замечает, что контингент посетителей общественных бань – вещь довольно специфическая, и видели они еще не такое. Тогда мама переключается на Белку, ребенку лицезреть весь этот анатомический театр вовсе необязательно, я тебя не оставлю и из-за более серьезных вещей, не надейся!..
Что подразумевается под более серьезными вещами?
Болезнь, потеря работы, отсутствие денег – все то, чего так боятся взрослые. Но в своих маме и папе Белка уверена на все сто. Они всегда будут вместе, что бы ни произошло.
– …Татуировка, да? – Белка внимательно рассматривает иероглифы.
– Точно.
– И что она означает?
– Секрет.
– И ты мне никогда его не откроешь?
– Ну… – Зеленые Сережины глаза снова становятся карими. – До сих пор в мои планы это не входило.
– А теперь?
– И теперь не входит. Разве что… Могу сменять его на равноценный.
– Это как?
– Ну, если у тебя есть какой-нибудь очень важный, очень секретный секрет… Мы можем обменяться. Есть у тебя такой секрет? Подумай хорошенько.
Белка закусывает губу, пытаясь угадать, что может произвести впечатление на Сережу. Юлия Ловуаръ и Ко отваливаются сразу, «Ленинградский диксиленд» – чуть погодя. В конце концов, скелеты принадлежат папе, а Белке – лишь постольку-поскольку. МашМиш покуривают втихаря: Белка застукала их совершенно случайно в конце кипарисовой аллеи, за лавровыми кустами. Не то чтобы МашМиш испугались, – они даже растерянными не выглядели. И до переговоров с Белкой не снизошли, – Миш всего лишь приложил палец к губам, а Маш сжала кулак и выставила вперед указательный палец, имитируя пистолет.
Бэнг, – сказала она, – бэнг-бэнг! Кажется, это американский вариант «пиф-паф», МашМиш спят и видят, как бы им убраться в Америку побыстрее. Их ровесник Лёка, постоянно живущий в доме бабушки, даже не помышляет о том, чтобы куда-нибудь уехать. МашМиш дразнят его деревенским дурачком и дауном; иногда используется сокращенный вариант – даунито: вон даунито пошел! Пойди спроси у даунито!
Лёка, конечно, никакой не даунито, ему бы подошло определение «блаженный». Лицо его кажется непо-движным – самое настоящее горное плато, почти всегда скрытое туманом. Изредка туман рассеивается, и тогда можно увидеть Лёкины глаза, круглые, как у птицы. Но, в отличие от птичьих, они опушены ресницами – прямыми и такими длинными, что и глаза перестают быть глазами: так, два колодца, заросшие по краям камышом. Или две норы в тени двухметровых сорняков. Колодцы роют люди, норы – животные; первые – чрезвычайно рациональны, как утверждает папа, и этой рациональностью измеряется глубина колодца. Вторые подчиняются инстинктам, а инстинкты – вещь непредсказуемая, как и глубина норы; и оглянуться не успеешь – окажешься где-то у земного ядра. В любом случае, Белке не хотелось бы свалиться ни в колодец, ни в нору. О камыш можно порезаться, о сорняки – уколоться, кроме того, они выделяют обжигающий ладони млечный сок. Вывод напрашивается сам собой – от Лёки нужно держаться подальше.
Но он и сам ни к кому особенно не приближается.
Целыми днями он копается в огороде или в сарайчике или что-то строгает в мастерской. Еще он ездит в поселок за продуктами, конопатит старенькую лодку и ухаживает за мерином по кличке Саладин. К Саладину прилагается телега, именно на ней Лёка встречал их в Ялте. МашМиш отнеслись к телеге скептически, а Белке она понравилась. Телега набита сеном и – для мягкости – устлана старыми коврами. Всю дорогу Белка (вместо того чтобы изучать красоты Южного берега Крыма) пялилась на эти ковры. Всему виной рисунки – диковинные птицы, животные и растения, сплетенные друг с другом в самых невероятных комбинациях. Птицы и животные, безобидные сами по себе, поселили в сердце девочки смутную тревогу, а растения вовсе не спешили рассеять ее. Иногда Белке казалось, что тревога вот-вот улетучится или, наоборот, станет настолько явной, что с ней можно будет справиться одним усилием воли. Волевое усилие – единственное, что необходимо человеку для жизни. После любви, разумеется, об этом иногда говорят между собой мама и папа. Смысл подобных многомудрых суждений Белке неясен. И вообще – в разговоры взрослых лучше не влезать. Хотя мама и папа никогда не были противниками доверительных бесед с дочерью.
Воля требуется для того, чтобы не раздавить паука, когда очень хочется это сделать.
Воля требуется для того, чтобы заглянуть в глаза змеи, когда очень не хочется делать этого. Не из чистого суеверия (так поясняет мама), а для того, чтобы понять: ядовита змея или нет. У безобидных дневных ужей и полозов – круглые зрачки, как у самого человека, или рыбы, или собаки. У ядовитых змей, вроде гюрзы, кобры или щитомордника (они ведут преимущественно ночной образ жизни), – вертикальные.
Как в эту плюющуюся ядом шеренгу затесалась Аста – неясно.
Аста – еще одна двоюродная сестра Белки, она приехала сюда из Таллина. Аста, МашМиш, Лёка – старшие дети. Есть еще младшие, пузатая мелочь, от трех до восьми: Генка, предпочитающий откликаться на имя Шило, Рo€стик, Аля, Тата и Гулька (на самом деле Гульку зовут Никита). Итого – девять, за вычетом Белки и Лазаря. Лазарь – такой же не-пришей-кобыле-хвост, как и сама Белка, и дело тут не только в том, что ему двенадцать (детство кончилось, а отрочество еще не наступило). А в том, что он – чужак. Не связанный родственными узами ни с кем из детей, за исключением маленькой Таты. Тут имеет смысл углубиться в генеалогию Белкиной семьи. Большой Семьи, а не той, что осталась в Ленинграде. У бабушки было восемь детей: четыре дочери и четыре сына. О двоих (Самом старшем и Самой младшей) вспоминать не принято, их прячут от посторонних глаз в толстом бархатном фотоальбоме, в среднем ящике комода. Ящик всегда заперт на ключ, а ключ висит на шее у бабушки, рядом со старомодным медльоном «Обратная сторона Луны». Это название, равно как и имя Парвати, придумал Сережа, – кто же еще!.. Когда Белке было одиннадцать, ей просто нравилось сочетание слов – обратная-сторона-Луны, а об их тайном и пугающем смысле она задумалась много позже. А может, и не было никакого пугающего смысла, всему виной то лето; одно исчезновение и одна смерть делают страшным абсолютно все, заставляют повсюду искать Знаки трагедии.
После того, что случилось, Большая Семья перестала существовать. Ее саму впору было упаковать в бархат и запереть в среднем ящике комода.
Ключ от него напоминал Белке якорь.
Выброшенный на берег якорь, на него время от времени накатывались мутные волны бабушкиных янтарных бус. В такие моменты Белка думала о судне, оставшемся без якоря: бесприютное, оно подставляет стихии свои бархатные борта, и единственным его пассажирам – Самому старшему и Самой младшей – нет покоя, нет отдохновения.
Бедные они, бедные!..
У остальных членов Большой Семьи судьба сложилась намного удачнее: старшая дочь уехала по распределению в Таллин, вышла замуж за эстонца с труднопроизносимой фамилией Раудсепп и произвела на свет Асту. Средняя – мать МашМиша – осела в Саранске. Аля и Гулька прикатили сюда из Петрозаводска, где их мама – средняя-средняя сестра – работает секретарем в горсовете. Остаются еще три брата: специалист по паукам (Белкин папа), специалист по холодильным установкам (отец Ростика и Шила) и специалист по электрогидравлике. Пятилетняя Тата – его родная дочь, а Лазарь – сын нынешней жены от первого брака.
Лазарь держится особняком и почти все дни проводит в одиночестве – так же, как и Белка. И для этого одиночества у чужака гораздо больше оснований, чем у нее. Белку (при всей ее страсти к уединению) инородным телом в семейном пейзаже не назовешь, она неуловимо похожа не только на Ростика с Шилом, Лёку, Гульку или бабушку, но и на кипарисы, на лавровые кусты. На все то, что с детства впитывала Большая Семья, чтобы потом отдать семьям поменьше, веточкам потоньше. Даже в белокурой, белокожей Асте нет-нет да и проглянет южанка. Особенно когда она схлестывается с Маш. Между Астой и Маш идет необъявленная война, большей частью – позиционная: так бывает всегда, когда силы противников примерно равны.
Аста не менее красива, чем Маш, но это другой тип красоты. Возможно, увидев ее, не всякий остолбенеет, но любой – обернется и будет долго смотреть вслед. В сухопутной красоте Маш много ветра и царапающего лицо песка, он оседает на коже и еще долго скрипит на зубах. Красота же Асты отсылает к воде, к озерам среди скал, холодным и бездонным. Озера эти только с виду кажутся сонными, но нырнуть в них – все равно что подписать себе смертный приговор. Того и гляди затянет в омут, или водоросли обовьют шею так, что не вырвешься, или судорога сведет ноги. И флегматичные воды сомкнутся над тобой, как будто тебя и не было.
Поначалу взаимная нелюбовь Асты и Маш была не столь очевидной, лишь проницательная Парвати, взглянув на обеих своих старших внучек, сказала:
– Беда!..
Беда пришла откуда не ждали: не отлипающий от сестры Миш неожиданно прилип к Асте и позвал таллинскую красотку на маленький галечный пляж составить компанию ему и сестре. Что уж там произошло на пляже доподлинно неизвестно, но вечером Маш шипела на брата, а тот больше всего напоминал побитую собаку.
На следующий день никаких приглашений от Миша не последовало, зато Белка перехватила шестилетнего Ростика. Он мчался к беседке – там, в гамаке, покрытом ковром, коротала время за чтением неприступная Аста. Книга, с которой она не расставалась, была во всех отношениях достойной: «Анжелика» Анн и Сержа Голон, а не какой-нибудь «Идиот».
– Куда несемся? – спросила Белка у Ростика.
– У меня дело! – важно заявил тот.
Дело, а скорее – дельце, оказалось ничтожным – так, на пару конфет. С веранды Белке хорошо было видно, как Ростик отдал Асте сложенный вчетверо листок бумаги и моментально исчез. Развернув листок, Аста пробежала по нему глазами и улыбнулась.
Гром грянул за обедом.
Хорошо еще, что на нем присутствовали не все – Парвати укладывала самых младших (ничто так не способствует здоровью растущего организма, как послеполуденный сон, – утверждала она). За столом, таким образом, остались Белка, Лазарь с вечными карманными шахматами, МашМиш, Аста, Лёка и Шило. Девятилетний Шило никак не мог справиться с котлетой и попытался тайком скормить ее Лёкиной собаке Дружку, за чем и был пойман Парвати. В довесок к подзатыльнику он получил еще одну котлету и строгое предписание сожрать ее во что бы то ни стало.
Итак, Шило ковырялся в тарелке, Лазарь – в шахматах; Лёка гладил Дружка по косматой голове, следя за тем, чтобы очередная котлета не попала к нему в пасть. Белка, как обычно, занялась сравнительными характеристиками Маш и Асты. На Белкин субъективный взгляд выходило, что Аста – вне конкуренции и что она непременно должна победить в войне. Нет-нет, надменная прибалтийская русалка не так уж нравилась ей, но Маш – после путешествия на поезде и бэнг-бэнг-бэнг! – нравилась еще меньше.
Давно пора проучить Маш!..
Аста как будто услышала Белку. Она улыбнулась – так же как тогда, в беседке; вынула из кармана злополучный листок и исполненным скрытого торжества голосом произнесла:
– Сегодня утром я получила послание. Никому не интересно, что в нем?
– Никому, – Маш скривила губы в презрительной гримасе. – Можешь засунуть его себе в задницу.
В этот момент Белка смотрела не на Маш, совсем на другого человека. Этот человек согнул – и откуда в нем взялась такая сила? – и разогнул чайную ложку. А потом бросил ее на пол.
– И напрасно, – продолжила Аста с видом победительницы. – На твоем месте, Мa€ри, я бы обязательно заинтересовалась его содержанием.
«Мари» – и есть Маш, только с эстонским акцентом. А Миша Аста величает «Миккелем». Белке ужасно нравятся эти переиначенные имена, как к ним относятся МашМиш – неизвестно. Но публичных возражений с их стороны пока не поступало.
– Почему это?
– Потому что оно – о тебе. Любопытно знать, что думает о тебе один человек?
– Нисколько, – произнесенное слово вступило в явное противоречие с лицом саранской кузины. Маш сгорала от любопытства, Белка явственно это видела.
– Значит, мне порвать его? – теперь Аста самым недвусмысленным образом издевалась над Маш.
– Как знаешь.
– Я-то знаю. А вот ты никогда не узнаешь. Умрешь и не узнаешь, – в ту же секунду зрачки у Асты съежились и стали вертикальными, почти как у змеи.
– Ну, если тебе так хочется… Я могу прочесть.
– Э-э, нет! Прочту его я. Вслух, если ты не возражаешь.
– Я возражаю!..
Это сказал Миш. Это он сгибал и разгибал ложку. Это он уронил ее и полез под стол, чтобы поднять. И даже оставался там пару лишних секунд. Неизвестно, что произошло с ним за эти пару секунд. Видимо, ничего хорошего, поскольку лицо его пылало, в жизни своей Белке не доводилось видеть таких лиц! Хотя… Она вдруг вспомнила о Байрамгельды – туркмене, который работал с папой в Каракумах. Байрамгельды умер от сердечного приступа за рулем экспедиционного грузовика. И за секунду до смерти его лицо стало таким же, каким было сейчас лицо Миша: пунцово-фиолетовым.
Вдруг и Миш умрет?
Несмотря на то что он был хвостовой частью самолета-истребителя «МашМиш», неоднократно атаковавшего Белку, она вовсе не хочет его смерти! Она хочет, чтобы лицо его снова стало самым обыкновенным! И странно, что никто не замечает, что с Мишем происходит неладное: Маш и Аста пожирают друг друга глазами, а все остальные пожирают глазами их.
Даже Дружок не исключение.
– С чего бы это тебе возражать? – Маш даже головы в сторону брата не повернула.
– Наверняка, это какая-нибудь фигня, – голос Миша был таким тихим, что напоминал шелест кипарисов в сумрачной аллее. – Яйца выеденного не стоит…
– Стоит, – уверила присутствующих Аста. – И вообще… Предупрежден – значит вооружен. Что скажешь, Мари?
Маш и без того вооружена до зубов. Пистолетом бэнг-бэнг-бэнг, кинжальной улыбкой, готовой исполосовать всех, кто не успел зажмуриться. Маш – бессменный командир самолета-истребителя с кучей нарисованных звезд на фюзеляже, разве ей нужен дополнительный боезапас?
По всему выходит, что нужен.
– Валяй, читай.
Аста, казалось, только этого и ждала. Очень медленно она развернула записку, еще раз пробежала ее глазами и набрала в легкие воздуха, как будто собиралась прыгнуть в море со скалы:
– Уверена?…
– Не тяни.
Всему виной ее легкий, едва уловимый эстонский акцент: иногда он почти незаметен, иногда – кажется нарочитым, особенно когда Аста заявляет: «У нас почтьи Эуропа! У нас всьё ньемного мьягче!»
Вряд ли это относится к людям.
И уж точно не к Асте. Особенно теперь. Теперь она напоминает Белке лучницу, а акцент – всего лишь яркое оперение, призванное не только увеличить скорость и придать необходимую точность полету стрелы, но и отвлечь потенциальные жертвы. Они пребывают в неведении ровно до того мгновения, пока стрела не вонзится прямо в сердце.
– «Жду тебя сегодня в девять вечера, в конце кипарисовой аллеи. Не обращай внимания на Машку, Машка – страшная сука и гадина, но я плевать на нее хотел. Знаю о ней такое, что она и рыпнуться не посмеет. Приходи, очень тебя жду», —
Аста закончила чтение в абсолютной тишине. Такой оглушающей, что было слышно, как в аллее о чем-то шепчутся кипарисы. И что-то подсказывало Белке, что в девять вечера ни один посторонний не сможет вклиниться в их беседу.
– Пять орфографических ошибок, – тоном учительницы младших классов произнесла вероломная эстонская полукровка. – Сколько там у твоего братца по-русскому?…
Нужно отдать должное Маш. Получив пробоину, ее самолет клюнул носом, но тут же выпрямился и нестерпимо засверкал плоскостями на солнце:
– Тебе лучше спросить у него самого. Только вряд ли он тебе об этом скажет.
Взглянув на Миша, Белка подумала, что Маш даже смягчила ситуацию. Еще недавно полыхавшее лицо брата было теперь мертвенно-бледным, словно занесенное снегом. Снег поглотил все – губы, подбородок, светлый пушок под носом и сам нос; остались только незамерзающие полыньи глаз. О, Белка хорошо знает, что такое снег! В ее северном городе он может лежать долгими месяцами, спрессовываясь в пласты, и нужно запастись мужеством и терпением, чтобы пережить его. Вдруг у Миша не хватит терпения? А о мужестве и говорить не приходится, достаточно заглянуть в жалкие полыньи.
Впрочем, не такие уж они жалкие.
Где-то – в самой их глубине – вспыхивают диковатые огоньки. Белка слишком мала, чтобы хоть как-то классифицировать эмоцию, которую они несут, но одно знает точно: ничего хорошего от этих огоньков ждать не приходится.
Снег над городом по имени Миш идет и идет; а Белка убеждает себя, что и в снеге заключена масса приятных вещей. Новый год – раз. Каникулы – два. Санки, лыжи и коньки – три. В белых сумерках приветливо светятся окна домов. В зависимости от того, что за ними происходит, они могут быть желтыми, оранжевыми, как апельсины, нежно-голубыми – там смотрят телевизор. Но в городе по имени Миш никто не смотрит телевизор. Никто не катается на коньках и не съезжает с горы на санках. В нем некому встречать Новый год, а каникулы похожи на все остальные дни – пустые и никчемные.
В городе по имени Миш не светится ни одно окно.
Нет, не так.
Два окна все же имеются – те самые, за которыми горят недобрые сполохи. Даже оказавшись в самом эпицентре метели, поздно ночью, преследуемая стаей голодных волков, Белка ни за что бы не постучала в эти окна. Там, внутри, еще хуже, чем снаружи. Там нет спасения.
Ни для кого.
– …Ферзь бьет слона, – неожиданно сказал Лазарь. – Шах и мат.
Это не относилось к сцене за обеденным столом (Лазарь просто передвинул крошечную фигурку на крошечной шахматной доске), но прозвучало издевательски. Последнее слово осталось не за Астой, не за Маш, не за заиндевевшим Мишем – за чужаком.
– Заткни пасть, – посоветовала Лазарю Маш, нисколько не похожая на слона.
– Шах и мат, – упрямо повторил тот.
– Не стоит принимать все, что говорят, на свой счет, – неожиданно вступилась за Лазаря Аста. – Ты не центр вселенной. Как только поймешь это – жизнь заметно облегчится.
Еще одна стрела, пущенная точно в цель. Кажется, она влетела прямо в рот Маш, иначе чем объяснить, что губы ее стали кроваво-красными? Белка даже испугалась, что кровь вот-вот хлынет – целый поток, бурный и неостановимый. Он сметет на своем пути не только Асту и Миша, но и Шило, и Лёку, и Лазаря, и собаку Дружка.
И крошечные, совершенно беспомощные шахматы.
Почему Белка испытала острую жалость именно к шахматам, а не – к примеру – собаке никакому логическому объяснению не поддавалось. Шахматы – предмет неодушевленный, и в этом они немного похожи на своего хозяина, Лазаря. Все делают вид, что он – пустое место. Ему частенько забывают поставить тарелку, ему достаются самые маленькие сырники, самые жилистые куски мяса и компот без ягод. Но незаметно, чтобы Лазарь особенно страдал. Он безропотно проглатывает и сырники, и мясо, и компот. В отличие от бутуза Гульки он никогда не просит добавки; в отличие от своей сестры Таты он никогда не отказывается от манной каши. Где он проводит дни – никому не известно, но у него есть удивительная способность внезапно вырастать перед глазами: Белка пару раз испытала эту внезапную материализацию на себе – ощущение не из приятных. И если в первый раз она просто испугалась и вскрикнула, то во второй раз задумалась о природе Лазаревой материализации.
Лазарь похож на паутину, которую обычно плетут кругопряды.
Паутина вырастает перед ничего не подозревающим насекомым совершенно неожиданно. И в тот самый момент, когда уже ничего нельзя изменить, – остается только дергаться в тенетах в ожидании самого худшего. Хорошо еще, что Лазарь – не кругопряд, а Белка – не насекомое.
– Фуу-х! – вскрикивает она при встрече. – Ты меня напугал!..
– Извини, пожалуйста, – обычно отвечает Лазарь. – Я не хотел.
Лазарь – очень вежливый мальчик. Он не похож на одноклассников Белки и на тех ребят, что живут в ее дворе. Отпетые хулиганы, вот кто они такие! А Лазарь – вежливый и тихий. Поначалу Белка думала, что подружится с ним, выгоды от этой дружбы очевидны: она получает готового рыцаря на шахматном коне, а он – избавляется от одиночества, да и ягоды в компоте ему обеспечены. Белка даже робко поинтересовалась шахматами – по ее мнению, это очень интересная, загадочная игра, жаль, что в их семье шахматы не в чести.
Папа и мама предпочитают нарды, иногда они бросают кубики и передвигают шашки целыми вечерами; нарды – лишнее напоминание о Каракумах и Кызылкуме. Для Белки расставание с большими пустынями прошло безболезненно, зато не было дня, чтобы папа и мама не вспоминали о них.
Папа и мама скучают.
– Скучаешь по дому? – спросила как-то Белка у Лазаря.
– Нет.
– Значит, тебе здесь нравится?
– Нет.
– А есть место, которое тебе нравится? Больше всего?
– Нет.
– Ты на все вопросы отвечаешь «нет»?
– Нет.