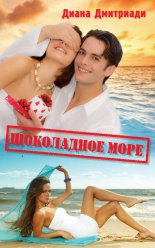Хозяин Древа сего Виноградов Павел

— Ну, надеюсь и жду. П`остите, това`ищи, мне полянку докосить надо, а потом п`исяду на чу`бачок, паочку `абот напишу.
— Пока-пока, Вован. Пиши на благо трудящихся Шамбалы и ее окрестностей, пейсатель хренов, — небрежно бросил Дый, двигаясь дальше.
— Жалкий тип, — проговорил он, когда они уже достаточно удалились от полянки. — Продлил я его, да слишком рьяно за ним перед смертью присматривали, чтобы можно было вытащить незаметно. Короче, помер в самый момент продления, музыка еще не замолкла. Полный абзац: в кресле — мертвое физическое тело, астральное в панике вокруг шныряет, обалделый повар, который ему завтрак принес, столбом стоит, а я ничего сделать не могу. Ну, забрал его астрал, куда деваться, а физику в Стволе в мавзолей положили. Думали сначала закопать, как обычно, а потом глядят — не гниет. Естественно, как же тело Продленного гнить может, хоть его астрал и где-то на стороне болтается… Теперь ни то, ни се — пользы мне от призрака ноль, тело в сохранности, но в Стволе. Из мавзолея, правда, убрали, но поместили в спецхран, где оно до самой Кроны киснет. И не добраться теперь до него — в секторах, где он должен быть живой, естественно, только зомби бездушный остался. А за мумией следят постоянно — охрана там, ученые. Лежала бы в могиле, я бы ее мигом вытащил, да подложил бы искусственного кадавра, чтобы полный ажур. А так — опасно больно. Ума не приложу, что с ним теперь делать.
— Зачем же ты его вообще сюда притащил?
— Махатма, блин, подлинный и отпетый. Здесь ему место — имеет потенцию быть полезным для моих планов — офигенной силы мозги, злобная душонка и полное отсутствие всей и всяческой совести. Я его друзьям через того художника даже земельки на могилу прислал, с намеком, чтобы закопали, так нет же…
— Так тебе ж что Ствол, что Ветви, везде лазаешь…
— Не скажи, братец, одно дело что-нибудь в Ствол незаметно подкинуть, а другое — спереть то, что там прочно лежало. Ветвь мигом стрельнет, с носом останешься… Он, мучается, конечно, надеется, я ему все обещаю, да ничего поделать нельзя. Так, видно, и будет полянку косить, ибо тут же во Тьму провалится, если Шамбалу без тела покинет. Или в Крону затянет, а там ему мало не покажется…
— А что там со священниками?
— Да вдолбил в голову, что, если в Стволе с его бренным телом по всем правилам попрощаются, ни Тьма, ни Крона ему не грозят. Суеверен, собака…
Они шли по лесам и полянам, пересекали поля. Пшеница достигала удивительной высоты, колосья еле держали тяжесть ядреных зерен. Уродливые, покрытые красноватой шерстью йети при виде их оставляли работу, отворачивались, скорчившись, падали на землю и прятали головы под лапы, оставаясь в таком положении до тех пор, пока Дый с гостем не проследуют мимо. А они шли дальше, мимо вычурных домиков, перед которыми стояли жильцы — люди всех рас и эпох всех Ветвей, какие-то и вовсе на людей не похожие. Подобострастие их по отношению к Дыю было безмерным, что явно доставляло тому удовольствие. Варнаву же эти бесконечные склоненные спины, подъятые зады и льстивые слова утомляли безумно.
— Что-то заскучал ты, сладенький, — заметил наконец его неудовольствие Дый. — Неужто не впечатляет?
— Нет, — сердито бросил Варнава.
— Ну что же, о вкусах не спорят, — притворно вздохнул старый див. — Я, вообще-то, хотел просто показать, что ничего инфернального у меня тут нет, напротив, сплошное благорастворение воздухов… Но если ты уже насмотрелся, можно перейти к главной части программы. На островке она у меня…
Вновь Дый крепко обхватил его, и они оказались в воздухе. Неслись вдоль реки, ландшафтные зоны внизу ежеминутно причудливо изменялись. Мелькали кусочки лесов умеренного пояса и субтропиков, унылая тундра сменялась каменными грядами, возделанные поля и пышные сады перемежались участками сухой степи, поросшими жестким ковылем. Поистине то был мир в миниатюре, непостижимыми силами втиснутый в узкое пространство горной долины. Наконец, под ними заскользила гладь озера, полет несколько замедлился, борода Дыя вольготно расположилась по току воздуха. Они летели так низко, что Варнава чувствовал упоительно свежий запах воды, видел мельчайшую рябь на сверкающей поверхности.
Перед ними быстро росли крутые берега острова, который Варнава видел с высоты. Перелетели узкий песчаный пляж, по которому ползали бесчисленные мелкие крабы, дальше был колючий низкорослый кустарник, в котором кое-где торчали темные валуны, вида довольно неприятного. Отсюда местность резко повышалась, а на вершине холма, который, собственно, и представлял из себя остров, громоздилась уже виденная Варнавой серая башня. Вдали в белесом тумане возвышалась громада портала Зала Убитых, который, как убедился Варнава, был виден из любой точки долины.
Дый опустился на один из валунов, как признал про себя Варнава, довольно лихо.
— С мягкой посадкой, батенька. Отсель пешочком, — резюмировал див и, не дожидаясь ответа, вломился в кустарник.
Варнава последовал за ним, про себя ругательски ругая язвящие сквозь рубаху садистски изогнутые колючки.
Путь лежал наверх, Дый неутомимо продирался сквозь зеленую стену, для его кольчуги безобидную. Впрочем, кустарник все редел и, наконец, кончился. Они прошли мимо какого-то заброшенного строения — опять очень похожего на павильон Пайкина, чему Варнава почему-то не удивился, — оказавшись вдруг на вершине. Перед ними высилась мрачная древняя башня без крыши — странный маяк для странных существ. Но не на нее глядел мгновенно оцепеневший Варнава, а на огромный валун у ее основания, подобный тем, что в изобилии валялись ниже. Этот, впрочем, мог заслужить имя отца тех — огромный, угловатый, поросший серым мхом, источающий немую злобу косной материи на бушующий вокруг живой мир. Обвивала его массивная стальная цепь. Обвивала она и существо, сидевшее прислонясь к глыбе, свесив голову на грудь — огромную седую обезьяну…
У Варнавы не было мыслей, он просто созерцал недвижное тело Суня.
— Прихватили мы кореша твоего, как видишь, — прервал зияющее молчание Дый. — Ума не приложу, как сюда влез, но схватили прямо у озера, — див притворно не замечал состояние собеседника. — Демон один, из стражей, засомневался что-то в кумирне Земли с шестом для флага. Похоже, не совсем еще идиот, как прочие — сообразил, что не бывает на кумирнях флагов. Подойти хотел, да хорошенько двери пнуть. А тут превращается кумирня в эту вот большую мартышку. Думал звереныш Шамбалу развести — пасть стала дверью, язык — статуей Земледьявола, глаза — оконцами. Только хвост, видно, не придумал, куда деть, да и превратил его в шест для флага! — Дый расхохотался. — Гонялись мы за твоим шифу долго, вспотели все, а как настигли, десяток Продленных через его палку все свое бессмертие утратили. Но одна игрушка красавца утихомирила… Да ты ее знаешь, Манрики-гусари называется…
Варнава сжал до хруста зубы — на седой шкуре Суня виднелись подпалины, кое-где мясо обуглилось, некоторые раны уже подживали, другие еще были воспалены. Но продолжал стоять спокойно — время для действий не пришло.
— Мы, конечно, ключицу ему переломили, чтобы больше не вздумал превратиться еще во что-нибудь. Знаешь же этот прием против магов? Я, надо сказать, до сей поры удивляюсь: такие фокусы в Шамбале только Изначальный див творить может, ну, и те, кому мы эту возможность даем. Никак не могу поверить, что это замшелое чудище из Ветвей — коллега.
Варнава знал, в чем дело, но, разумеется, продолжал слушать молча.
— В общем, — закончил Дый, — где тебя искать, стало ясным, будто водичка в нашем озере. А образину посадили на цепь, будем теперь решать, как ее решить, — он опять рассмеялся, то ли и вправду был доволен плохим каламбуром, то ли, что вероятнее, продолжал дразнить Варнаву. — Ты к нему подойди, подойди, все равно ничего не чувствует.
«…О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанней благости и милосердию». Варнава сделал пару шагов и остановился над скованным учителем. Тот действительно пребывал далеко, хотя сознание не полностью покинуло тело. Склоненная голова подрагивала, из горла иногда доносились слабые хрипы. Варнава положил руку на его плечо, ощутив упругое тепло, а дальше — могучую непобежденную жизнь: шифу был в порядке, насколько возможно в таком положении. Пока в порядке — в живых Дый его все равно не оставит. Но ведь Сунь пришел сюда из-за него, Варнавы!
Который раз он стоял и смотрел на очередную свою жертву? Не на того, кого убил сам, а кто погиб из-за него, хоть бы он сам этого не желал… Память вдруг пронизало ощущение яростного порыва, мучительного желания спасти окровавленного человека, корчащегося под градом летящих камней. Страшные подпалины Суня слились в его сознании с кровоподтеками на смертной мукой изломанном лице.
…Тревожные огни в густой, как кипрское вино, ночи, глухие удары булыжников о тело, хруст ломающихся костей. Он стоит в стороне, смотрит, как бессвязно орущие люди, на лицах которых рваное пламя факелов высвечивает лишь откровенную похоть, словно обезумевшие механизмы, убивают человека. Человека, быстро превращающегося в обыкновенную кучу мусора из клочьев одежды, кусков негодного мяса и грязных камней. А он не смеет разбросать этих слюнявых подонков, голыми руками истребить их. Потому что куча мусора только что взглянула на него единственным оставшимся глазом, и взгляд этот обозначал: «Стой и смотри». И он не смеет ослушаться строгого приказа, стоит и смотрит на мученичество Совершенного, и нет разницы, что это творится в Ветви, потому что в Стволе то же самое, и не ему нарушать эту предопределенность…
Но сейчас перед ним не брат его, и не ипподром здесь на западной стороне города Саламис. И ничего здесь еще не предопределено, что бы ни говорил ему тот блаженный епископ…
Оставив бесплодные умствования, Варнава внутренне обозрел свои вновь обретенные силы. Он знал, что может сделать это. И сделал, почувствовав, как под воздействием его руки в глубине большого существа учителя происходят изменения, схожие с передвижениями геологических пластов, невидными на поверхности, но чреватыми крупными неприятностями в недалеком будущем.
Убедившись, что сломанная ключица царя обезьян быстро срастается и сознание скоро вернется к нему, Варнава отнял руку. Повернувшись к наблюдающему Дыю, спокойно спросил:
— Это все, что ты хотел мне показать?
— Нет, — коротко ответил тот, глядя ему в глаза.
В городе Саламисе: «Ты отдашь имя и жизнь»
— Не мне судить тебя, Иегошуа. Не мне судить всех вас. В конце вы предстанете перед Судом — как и все человеки.
— Ты изменился, Иошияху.
— Прошли многие годы. Я не мог не измениться.
— Последний раз ты судил меня…
— Нет. Ты сам судил себя. И продолжаешь это делать.
— Оставь. Я пришел за советом, брат.
— Зачем тебе мой совет? Или ты не бог? Ты же хотел стать богом, с тех пор, как увидел Его. Ты добился, чего хотел?
— Почти…
— А ты хотел быть, как Он? Иегошуа, Иегошуа, никто никогда не сможет стать как Он. Разве ты до сих пор не понял?
— Раньше я расхохотался бы на эти твои слова. Но не теперь… Я рассказал тебе про сон…
— Брат мой по крови, мы могли бы стать братьями по духу. Я чувствую это. И благом было бы для нас трудиться вместе среди людей.
— Иошияху, я прошу только совета. У меня другой путь.
— Мой путь лежит к свету жизни, твой же — в сень смертную. Какой совет могу дать я тебе? Сбрось одежды, которые на тебе, и я возложу на тебя другие, которые никогда не осквернятся; ибо в них нет ничего нечистого, но они всегда сияют.
— На меня уже возложены иные одежды. Я понял, что не хочу их, но невозможно сбросить их, брат.
— Это печалит меня и озадачивает. Он, когда был с нами, никогда не говорил про таких, как вы, хотя знал, конечно… Наверное, хотел, чтобы мы сами решили. Я не думаю, что вы сыны тьмы, нет… Но…
— Но что?
— Ты рассказываешь поразительные вещи, к которым я не знаю, как отнестись. Ты прибыл сюда, на остров, где мы родились, пришел ко мне, старику, таким же юным, как и был, когда мы расстались много лет назад в те великие дни в Ершалаиме, рассказывал и показывал невероятное. Но я вижу, да ты и сам говоришь, что тебе нужно утешение. А сынам тьмы не нужно, это я знаю. Значит, ты человек и можешь стать Совершенным.
— А я разве не стал?
— Те, кого ты называешь Продленными, не есть Совершенные. Но, думаю, они могут стать такими, хотя, возможно, им это труднее, чем прочим.
— Кратким?
— Чем прочим людям. Послушай, Иегошуа, Бог направил тебя сюда, поверь.
— Я сам…я мертвый бог…
— Тебя направил Бог Живой, я вижу на тебе Его длань. Ту думаешь, случайно Он заменил тебя на Кресте?.. Я вижу… Слушай меня, брат. Завтра я умру.
— Иоши…
— Да, завтра меня убьют, Он открыл мне это только что. Вариес едет сюда, он заставит их убить. Они и так ненавидят меня за Слово. Это будет завтра.
— Я не допущу!
— На правах старшего приказываю тебе не препятствовать. Пойми же, Иегошуа, это моя радость, награда за все труды. Я устал, я хочу к Нему, и вот Он берет меня. Ты не понимаешь?..
— Нет.
— Неважно, поймешь. И это открылось мне. Слушай, Иегошуа, прозванный Варавва, слушай брата своего по крови, Иошияху Варнаву, ко Господу нашему уходящего. Настанет время, и ты сам придешь к Нему, и станешь молить о милости и прощении. И получишь их. Мужайся, Сын Разрушения, ибо возьмешь мое прозвище, и станешь Сыном Утешения, дабы заместить в этом мире меня, смиренного брата твоего, как некогда Он заместил тебя в крестной смерти. И за великие грехи твои претерпишь великие скорби и свершишь великие дела. И когда не только имя свое, но и жизнь отдашь Ему, найдется некто, кто заменит тебя. И через это обретешь покой. Не пытайся понять сейчас, поймешь в свое время. А теперь прощай, любимый брат мой. Мы еще встретимся — завтра и потом. Иди и смотри, Иегошуа.
— Прощай, Иоши.
Дый молча повернул ко входу в башню, Варнава за ним. Прошли сквозь временем выщербленный сводчатый портал, вступили на пол, выложенный неровными, явно вручную отесанными плитами. Было тихо и пусто. Свет ясного дня изливался сверху на единственный в каменном колодце предмет, достойный внимания — дерево, возвышавшееся посередине круглого зала.
Ясень, гигант среди ясеней. Старый-старый, с неохватным стволом, не утративший, однако, юношеской стройности и красоты коры, которую, впрочем, портила уродливая старая трещина, шедшая от корней почти до кроны — словно молния в незапамятные времена проложила себе путь. Несмотря на эту ужасную рану и очевидную ветхость дерева, крона казалась нежной и пушистой. Варнава явственно почувствовал, как в него проникло некое шелестящее приветствие.
— Гламурненький, правда?
Дый поворотил к нему довольный оскал.
— Неужто тот самый, — с любопытством и невольным почтением спросил Варнава, несколько воспрянувший после исцеления Суня.
— Тот, тот… — заверил Дый. — Конек мой — ясенек.
Понимая, что просто так тут ничего не делается, Варнава последовал примеру провожатого, усевшегося прямо на холодные плиты пола, из трещин которых обильно выбивалась жесткая трава, и погрузился в созерцание патриарха растений. Место было необычным: камни казались страшно древними, древнее Дыя, Шамбалы, всех Ветвей. Стены колодца нависали угрюмо, не замечая копошащихся внизу существ, одним этим суровым безразличием делая смехотворными их претензии на какое-либо могущество. Настоящее могущество, монотонно внушали они, обитает лишь здесь. Но было оно сугубо пассивным, ибо, проявись хоть толикой вовне, все и вся сметет неодолимая сила.
Однако сияние дня, наполняющее огромный каменный стакан, словно сдерживало его от опасных подвижек. В лучах победительных лучей гигантский ясень, подобно застывшему взрыву восставший из глыб, искрился изумрудной кроной.
Время остановилось. Наставшая вдруг тишина казалась абсолютной и конечной. Лишь все ярче разгоралось видение Древа.
Неведомо откуда женская фигура явилась под ним, и он чуть не вскрикнув: «Луна!». Нет, не Луна, а Майя, такая, какой он впервые созерцал ее в давно сожранной Тьмою Ветви — пышноволосая, окруженная переливающимся серебристым сиянием, высокомерно глядящая сверху вниз, держась рукой за ствол.
— А это майя и есть, — над ухом у него прошептал Дый, — Она самая, Иллюзия мира. И сама иллюзия. Смотри еще.
Варнава смотрел. Босые ноги призрачной (а может быть, и истинной) Майи помещались между чудовищных выворачивающихся из изломанных плит корней, которые были такими огромными, что женщина действительно казалась чем-то эфемерно ненастоящим среди наглядной грубой реальности. Постепенно взгляд Варнавы переключился на великие эти корни. То были Корни мира, а сокрыто в них было Начало. Именно сокрыто: взгляд лишь угадывал грандиозные движения, совершавшиеся где-то на глубочайшем уровне, куда разум человеческий никогда не проникал.
— Начало едино для Ствола и всех Ветвей.
Голос Дыя стал вдруг глухим и монотонным. Варнава искоса глянул на него и увидел закатившийся глаз на разглаженном трансом лице.
— Мы не можем видеть, что происходит там, мы не знаем Начала, — потусторонне вещал голос, который мог уже не принадлежать Дыю, да и никому вообще.
Он увлекал Варнаву в экстатические пучины, но еще больше воздействие оказывало величественное зрелище Корней. Сознание стало уплывать, утомленное созерцанием непостижимого. Варнава сомнамбулически перевел взгляд выше, где начинался Ствол.
И здесь ум его расправился, поскольку стал получать внятные образы. Перед ним развертывался бесконечный свиток, наполненный яркими картинками.
Первые люди, еще так похожие на ангелов, строили на Земле человечество, творилась изначальная история, недавно пересказанная Дыем. И очень хорошо видны были границы правды и лжи, искусно слепленных старым дивом. Ложь его, однако, содержалась не в фактах, а в их интерпретации. А эти видения были предельно объективны, безоценочны — рождение сыновей Перволюдей, убийство брата братом, черная туча, накрывшая преступника, заставившая его идти и идти по прямой, пока он не понял, что бессмысленно бежать от судьбы, выбранной самим. И он, могучий человек, стал копать в пустынной долине колодец, носить и складывать тяжелые камни, строя для себя и своей маленькой испуганной сестры-жены жалкое убежище от преследующего его огромного Гнева. Он натужно выцарапывал у земли тернии и волчицы, чтобы напитать свое потомство, а оно, вырастая, продолжало его стезю.
Чуть выше увидел Варнава результат их трудов: первую цивилизацию, опоясавшую планету, стрельнувшую метастазами-факториями по всей остальной ее поверхности. Единый народ единого мегагосударства трудился над единой целью — сделать его еще более великим, тем возвеличив самое себя. Использовалось для этого все, от машин до магии, и результаты были головокружительны. Казалось, вот-вот воцарится бесконечное, непреходящее счастье…
В это время стали отделяться Ветви. Одни тянулись вдоль Ствола, почти повторяя события в нем, другие устремлялись в стороны, словно хотели убежать от него как можно дальше, и причинно-следственные цепочки в них становились причудливыми, а жизнь странной.
В Стволе, между тем, назревало. Люди проникли в суть вещей так глубоко, что научились повелевать ими. И делали это не только для пользы своей и удобства, но и для забавы, а больше — для утоления снедавших их страстей, имя которым было легион. Ибо единство стало рушиться, каждый стоял сам за себя, а понятие общего блага сделалось предметом насмешек. По-настоящему сильных людей становилось все больше, и они веровали, что силой дозволено все. Тяжело было видеть картины высочайшего взлета, сочетающегося с самым низменным падением, и нет никакой возможности описывать их, самому не становясь соучастником кощунственной вакханалии. То было время, когда мать приносила в жертву свое дитя ради вечной молодости, дочь же ее отдавалась отцу, дабы зачать плод для нечестивой жертвы, и, свершив свое дело, во имя Тьмы отца убивала. При этом они были счастливы, не видали иной жизни, наслаждались ею, не замечая, как капля по капле истощается горнее долготерпение.
Над планетой сгущались тучи, в недрах ее пришли в движение слепые силы. Наконец пришел День гнева. Это случилось одновременно во всех Ветвях, вернее, все они сошлись к Потопу в Стволе. Тогда разом разверзлись источники великой бездны, вершины гор покрыла вода. В кошмарных фейерверках вулканических взрывов уходили под воду континенты. Порожденные их агонией водяные горы обрушивались на уцелевшую сушу, сдирая с нее струпы цивилизации. Созданное людьми, вместе с самими людьми, и всеми животными, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях — погибло. Планета представляла собой бушующий океан, под лучами Солнца сияла на ближний космос, как живой сапфировый шар.
Ничтожное число людей спаслось. Были они в большинстве полубезумны и подвержены страху, забыли о больших городах с комфортными сортирами, от которых лишь кое-где остались болезненные наросты руин. Выжившие строили хижины, били зверье копьями с каменными остриями. В священных пещерах красиво рисовали объекты своих охотничьих вожделений, и считали, что этим выплачивают долг за данную им жизнь. А Кому были должны, забыли.
Небольшая группка, впрочем, сохраняла память о причинах катастрофы и великолепии цивилизации. Но и этой смутной памяти хватило на то, чтобы вновь стали расти города.
Не погибло и семя Продленных: через два-три поколения от катастрофы Ветви вновь стали пронизывать Тьму. Те же, которые появились раньше, усохли и сгинули, однако большая часть Продленных в них успела перескочить Потоп по временным цепочкам, и продолжала существовать в Древе.
Но человечества не стало как целого, нестойкие группы собирались и распадались совершенно произвольно. Это не шло им на пользу — число людей уменьшалось стремительно, до тех пор, пока не пришел первый удар из космоса. Некое излучение хлестануло по несущемуся в пустоте шарику, оставив на нем невидимый, но глубокий рубец. В ареале этого невидимого геодезического шрама у людей стало рождаться потомство, не похожее на своих родителей — оно плевать хотело на пожиравший предков страх перед прошлым, и словно бы пыталось все строить с нуля. Что удивительно, многое им удавалось. Становилось их все больше, они объединялись, и не только ради того, чтобы вместе охотиться и находить пару для совокупления. Общества росли, включали в себя другие группы, становились племенами. И уже называли себя не просто «люди», как раньше, а придумывали общее имя, которое и носили, не позволяя другим им называться.
Потом были новые удары космического бича, появлялись другие сообщества людей с иными именами, и история, словно понукаемая наездником, пустилась вскачь. Ведь чем больше событий происходит, тем быстрее мчится время. А их происходило множество — все народы, на которые теперь разделилось человечество, были чем-то заняты, что-то строили, куда-то стремились, сражались, придумывали богов. Память же о временах изначальных угасала, лишь кое-где сохранялась как элемент племенного сознания.
— Это новый способ существования людей, какого не было до Потопа, — голос Дыя был все так же тускл и монотонен. — Отныне время движет взаимодействие народов.
Варнава поднимал взгляд по Стволу, и одновременно перед ним расцветало изумительными красками Древо. Он давно уже не видел стен, вместо них встала непроглядная Тьма. И в ней Древо искрилось и переливалось, как корона Императора Вечности. Пребывало оно меж двух пожаров, которые, казалось, питают его энергией. Красное пламя вспухало на месте Корней. Золотистое сияние нисходило с необъятной Кроны. А между ними разноцветные волны перекатывались по Стволу, от которого разбегались мириады Ветвей, тоже разноцветных. Все это производило впечатление пестрого светящегося хаоса, в котором, тем не менее, угадывались План и Расчет. Но лишь угадывались, а осмыслению, в силу своей грандиозности, не подлежали.
Ветви шли во все стороны, от них постоянно отделялись другие, и от тех — тоже. Они прихотливо извивались, сливались со Стволом и друг с другом, распадались на тысячи новых и вновь собирались в одну. Какие-то были почти идентичны, другие, казалось, отличались во всем, были и вовсе ни на что не похожие. Из-за этого переплетения Древо больше походило не на дерево, а на живой радужный шар с полюсами, погруженными в пламень.
Впрочем, не шар, а, скорее, что-то вроде гантели, ибо было место, которое пересекали ВСЕ Ветви. Его обозначал обильный белый свет, исходящий от маленького участка Ствола. Из-за непобедимого этого света, пересиливающего многоцветье Древа, раскинувшего серебристый отсвет от Корней до Кроны, совсем не было видно, что происходило там.
— Мы не видим Корни, мы не видим Крону, мы не видим Зону, — вновь загудел дыевский комментарий. — Это — тайна Хозяина Древа сего, — даже в замороженном трансом голосе ощущался горький привкус ненависти. — Оттуда никогда не отходили Ветви. И все Ветви включают ее в свою цепочку событий, какой бы она ни была.
Глядя на могучее ровное сияние, Варнава ощутил вдруг великую радость, которая приходила всякий раз, когда утомленный странствиями по хаотическим краскам взгляд возвращался к яркой белой точке. Он знал, что было в Зоне, пусть знание его оставалось ничтожным по сравнению с тем, ЧТО происходило там на самом деле.
Но продолжал созерцание, пролистывая сонмы событий и их вариантов, выхватывая в векторных переплетениях силуэты гор и городов, океанские волны, обширные леса и пустыни, и везде — людей, строящих и разрушающих с одинаковой страстью. Поднимался его взгляд и до Предкронья, когда Земля и множество освоенных людьми иных планет составили невообразимую культурную и социальную целостность, хотя порой и разделявшуюся войнами и квазигосударственными образованиями, но все время ощущавшую свое неизбывное единство. То был мир без границ между народами — их просто не существовало, ибо космический бич перестал хлестать. Теперь стал глобальный Человейник (название, взятое у напрочь забытого к тому времени писателя). Но границ не было уже и между личностями, соединившими мысли и эмоции при помощи переходящей в магию хитрой науки. Не было границ и между понятиями, представления о добром и дурном слились и, в конечном итоге, взаимно аннигилировали. Все это было похоже на беспробудный сон, в котором можно творить все, но ничего не удается свершить. Большинство же населения Человейника полагало, что мир этот — наилучший из возможных. Все как до Потопа…
Выше была граница Кроны, предел, на котором сходились все Ветви, сливаясь со Стволом. Что творилось дальше, Продленным было неведомо, они знали лишь то, что предсказано — конец Древа. Впрочем, иные из Ордена открывают тайну Кроны, однако никогда ее не поведают. Теоретически, Продленный может растянуть свою жизнь почти до бесконечности, выбрать или создать любую Ветвь и жить в любой ее части, начиная от конца Потопа, как угодно двигаясь по временным цепочкам, минуя лишь Зону. Но если он переходит границу Кроны, назад хода нет. Однако многие идут туда, когда бремя их бытия становится невыносимым, а случается это куда чаще, чем думают Краткие, озабоченные эфемерностью своей жизни. В Ордене бытует убеждение, что ушедший в Крону проживает последние участки Древа вместе со всем миром, включаясь в причинно-следственную цепочку, и так приходит на Суд. Причем от появления лишнего существа цепочка почему-то не повреждается. Большинство Продленных не любит размышлять на эту тему, до тех пор, пока их не начинает мучить томительное желание преступить границу. Варнава не раз думал о такой возможности, но откуда-то понимал, что ему она не предназначена. Конечность этой жизни была для него очевидна, и Суд он воспринимал, как неизбежность, но личный его путь к нему был не столь прямолинеен.
Отраженный слепящим блеском Кроны, его взгляд вновь побежал по Ветвям. Тут он сообразил, что не видит кое-чего, и, не успев повернуться к Дыю, чтобы задать вопрос, получил ответ:
— Шамбалы нет, — прозвучал бесчувственный голос. — Шамбала существует вне Древа, а то, что вне Древа, не существует. Таков закон.
Варнава был слишком искушен в парадоксальных концепциях, чтобы вопрошать, где же тогда, собственно, они находятся. Нигде, значит нигде, и дело с концом… Он, вообще-то, нечто подобное подозревал с самого начала. В некой Ветви ему доводилось много беседовать о воле и благодати с одним епископом родом из Африки. Часто беседы переходили в ожесточенный спор, но в конечном итоге именно тогда Варавва стал Варнавой. Качество наставлений мудрого архиерея было таково, что теперь Варнава мог вполне осознанно повторить вместе с ним применительно к Шамбале: «Не субстанция, а недостаток, порча субстанции, порок и повреждение формы, небытие». То есть, сейчас голос Дыя вещал согласно со словом блаженного.
Потому он вновь отправился в визуальное странствие по Ветвям. И вдруг споткнулся об одну из них. Ясень, представлявший собой, как уже понял Варнава, проекцию истинного Древа, давал возможность не просто рассматривать цепочки событий, но и включать в них наблюдателя как виртуального участника. Так Варнава снова оказался в своей Ветви, которую считал распавшейся во Тьме.
Почему-то Варнава не удивился — теперь ему показалось, что с самого начала знал, что Ветвь его не погибла. Но зачем же тогда все это?..
— Моя Ветвь жива? — вопрос не был адресован Дыю, и никому вообще, просто
брошен.
— Да, — Дый отозвался сразу.
По голосу чувствовалось, что он уже выходит из транса, оставаясь на зыбкой границе между медитацией и сознанием.
— Да, — повторил он, — но это уже не имеет значения.
— Почему? — спокойно спросил Варнава.
— Потому что Древо будет разрушено.
Перед Царскими вратами: «Ей, честный отче»
— Желаеши ли уподобитися ангельскаго образа и вчинену быти лику монашествующих?
— Ей, честный отче.
— Вольною или невольною мыслию приступаеши к Богу, а не от нужды ли некия и насилия?
— Ей, честный отче.
— Сохраниши ли себя в девстве и целомудрии и благоговении, и в послушании?
— Ей, честный отче.
— Потерпиши ли всякую скорбь и тесноту жития монашеского ради Царствия Небесного?
— Ей, честный отче.
— Брате! Свершилось то, к чему Господь вел тебя на многотрудном пути — ты стал монахом, облекся в одежды плача и покаяния. Будь же послушен воле Божией и Святой Его Церкви. Ты отличаешься от большинства людей, и в этом великий твой грех. О тебе и собратьях твоих Продленных могу сказать одно: возлюбили пути свои, а не Божии, полюбили свободу беглых рабов, создали куцее подобие свободы, теша себя тенью и подобием всемогущества. Того же, что происхождение оно имеет во Тьме, которая вся есть порок и небытие, в большинстве своем знать не хотите. Возблагодари же Господа, Который, как милосерднейший даятель благодати, подал тебе это осознание.
Войдя в Церковь, ты стал таким же членом ее, как и все прочие люди, получившие рождение свыше. Но плоды прегрешения юности остаются с тобой: телесная крепость и долгая жизнь, и те силы, которыми ты наделен. Ты сам понимаешь, что все это не во благо, а во искушение. Слишком многими чудесными свойствами одарен ты, чтобы легко смирить неуязвимую свою плоть и безмерную гордыню. Держи же свойства свои в тайне и пользуйся ими лишь при крайней необходимости, коль скоро совсем без того обойтись невозможно.
Несомненно, однако, и то, что Бог попустил тебя стать таким, какой ты есть. И вправду, если по благодати Его среди людей красивые отличаются от безобразных, а талантливые от тупоумных, то и силы Продленных, их от Кратких отличающие — не благодатью ли Божией даны? Если Он любое зло может обратить во благо, то, может быть, и состояние ваше для непостижимых Его планов полезно? Может быть, через вас хотел Он показать жестоковыйному человечеству, ропщущему на Него за наказание смертью, что и обладание неуязвимым телом не может поднять нас до Его уровня? Или силы ваши намерен Он был противопоставить силам сынов Тьмы? Я не знаю, но несомненно, что одним Бог заповедал одно, другим — другое, в соответствии с условиями времени. Однако вне зависимости от времени, правда одна и путь у нас один — путь совершенства.
Итак, какую бы жизнь не выбрал ты — анахорета или киновийную, ты должен соблюдать принятые обеты, мир же да станет для тебя пустыней. Даже если увлекут непреодолимые внешние обстоятельства, ты должен вести сокровенную жизнь инока, уповая на милосердие Божие, да предопределит Он тебя ко спасению!..
В сих обетах пребывати обещаешися ли даже до конца живота, когда и как бы не настал он?
— Ей, честный отче.
— Брат наш Варнава постригает власы главы своея во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа… Память святого твоего небесного хранителя апостола Варнавы, брата твоего по плоти, празднуется месяца июня одиннадцатого.
— Ей, честный отче.
Эпизод 10
Он стоял, по колено увязнув в грязи, и смотрел на уходящие воды. Не хотел оглядываться: знал, что ожидает его глаза. Но пришлось. Подавив в себе эмоции, внешне равнодушно окинул взглядом гороподобные гряды грязи, остатки строений, растений, мебели, фрагменты людей и зверей. Все это было перемешано так, что уже почти составляло единство, и мало чем отличалось от липкой слякоти, заполонившей весь мир. Лишь угадывалось, что вот этот вязкий сгусток, должно быть, был девичьим бедром, эта сочащаяся влагой глыба — какой-то статуей. Вот, кажется, труп младенца… А может быть, часть фаллического символа, какими в Генохии отмечались публичные дома и храмы. Какая теперь разница?..
«Во ад с душею, яко Бог, сошедый, и в рай разбойника с Собою введый, помяни и ныне раб Твоих, преступлением многим Тя прогневавших».
Он бы и рад был никогда не видеть этого кошмара, но должен был начать отсюда, с молитвы за всех этих наказанных грешников, и идти дальше. Варнава строил Ветвь, которая пройдет как можно ближе к Стволу, в точности повторяя события в нем. Намерен был создать для себя обитель, и никогда не покидать ее, служа Тому, Кому отдал свое имя и готов был отдать жизнь. Он — монах, а это — его монастырь, вне которого останется его прошлое, ярость и похоть, и безумная гордыня. Пусть Древо тянется Ветвями во все стороны, но Ствол произрастает к концу, и он, Варнава, в своей Ветви станет его попутчиком, вместе с ней войдя в пугающую и манящую Крону.
И еще — здесь никогда не будет Луны…
Закончив канон, он стал искать место посуше, чтобы присесть и согреть тело огнем.
Сунь был уже в полном порядке, однако с осторожностью, воспитанной долгой жизнью, отнюдь того не показывал — сидел и сидел, прислонясь к камню, опустив голову на грудь. Но видел и слышал все. Память его сохраняла последние перед пленением события — провал игры, скоротечный бой, забытое чувство ликующего выплеска энергии, посох, раз за разом наносящий врагам смертельные удары. А потом ревущий огненный вихрь опутал его, сбил с ног, и борьба завершилась. Но горечь поражения сразу же отступила — он был слишком обезьяной, чтобы предаваться сожалениям о прошлом, и недостаточно человеком, чтобы предполагать в них пользу.
Откуда-то знал, что исцелил его Мао, потому испытывал благодарность и гордость, однако и эти чувства не очень влияли на его актуальное состояние. Был готов действовать, но выжидал дальнейшего развития событий. Тем более что ждать оставалось недолго: из мрачного проема Башни на белый свет вышли Варнава и Дый.
Стояли неподалеку от него спокойно, но Сунь ощущал сгущающуюся закваску бурных событий, имеющих вот-вот случиться. Начал Дый:
— Ну, что молчишь, ничего не спрашиваешь? Или думаешь, я пошутил?
— Даже тебя я не считаю способным на столь идиотские шутки, — на лице Варнавы сложно было что-либо прочитать, но Сунь чувствовал исходящее от него страшное, жаждущее выхода напряжение. — Ну, хорошо, спрашиваю. Как это должно произойти?
— Мне помогут.
Варнава вопросительно посмотрел на него, не дождавшись продолжения, заговорил сам:
— Вижу, мне опять придется спрашивать. Хорошо: кто?
— Ты.
— Я, знаешь ли, догадывался, что не просто так меня мытаришь. И что же, по-твоему, должен я учинить разрушения Древа ради?
— Дозволь растянуть удовольствие и подвести постепенно. Да и в двух словах не расскажешь.
Дый подошел к валуну, значительно меньше того, к какому был прикован Сунь, сел:
— Давай, милок, садись, в ногах-то правды нет, — он хлопнул ладонью рядом с собой.
— Спасибо, постою, — холодно отозвался Варнава.
— Ну, как знаешь, — Дый потянулся всем телом, кольчуга мелодично звякнула. — Об этом я задумывался давно, так давно, что сам плохо помню. Прикидывал и так, и эдак, пытался сделать чего-то, вон, в Ветвях целую империю себе создал. А все не то. Несолидно как — то. И тут до меня дошло… Это же просто, как Краткого прикончить: если тебя не устраивают правила, устанавливай свои.
— Интересная идея, только в твоем случае не вижу практического применения, — усмехнулся стоящий над Дыем Варнава.
— Вот и я не видел. Но чувствовал, что вариант есть. Мучился, искал, глаз даже ради этого отдал.
— Ага, наслышан…
— Чему ты там наслышан! — Дый пренебрежительно махнул рукой. — То, что Краткие друг дружке рассказывают — такая муйня… Впрочем, и там зерно — да, я принес жертву и получил совет.
— Во Тьме, — это не было вопросом.
— Ну конечно, — Дый энергично кивнул головой. — А какие еще в Древе сем источники информации, если с твоим Хозяином я отношения разорвал раз и навсегда?
— Он с тобой не разрывал…
— Ты лучше слушай! — вызверился Дый, но тут же остыл. — Способ оказался дурацким, но элементарным, как амеба — принести в жертву Тьме самого себя.
— Не сказать, что так уж просто… — Варнава сказал это совершенно серьезно.
Дый кивнул.
— Конечно, не до конца, но чтобы кровь пролилась обильно. Подсказано мне было, где найти Ясень, — он кивнул головою на Башню, — и что с ним делать.
— Пригвоздить себя к нему копьем? — уточнил Варнава.
Несмотря на уверения Дыя, он достаточно серьезно относился к мифологии Кратких.
— Что-то вроде того… — согласился див. — На тонком уровне это выглядит по-другому, но если смотреть из Древа, именно — приколоться копьем. «А дальше что?», — спросил я своего советчика, который за свои советы да вкусный медок высосал мне глаз, — тут Дый поморщился. — «А дальше сам поймешь», — проскрипело это создание и вернулось домой. И я понял — когда сделал все как надо, — голос дива чуть дрогнул. — Не очень приятная процедура, доложу я тебе… Ну да ладно. Руны я увидал. Огненные руны перед взором сложились, и все понял я.
Дый вдруг замолк. Сунь удивился, что, тому, кажется, не хватает слов. А может, он колебался перед тем, как перейти к сути.
— По идее, — голос был тих, — Шамбала — просто сгусток Тьмы, и во Древе существовать не может. Тем не менее, моя кровь дала ей квазижизнь. Но именно в силу своей небытийности Шамбала пронизывает все Древо. И даже влияет на него. Во всяком случае…
Он опять замолк, словно подбирая слова, продолжил резко:
— В общем, создала ее моя кровь, и она же, но в третьем поколении, может разрушить все Древо. Не спрашивай, почему, я и сам не знаю. Так что, если к Ясеню пригвоздить копьем дитя моего отпрыска — Древу конец… Не кричи, что это невозможно. Так оно и есть, поверь. И это дает мне шанс: если мой внук умрет на Ясене — а он, в отличие от меня, должен будет умереть — останутся какие-то обломки Древа, какие-то оторванные Ветви, и — Шамбала, контролирующая эти руины. Тогда я строю новое Древо, с иными законами. И становлюсь Хозяином не только Древа, но и Тьмы меж Ветвей.
— А я, какое я отношение имею к этому бреду? — отчаянно вопросил Варнава, измученный дурным предчувствием.
— Ты — мой сын, — разом выдохнул Дый.
В обрушившемся молчании Сунь почуял такой сгусток гнева, боли и отвращения, что передернулся. К счастью, Дый, в упор глядевший на оцепеневшего Варнаву, заметить этого не мог. Царь обезьян понял, что события вот-вот понесутся вскачь. Но не тотчас.
— Повтори, — прохрипел, наконец, монах.
— Ты — мой сын, — послушно повторил див. — Я не заходил в Ствол для твоего зачатия, только достал яйцеклетку твоей матери и оплодотворил своим семенем. А потом вернул назад. Ты — мой сын, рожденный в Стволе. Второй сын в семье богатых киприотов, бежавших из Ершалаима от Ирода, названный Иегошуа и позже прозванный Варавва, Сын разрушения…
Варнава схватился за голову. Сквозь судорожно сведенные губы доносилось мычание. Упал на колени, поднял искаженное лицо к небу.
— Луна-а-а-а! — вышел из него страшный крик.
Сунь, сам болезненно сжавшийся от трагизма происходящего, вдруг осознал, что Дый смотрит на страдания пленника почти жалостливо.
— Да, Луна… — печально уронил старый див. — Все дело в Луне. Вернее, в тебе с Луной.
— Она знала? — глухо спросил Варнава, опустив лицо, но не поднимаясь с колен.
— Не знала и не знает, — уверил Дый. — Все придумал я один, если тебе от этого легче.
— Зачем? Зачем?..
— Ты знаешь, что инцестуальные связи безопасны для сильных генов перволюдей, наоборот, такой инцест должен усилить свойства моей крови. Твой и Луны ребенок на Ясене — это конец Древа. Только не думай, что мне легко было решиться на это…
— Ты — сам Тьма!
Варнава уже не кричал, но глухой голос был преисполнен тоски.
Но теперь закричал Дый:
— Я не Тьма, а бог! Я должен им быть! Я им буду! — куцые вопли словно с силой выталкивались кем-то из темной пещеры рта в перепутанных зарослях волос. — Это предопределено. Даже Краткие знают: говорят, на севере возникнет мое могущество. Шамбала — это Север, слыхал ли? И не меня ли зовут они Дьяушпитаром — Светозарным отцом?
Варнава молчал. Коленопреклоненная поза и опущенная голова создавали впечатление молитвы. Но Сунь не был уверен, что его ученик молится. Сам он, зная семейные обстоятельства Мао, был разгневан до глубины души — при его ханьском воспитании одна мысль об инцесте вызывала отвращение. «Какой ужасный беспорядок, — возмущенно думал он. — Отвратительное смешение! Этот демон поистине задумал нарушить вселенскую гармонию…» Он был готов вскочить и на месте покарать старого негодяя, но первый ход в этой игре принадлежал его ученику.
Между тем Дый методично раскрывал карты. Самое трудное было уже сказано, теперь речь его вновь стала легкой и насмешливой:
— Короче, сынок, намерен я поглотить всех богов Древа сего и само Древо, став в своей троичности единым.
Варнава поднял голову и поглядел на врага как на сумасшедшего. Возможно, во взгляде этом и вправду присутствовала надежда на безумие Дыя.
— Тщетно ин алтарь учреждаешь, — проговорил он, внимательно глядя на дива.
Однако тот был полон воодушевления:
— Не я учреждаю, а нам его учредят. Мне — отцу, и сыну, и жене их!
— Замолкни!
— Истинно так. Ты думаешь, почему я с тобой столько Ветвей мучаюсь? Я тебя, сыночек, конечно, люблю, но не до такой степени, чтобы не убить, если ты меня сильно достанешь. А доставал оч-чень, бывало. Вот там, на площади, слишком уж резво на меня бросился, чуть не прикончил… Но не для того я в Стволе тебя пестовал, чтобы вот так просто убить. А для того, чтобы ты подлинным дивом стал. В Ветвях дивы, знаешь ли, не рождаются. А ты вообще уникум — прошел через Зону. Без тебя у меня, пожалуй, и не получится ничего, во всяком случае, гораздо труднее будет.
— А Скорпион что же?
Варнава спросил это почти равнодушно, но Сунь порадовался, что ученик не утратил любопытства от свалившегося на него горя.
— А-а-а, Скорпион, — протянул Дый, — так я ж просто хотел вас с Дианкой шугануть из той Ветви, да и вообще ее прикрыть, засиделись вы там, романтика зашевелилась всякая пошлая… Но тут ты появился не вовремя… Не-ет, сынок, твоя жизнь мне дорога, даже очень.
— Почему?
— Так сказал же — троичность.
— Теперь вспомнил, — неохотно проговорил Варнава. — «На самом низком из престолов сидит конунг, а имя ему — Высокий. На среднем троне сидит Равновысокий, а на самом высоком — Третий»…
— Во-во, — обрадовано закричал Дый. — Ты Равновысокий и есть!