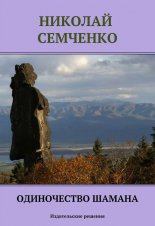Люба Украина. Долгий путь к себе Бахревский Владислав

При Владиславе IV состав сената особенно не изменился. Звание сенатора получили епископ смоленский и черниговский каштелян Адам Кисель.
И вот стоял сотник Хмельницкий в кольце золоченых кресел, и люди, занимавшие в этих креслах места — старые, молодые, важные и очень важные, сонные и сверлящие глазами, — были уже не людьми, а неким чудищем, нареченным тяжелым словом — Власть.
— Подстароста чигиринский, — начал говорить Богдан и услышал вместо голоса один только сип, прокашлялся в кулак. — Подстароста чигиринский пан Чаплинский нанес мне многие обиды. Отнял хутор Суботов, пожалованный гетманом Конецпольским моему отцу Михаилу Хмельницкому. Пан Чаплинский засек моего сына до смерти и силой увез мою жену. — Подумал, что надо бы сказать о том, как сожгли предательски грамоту на владение хутором, как пытались убить в бою, как подстроили засаду на поединке, но ведь скажут: докажи!
— Пан Хмельницкий, у вас все? — спросил король.
— Все, ваше величество.
Долго, страстно говорил пан Чаплинский.
«Я-то что же сплоховал? — думал Богдан. — Надо б тоже слюной брызгать. Ишь мерзавец, выставляет себя радетелем государственных интересов».
Когда дошло до сути дела, Чаплинский поубавил пыл, каждое слово его было вымерено и взвешено заранее:
— Хутор Суботов принадлежал староству, и я возвратил его. Пан староста определил выдать пану Хмельницкому пятьдесят флоринов за те постройки, которые были возведены на хуторе отцом и сыном Хмельницкими. Еще раз повторяю: я сделал то, что на моем месте совершил бы любой рачительный человек, находящийся на службе Речи Посполитой, для которого интересы Речи Посполитой превыше всего.
Суд объявил решение по первому вопросу:
— Пусть пан Хмельницкий сам себе припишет потерю хутора, потому что он не запасся форменным свидетельством на владение, ибо не всякий владелец вещи есть ее господин. Пану Хмельницкому остается прибегнуть к милосердию старосты чигиринского и просить, чтобы он, если пожелает, утвердил распоряжение своего отца, Станислава Конецпольского, и выдал форменное свидетельство.
— Сын пана Хмельницкого жив-здоров, — отвел от себя второе обвинение пан Чаплинский. — Его высек не я, а пан Комаровский. Высек за то, что этот молокосос посмел оскорбить меня, подстаросту, когда я находился при исполнении королевской службы.
— Сын жив, — согласился Хмельницкий, — но его еле выходили. Сын оскорбил пана Чаплинского, защищая дом от разбоя.
— Но сын ваш жив? — уточнили судьи.
— Жив.
— Что касается жены пана Хмельницкого, — явно повеселев, отвечал пан Чаплинский суду сенаторов, — то эта женщина не была его женою. Он насильно держал ее у себя. Оттого-то она так легко оставила пана Хмельницкого. Она мне понравилась, и я соединился с нею по обряду римско-католической церкви. Моя законная жена приняла римско-католическое вероисповедание, и поэтому никто не заставит меня отпустить ее от себя. Да если бы я и сделал это, то она сама не захочет ни за что на свете воротиться к пану Хмельницкому.
Рассказ вызвал смешки, и суд обратился к Хмельницкому с увещеванием:
— Охота тебе, пан Хмельницкий, жалеть о такой женщине. На белом свете много красавиц получше. Поищи себе другую, а эта пусть остается с тем, к кому привязалась.
«Как он взовьется, старый дурень, — искоса поглядывая на Хмельницкого, злорадствовал пан Чаплинский, — когда наконец узнает, что его краля молит Бога в обители за наши грехи».
Тем и закончился суд сенаторов по иску чигиринского сотника пана Хмельницкого на чигиринского подстаросту пана Чаплинского.
6
Сидели впотьмах. Гунцель хотел зажечь свечу, но Богдан, морщась, как от зубной боли, попросил:
— Не надо! Дай ковш воды. Злое нынче у меня сердце. Такое злое, что и вина не хочется. Хочется, чтоб казнила меня, корежила эта неизбывная злоба.
Гунцель принес воды:
— Пей, Зиновий. Тебе бы выспаться.
Богдан залпом выпил воду.
— О, какое это было бы облегчение — заснуть. Так ведь нет его, сна. А если ты спать хочешь, то прошу тебя, не уходи. Посиди со мной. Одному быть невмоготу. Пойми, Гунцель. Сунула меня беда головой в сточную яму и — вот ведь диво! — не запачкала, а только содрала коросту, в которой всю жизнь прожил, как в броне от чужой напасти. А какая же она чужая, когда это беда твоего родного народа. Принеси-ка еще ковшик, я тебе такое скажу, что и сам себе не говаривал.
Гунцель принес воду. Богдан отпивал из ковша малыми глотками и говорил тихо, печально:
— Человек от природы — подлец. Что я, не видел, что ли, как измываются ляхи и наши реестровые над простым людом? Видел, а верой и правдой служил на благо шляхте потому что самому кусок с того стола неправого перепадал. Не больно жирный кусок, но его хватало, чтоб глаза поросячьим жирком затягивало, чтоб уши крика народного не слышали. А вот теперь, когда сунули между дверьми и прищемили хвост, в колечко загнутый, вспомнил о народе. Сам-то за себя постоять не сумел. И одна теперь надежда — на свой народ… Его еще поднять нужно. Так ведь и поднимется! Ясновельможные паны мне тут в помощь, еще один налог придумали. Слушай меня, Гунцель, слушай! Не раз еще в Варшаве поперхнутся, меня вспоминая. Сенаторы! Чего им сотник? Посмеялись над бедой и забыли. А я гвоздем пришибу их память к своему кресту. Они меня и в десятом поколении помнить будут. Был я — букашкой, сотником, а теперь я и вовсе растворюсь, стану безымянной бучей. Ты веришь мне, Гунцель, друг мой? Довольно я дрожал за свою благополучную жизнь, за суконный кунтуш, за сытый стол. Да, положа руку на сердце, скажи, стоило ли ради этого небо коптить? Вот увидишь, Гунцель, я проживу другую жизнь. Может, и короткую, но не ради своего брюха. И уж в ней будет больше проку, чем в тех пятидесяти двух, которые я успел проскрипеть.
Богдан допил последние крохи воды и замолчал.
— Выговорился, Зиновий? Теперь уснешь.
— Усну, — согласился Богдан. — Крепко усну.
7
Он увидел свечу. Ее несли к нему, то ли по какому-то бесконечному коридору, то ли поднимали снизу, из бездны колодца. Он следил за свечой, не двигаясь. Даже радовался, что свеча далеко, знал — надо успеть набраться сил. Свинцовая тяжесть не уходила из тела, и он заранее горевал, что свеча приблизится и поднимет его, когда он не успеет вылежаться до утренней бодрости.
Свеча подошла.
— Зиновий! Вставай, Зиновий!
— Но разве утро? — спросил Богдан ровным голосом, притворяясь, что проснулся.
— Зиновий, проснись! Тебя ожидает король!
— Король? — Богдан сел.
— Скорее, за тобой прислали экипаж! — шепотом сказал Гунцель.
Богдан отер ладонями лицо. Встал.
В карете уже сидел кто-то.
— Здравствуйте, пан Хмельницкий!
— Здравствуйте! — ответил сотник, хватаясь за сиденье: лошади рванули дружно и рьяно.
— Вы меня, наверное, не знаете. Я редко бываю в Польше. Я — брат его величества, Ян Казимир.
— Ваше высочество, за что мне такая честь?! — изумился Богдан.
— За вас ходатайствовал пан Адам Кисель. Его величество знает вас и ценит.
— Его величество присутствовал во время суда, в котором я проиграл, — обронил Богдан.
— Участь короля Речи Посполитой — горькая участь, — сказал Ян Казимир. — Вы знаете, какую клятву дает король шляхте, вступая на престол? Каждый ее пункт унизителен. Король клянется не присваивать коронных имений, он должен жить на доходы с одних только поместий для королевских особ. Он не смеет покупать для себя и клянется не иметь в Речи Посполитой ни одной пяди земли. Без согласия сейма королю не позволено набирать войска. Он не имеет права взять под стражу шляхтича ни за какие преступления, если минует по совершению преступления двадцать четыре часа. Королю запрещено объявлять войну и даже посылать послов без согласия республики. Королю навязано иметь при себе неотлучно трех сенаторов, которые должны следить за его поступками, чтоб они не клонились во вред Речи Посполитой. Без согласия сената король не может вступить в брак, ему не позволено заключать договоры. Выехать за границу, не спросившись сената, он тоже не имеет права. Король обделен возможностью жаловать дворянством людей подлых ни за какие заслуги, исключая оказанных Речи Посполитой, и обязательно с согласия сейма. Вот что такое король польский!
— Я человек маленький, не мне судить о столь высоких материях, — сказал Богдан, подстраиваясь под настроение Яна Казимира, — но с моей колокольни — все эти вольности шляхты обернутся когда-нибудь против нее же самой.
— Боюсь, что не потомки, а уже мы с вами станем свидетелями развала столь замечательного здания, каким является Речь Посполитая. Я заранее скорблю об этих неминучих временах. Речь Посполитая — уникальное государство на обозримой ниве истории. Вот хотя бы казачество, которое является одним из звеньев республики. Сам я плохо знаю казаков и весь этот вопрос. Расскажите мне о казаках.
— А что же рассказать? Казаки многим недовольны, но терпят.
— Неужели в жизни казаков нет ничего светлого?
— Молодость светла да еще Вырий.
— Вырий? Что это такое?
— Сказка. У нас в народе Вырием зовут страну птиц. В этой стране и тепло, и светло. Туда летят птицы по осени. Гады еще туда ползут, каким дорога не заказана. Тот гад, который укусил человека ли, животину ли, остается зимовать. Первой летит кукушка. У нее ключи от Вырия, потому и прилетает она весной — последняя.
— Красиво! — Ян Казимир улыбнулся. — Я заметил, что украинцы любят и ценят красивое. И очень хорошо поют, щемяще хорошо.
— Оттого и щемяще, что за одной напастью другая стоит в очередь. Эх, капельку бы везения моему народу!
— Я убежден, его величество выслушает вас с пониманием, — сказал Ян Казимир.
8
Ночь была на исходе, когда двое королевских слуг проводили Хмельницкого в летний садовый павильон, почему-то предупредив:
— Король готовится к охоте.
— Я собираюсь нынче позабавить себя охотой, — сказал король казаку, положив одну руку на эфес сабли, а другой показывая на ружья, стоящие у стены.
Это была неправда. Владислав не собирался на охоту, он не мог заснуть. Силы покидали его, как покинул его спасительный сон.
— Не правда ли, этот мой парк очень хорош для охоты? — Король стоял к Хмельницкому вполоборота, и на пожелтевшем лице его улыбка выглядела нездешней птицей, измученной дальним полетом. — Мой отец любил итальянские сады. Он сам разводил их возле Кракова и здесь, под Варшавой, в Непоренте. Ты не видел эти сады?
— Нет, — сказал Хмельницкий.
— Очень жаль. — Король подошел к окну, поднял штору. — Светает. У тебя есть дети?.. Ах да! Конечно, есть. Твоего сына чуть было не засекли. Я помню. Я все помню. Ты счастливый человек, у тебя есть сын. А у меня теперь нет сына… О, если бы не это несчастье! Ради того чтобы моего сына после меня избрали на престол, я пошел на поводу у сейма. Сейм потребовал распустить войско, и я был послушен, хотя мог купить всего один голос и наложить «вето» на решение сейма. Ходи прямыми дорогами, пан Хмельницкий, тогда хоть казнить себя будет не за что. Подойди сюда.
Хмельницкий подошел к окну.
— Видишь? — шепотом спросил король.
В сумеречном пятнистом свете непроснувшегося утра между старыми дубами, похожими на атлантов, бесшумно двигалось стадо оленей.
— Олени, ваше величество! — сказал Хмельницкий.
— Их более полутора тысяч в моем парке.
Король был рядом, до него можно было дотронуться. В золотистых волосах его светились голубые пряди седины. На щеках сквозь желтизну пробивался румянец, но лицо это было отцветшее.
— Мне известно твое чистое сердце, — сказал Владислав, прослеживая взглядом уходящих оленей. — Я помню твою службу.
Отвернулся от окна, зашагал по просторному павильону туда-обратно.
— Уверен, твое дело правое, но твой иск не подтвержден формальным документом.
— У меня был документ, ваше величество! Его у меня выманили и сожгли.
— Выманили и сожгли? — король остановился, обдумывая то, что услышал. — Но ведь документа нет, и потому ты ничего не выиграешь судебным порядком. Я вижу: пан Чаплинский не прав, у него в свою очередь тоже нет надлежащих доказательств. И потом, он сделал тебе насилие… — Король пристально, не мигая посмотрел в лицо Хмельницкому. Сказал глухо, убежденно: — Силе следует противопоставить силу. Если Чаплинский нашел себе приятелей, и ты можешь найти. — Вдруг вскричал: — Знаю! Знаю я и об утеснениях казаков, но помочь вам не в силах! — И совершенно рассердился, глаза сверкнули молодым синим огнем: — Пора бы, кажется, всем вам вспомнить, что вы — воины, что у вас есть сабли. Кто вам запрещает постоять за себя? — Король положил руку на эфес и, глядя Хмельницкому в глаза, сказал, налегая на каждое слово: — Я со своей стороны всегда буду вашим благодетелем.
«Ничего-то он не может», — подумал Богдан.
9
Маркиз де Брежи, посланник Франции при дворе Владислава IV, нанес канцлеру Оссолинскому неофициальный визит.
— Я хочу показать вам копию одного письма. — Де Брежи суетливо достал с груди надушенный платок и осторожно развернул его. — С моей стороны это большой риск, но…
Смущение на лице маркиза было вполне правдоподобное.
Оссолинский взял лист, поднял брови.
— Здесь только часть письма! — поспешил объяснить де Брежи.
Оссолинский прочитал: «Сейм распущен… Проекты короля относительно войны весьма встревожили республику. Если бы он не отказался от своих намерений, никогда бы мои дела не кончились. Я переговорила с представителями сейма утром, и в два часа все голоса единодушно были на моей стороне. Мне назначили ренту в четыреста тысяч ливров. Не считая доходов по мере надобности. Трудно себе представить, какая прекрасная вещь партии в этом государстве».
— Кому адресовано это письмо?
— Кардиналу Мазарини!
Оссолинский посмотрел в глаза маркизу: что будет просить за шпионаж против королевы?
Де Брежи выдержал взгляд канцлера.
— В моем положении откровенность — единственный достойный выход. Нам с вами доподлинно известно: Мария де Невер получила корону из рук Мазарини, но вы представить себе не можете, что она сказала мне, узнав о моем донесении монсеньору. Я осмелился назвать независимость королевы не столько легкомысленной, сколько преступной. Она вызвала меня к себе и заявила: «Если вы, в качестве посланника, расценили мою деятельность на благо Речи Посполитой, я вам отвечу как королева: «Я никогда не воображала быть в зависимости от какой бы то ни было короны».
— Слова, достойные королевы!
Щеки до Брежи налились краской.
— Черт меня побери! Королева думала не о Польше, а о своем приданом.
На этот раз мир уберегла женская расчетливость. Король Владислав на паях с кардиналом Мазарини затевал священную войну с Турцией. В союз приглашали Россию, Молдавию, Валахию…
Владислав войско нанял на приданое королевы, сначала взял часть его, а вот когда он вознамерился вычерпать все до последнего ливра, королева вошла в сговор с сенатом и шляхтой, и королю приказали распустить наемников.
— У всех были свои интересы и своя корысть, — сказал Оссолинский, поднимаясь, а стало быть, заканчивая разговор, — но мы должны признать, что королева уберегла мир от большой войны. Разве это не похвально?
У де Брежи лицо вытянулось.
— Вы тоже на стороне королевы?
— Успокойтесь, маркиз! Королева провалила мою политику. Она новый человек в Речи Посполитой и не видит того, что ясно каждому трезвомыслящему поляку. Речь Посполитая ныне представляет собою человека, у которого от долгого бездействия по всему телу пошли пролежни. Однако я не потерял надежды стащить этого человека с его пуховика. Так и передайте его высокопреосвященству: Оссолинский знает способ начать войну с Турцией. И еще передайте: нам известно, что хлопоты его высокопреосвященства в пользу Марии де Невер были не вполне бескорыстны. Она сторонница Фронды. Разумеется, не это надо передать кардиналу Мазарини, передайте ему нашу глубокую благодарность: монсеньор сделал лучший выбор. Речь Посполитая получила достойную королеву. Я убежден: будущее подтвердит правоту моих слов.
Маркиз де Брежи откланялся.
Канцлер вызвал секретаря, попросил доложить о делах и времяпрепровождении королевы.
Ответ был краток:
— Их величество берет уроки польского языка и слушает сказки.
10
Королева слушала польские сказки.
В удобном кресле, слегка запрокинув голову, она смотрела через раскрытые окна на темную, ожидающую осени листву сада, временами обращая большие блестящие глаза на рассказчицу, поощрительно улыбаясь ей или даря взгляд то милой мадам Гебриан, то воздушному созданию, любимице своей герцогине де Круа. Королеве нравилось, что де Круа, которой едва минуло четырнадцать, слушает сказки и ради сказок, и ради познания новой страны. Герцогиня была очень серьезна и прилежна. В Париже ей было сказано: она отправляется в Польшу ради того, чтобы искать и найти мужа, который располагал бы состоянием, достойным ее титулов. Отец герцогини, гвардейский капитан Анри де ла Гранж д’Аркиен, всю жизнь нуждался в средствах.
В тот день рассказчицей была пани Четвертинская. Королева слышала, что ее муж чрезмерно богат и чудовищно толст.
— Жил на белом свете Янек, — рассказывала пани Четвертинская, привычно и ловко вышивая иглой затейливый узор на покрывале. — Услыхал он от одной старухи сказку про цветок папоротника. Будто на Иванову ночь распускается одной всего звездочкой один-разъединственный куст. Цветок тот и мал, и не больно виден из себя, но стоит его сорвать, изведаешь чудо, и власть, и богатство. Всякое слово и желание исполнятся тотчас. Да вот беда: дается в руки цветок не первому встречному. У старика он в прах рассыпается, а у кого совесть нечиста, тому и погляд воспрещен. И подумалось Янеку: «Коли я чист перед Богом и перед людьми, коли молод и до старости мне далеко, не упущу своего, завладею цветком».
Пани Четвертинская замолчала, разглядывая узор, а королева, прикрыв глаза, подумала о себе: «Вот и я искала свой цветок, не отступалась и нашла».
Мария де Гонзаг, герцогиня Неверская, принцесса Мантуанская — она от рождения имела все блага земные, кроме счастья.
Когда ей было восемнадцать, влюбленный без памяти Гастон Орлеанский готовил для нее побег из дома, но Ришелье, считавший сей брачный союз неприемлемым, заключил Марию в Венсенскую башню. Не странно ли, что в этой самой башне приблизительно в те же годы сидел брат ее венценосного мужа, этот неистовый Ян Казимир.
Тайная любовь с Сен-Маром оборвалась трагически. Любимый жизнь закончил на эшафоте. Не Господне ли наказание эта страшная смерть?
Ей было немногим больше двадцати, когда она, похоронив отца, сумела завладеть герцогством Невер, предложив сестрам судьбу бесприданниц или почетное монашество. Младшая — Бенедикта — покорилась и умерла монахиней, старшая — Анна — обвенчалась с де Гизом и была счастлива. И это счастье царапало сердце Марии де Невер.
— …Идет Янек по лесу. Сосны в небо упираются. Глядь — колода на дороге. Полез Янек через колоду, словно на гору какую, перелез, оглянулся, а поперек тропы всего-то бревнышко, дитя перешагнет.
«Мазарини! — улыбнулась королева. — Во Франции он был для меня горой».
Когда умерла жена Владислава IV Цецилия Австрийская, поляки послали сватов к принцессам де Гиз и Де Лонгвиль.
И она, явная противница Мазарини, пекшаяся о делах Фронды, сама нанесла ему визит. С Мазарини можно было говорить коротким языком фактов. После их встречи маркиз де Брежи побывал у знаменитых астрологов, и небо открыло ему: Марии де Гонзаг суждено быть королевой.
— …Очнулся Янек в хате на лавке. Мать в слезах. Рассказала, что нашла его в лесу чуть живого.
«Как хорошо рассказывает эта немолодая полька, — подумала королева, — она сопереживает каждому своему слову… Янек очнулся. А вот очнулась ли я?»
На щеках королевы выступил румянец: заговорила кровь отца, сына Генриетты Клевской, внука Палеологов. От малейшей досады огненный вихрь выступал на его коже, королева же вспомнила свое прибытие в Польшу.
Первый карантин ей устроили в Данциге. Больше недели ожидала она здесь разрешения следовать в глубь страны.
Вторым карантином ее угостили в двух милях от Варшавы, в замке Фагенты. Еще одна нелепая неделя, и наконец торжественная встреча в соборе Святого Иоанна. Но какая! Когда она опустилась перед королем на колени, тот словно бы и не заметил ее: глаза блуждающие, тусклые. Руки не протянул, приличия хотя бы ради, помочь подняться женщине.
Вечером, за ужином, его величество объяснил свое поведение приступом подагры. Но ведь были еще письма из Франции с клеветой, будто у нее есть пятилетний сын…
Королева улыбнулась Четвертинской, ловя нить сказки.
— …Дворец у него белокаменный. В саду деревья растут невиданные. Слуги ему служат ловкие да речистые. Послушал их Янек и узнал, что нет человека пригожее, умнее, добрее, чем он… И вспомнил он дом родной, матушку свою болезную. Послать бы отцу-матери горсть монет, которых у него полны сундуки, землицы купить, лошадь, корову. А нельзя! Ведь сказал цветок, врастая ему в сердце: поделишься счастьем — все потеряешь.
«Не доверяют поляки волшебному счастью», — королева посмотрела на де Круа и улыбнулась ей.
Его величество уже заметил девочку. Королеве донесли о занимательном разговоре между ними:
«Ваше величество, вы, по-видимому, делаете мне честь говорить со мною по-польски. К сожалению, я этого языка еще не понимаю». — «Но мне показалось, что вы все понимали, беседуя с господином Красинским!» — «Господин Красинский не король. Надо быть королевой, чтобы понимать королей. Если ваше величество согласно, я попрошу королеву объяснить мне смысл ваших слов».
У девочки есть ум и красота, а главное — терпение. Счастья нужно уметь дождаться.
— …Повернулся он к матери спиной, сел в карету и уехал!.. — Пани Четвертинская тяжело вздохнула. — А на следующий год опять приехал. Смотрит: все по-старому. Ворота покосились, крыша замшела, крыльцо сгнило. Собака лает на него, не пускает к дому. «Где матушка?» — спрашивает Янек братишку своего. «Хворает». — «Где отец?» — «В могиле».
Собака в ноги подкатилась, укусить норовит. Вошел в хату — мать на кровати лежит, стонет. Поглядела на сына родного, не узнала.
Сунул Янек руку в карман, золотые монеты звенят. В голове мыслишка сверлит: «Матери все равно не поможешь. Дни ее сочтены. А у меня вся жизнь еще впереди».
Выбежал опрометью из хаты и укатил в карете к своим богатствам несметным. Да только нет ему покоя. И сказал себе Янек: «Будь что будет, надо мать родную выручать из нужды».
Помчался в деревню. Вот и хата. А людей не видно. Дверь колышком подперта. Заглянул в окно — в хате ни души. Какой-то нищий сказал ему: «Нету здесь никого. Перемерли все от голода».
Застонало сердце у Янека: «По моей вине родные сгинули. Сгину и я!»
Только сказал, земля расступилась и поглотила Янека и цветок его злосчастный».
— Какая печальная сказка! — воскликнула де Круа.
— Да уж такая вот! — пани Четвертинская посмотрела на королеву.
— Я думаю, что это замечательная сказка, — сказала королева. — Быть счастливым, когда все вокруг бедствуют, — невозможно. А того, кто живет ради себя одного, поглотит земля. Я благодарю вас, пани Четвертинская! Его величество без памяти любит все польское. Слушая польские сказки, я учу мое сердце биться по-польски. Так хочется облегчить страдания его величества.
Смерть малолетнего сына выбила из-под ног короля саму твердь. Он молился, плакал, не спал ночами, а маркиз де Брежи сделал в эти дни и такую запись: «Его величество изволил купаться в дамском обществе».
11
В день отъезда из Варшавы сотника Хмельницкого пригасил для беседы канцлер Оссолинский.
— Мы хотим видеть вас гетманом над казаками. — Эту фразу Оссолинский сказал вместо приветствия и тотчас изложил суть дела. — Вернувшись домой, готовьтесь к походу на Турцию. Не позднее как через месяц вам доставят деньги на оружие и на плату казакам. Вы потеряли хутор, но приобрели войско.
— Как все непросто в нашем государстве, — искренне удивился Хмельницкий. — Король не имеет силы вернуть мне права на мой собственный хутор, но он же дает мне деньги, на которые можно купить войско, способное разорить десяток городов.
— Все мы — дети Речи Посполитой, — сказал канцлер. — Сумеете ли вы, пан Хмельницкий, собрать войско втайне от комиссара Шемберга и коронного гетмана Потоцкого?
— Думаю, что рано или поздно они узнают о моих действиях, но постараюсь, чтоб они узнали о них как можно позже.
— Я доволен вашим ответом.
— Позвольте, ваша милость, и мне задать один вопрос… Будут ли деньги в назначенный срок, ибо если дело затевать всерьез, то уже теперь я должен позаботиться о приобретении оружия для моего войска.
— Я еще раз убеждаюсь, что, остановив свой выбор на вас, король, как всегда, поступил мудро. Деньги я привезу сам.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
«Львов — замк на дверях Речи Посполитой. Если подобрать к нему ключи — дверь вышибет ветром. Без свежего ветра Польша все равно задохнется. Куда это годится, король сам себе не хозяин», — так думал Богдан, бродя вдоль городских стен, впервые оглядывая их цепким взглядом воина.
Город был твердыней, но твердыней уязвимой. Стены Львова выдержат любую осаду, но навряд ли продержатся долго те, кого эти стены укроют. Город торгашей, монахов, всяческих ремесел, разноязыкий и разноплеменный, не сможет слиться в единый боевой кулак. Здесь всегда можно сыскать общину, которая ради своего благополучия откроет ворота.
Другим человеком возвращался Богдан из Варшавы. Начисто проиграл дело и словно бы сбросил тяжкий камень с крутых своих плеч.
Чем дальше оставалась Варшава, тем дерзостней срывались слова с некогда осторожного языка пана Хмельницкого.
Где-то под Чудновом купил Богдан по дешевке стареющего мерина да телегу. Коня своего привязал к задку и ехал совсем уже не торопясь, почитая за дело разговоры свои.
Догнал однажды старика-лирника.
— Садись, дедушка. Подвезу.
— А куда ж ты меня подвезешь?
— Куда тебе надо, туда и подвезу.
— Для меня всякий шлях, где мову мою понимают, дом родной.
— Тогда и подавно садись. Веселей вдвоем.
Богдан тронул мерина вожжой, а чтоб сбить его с утомительной тряской рыси, ожег кнутом. Мерин скакнул раз-другой и опять затрусил.
— Но! Н-о-о! — покрикивал Богдан, грозя упрямцу кнутовищем.
— Оставь животину, — сказал лирник, — все равно до жилья только завтра и доедем. Тут места безлюдные.
— Сколь по-разному живут люди, — вслух подумал Богдан. — Одни за землю цепляются, другие ходят по свету как неприкаянные.
— Почему ж неприкаянные?! — обиделся лирник. — Нашему приходу радуются. Оттого и бродим от села к селу, чтоб всем досталось из нашей криницы, чтоб не обнести кого-то.
— О чем же ты поешь?
— Разное.
— А про Байду поешь?
— Как же про Байду не петь? Он — мученик и герой.
Из степи прилетел вдруг сухой ветер, поставил пыль, тянувшуюся за телегой, на дыбы да и опрокинул сверху на седоков.
Созорничал и скрылся.
Богдан чихнул, и лирник чихнул.
— Пить захотелось, даже глотку дерет, — сказал Богдан, снова чихая.
— Еще версты три-четыре, и криница будет.
— Так там, может, и заночевать, возле воды? — спросил Богдан. — Место не гнилое?
— Хорошее там место, — сказал лирник.
2
Дорога шла заметно вверх и вдруг будто обмерла на вздохе. Мерин, почуяв особое настроение хозяина, встал.
— Вот она, степь, матерь наша, — тихо сказал Хмельницкий, оглядывая с высоты холма простор от края и до края.
Из балочки, маня, трепетал на ветру зеленый плат плакучей ивы, а кругом, хмелея от воли, вился в кольца, гладко стлался по земле, кипел, ходил свободными волнами ковыль.
— А вон и братец-орел тебя встречает, — сказал лирник, указывая пальцем в небо, — вести несет.
Богдан запрокинул голову. За много дней езды он наконец увидал его — небо над степью. И слезами застлало вдруг глаза. Ни с того ни с сего. Хоть бы облачко одно было на небе, но виделось Богдану — живое оно. То ли в глазах просверки, то ли это светоносная кровь бежит по невидимым жилам небесным.
Подождал Богдан, чтоб слезы с глаз осушил ветер, опустил голову, тронул мерина. И только теперь спохватился.
— Ты чего, старче, об орле давеча сказал?
Лирник тронул струны лиры.
- Ой, як будешь ты королевну везти,
- Закричат орлы в чистом поли,
- Та засияють жемчуги на раздели…
— Нет, старче, ты другое сказал.
— Есть и другая песня: перевешали ляхи многих казаков, вот орел и выглядывает из поднебесья храброе сердце, чтоб поведать о черной беде, чтоб зажечь то сердце огнем отмщения.
Богдан усмехнулся:
— Не то ты говоришь. Отомстить — дело немудреное. Прихватить в чистом поле самого Иеремию Вишневецкого можно. А наследник, глядишь, еще круче возьмет. Когда коня объезжают, с ним не церемонятся.
— Добыть волю для всех — орлиной зоркости мало, — вздохнул лирник, — и львиной отваги мало. Тут еще змеиный ум нужен. А где ж найдешь такого казака, чтоб в сердце его змея с орлом уживались?
— У Господа всяких людей вдосталь: дураков, умников, хитрецов, злыдней. Только нет и не может быть такого героя, чтоб один для всех волю добыл. За волю народом надо вставать. Всем и сразу. И не замахиваться, а бить. Ударивши, терпеть ответные удары. Все герои наши на колу жизнь кончили, потому что один — он и есть один. Для самых удачливых первое поражение становилось последним. А когда все встают, тогда дело другое. На всех колов не хватит.
Криница сверкнула им из балочки. Остановились. Богдан пустил коня и мерина пастись, а сам затеял варить кулеш.
Старик-лирник, опустившись на колени, напился из криницы.
— Как попью этой водицы, так будто десяток лет долой, — сказал, блаженно улыбаясь, отирая бороду. — Слышал я: криница эта особая. Будто бы стоял от этих мест неподалеку хутор и подрастала на воле дивчинка одна. Проезжие казаки на нее заглядывались, а чтоб подластиться, спрашивали ее, что, мол, тебе привезти из дальних краев. Для всех был у нее один ответ: «Привезите семян цветов. Пусть нездешняя красота на нашей земле приживается». Сад у нее был королям и королевам на загляденье. Вот она загулялась однажды в степи. Дело к вечеру, солнце зашло, и смотрит — горит-льется из балки свет Ей любопытно. Подошла поближе: ни дыма, ни огня. Степной незнакомый цветок распустился. Сбежала дивчинка в балочку, сорвала цветок не подумавши. И только сорвала — брызнули из цветка, как слезы, капли чистой росы. Брызнули, да не иссякли, встал на месте дивчинки серебряный столб воды, а потом угомонился, на землю лег — и зажурчала, засветилась под небом криница.
— Спел бы ты, старче, о казаках, — попросил Богдан.
— А чего ж не спеть? Слушай:
- В Царьграде на рыночку
- Пьет Байда-казак мед-горилочку,
- Он пьет, Байда, не день, не два,
- Не одну ночку, не годиночку.
- Сладок мед казака не радует,
- На джуру казак поглядывает:
- «Джура, верен ты мне, как родная тень,
- Да таков ли ты будешь в недобрый день?»
- Царь турецкий чауша к Байде шлет,
- К Байе ластится и к себе зовет:
- «Слава, Байда, тебе, в сече ты невредим,
- Будь ты верным, казак, ятаганом моим.
- Подарю тебе дочь за старанье —
- Будешь первый пан на Украйне». —
- «Твоя вера, царь, распроклятая,
- Твоя дочка, царь, да ведь горбатая»
- Ой да крикнул царь: «Гей, мои гайдуки,
- Возьмите Байду под обе руки,
- Крепко-накрепко Байду вяжите,
- За ребро на крюк подцепите!»
- Ой, висит Байда не день, не два,
- От заботы кругом идет голова.
- Стоном вражью сыть казак не радует,
- Он на джуру своего поглядывает,
- На джуру своего молодого,
- На коня своего вороного.
- «Джура, был ты мне, как родная тень,
- Ой настиг меня мой недобрый день,
- Ты подай-ка мне, джура, мой тугой лучок,
- А к нему подай острых стрел пучок,
- Я затеял царю подношение,
- Царской дочке его в утешение».
- Метил казак не зря.
- Первая стрела в царя,
- От второй стрелы царице
- Не сбежать, не укрыться,
- Третья — дочери,
- Чтоб в жены казаку не прочили,
- Получайте три дара
- За Байдову кару.
— Три дара за Байдову кару, — повторил Богдан, держа перед собой горящую веточку. — Сколько уж тому минуло, а помнят казака. Ты подумай только, лирник! От такого святого человека — такое собачье племя! Все Вишневецкие ныне цепные псы шляхты.
Богдан остругал палочку, помешал кулеш, дал ей остыть и попробовал прилипшие к палочке крупинки пшена.
— Готово! Посолить еще.
— Пусть получше упарится, — сказал лирник и поднял руку. — Тихо! Кто-то идет!
— Чего примолкли? — раздался голос. — Я не тать и не татарин.
Лирник улыбнулся:
— Ну, а коли мы татары?
— Были бы татаре, не орали бы на всю степь про казака Байду.
— Сдается мне, знакомый голос! — улыбался уже во весь молодой зубатый рот лирник. — Степан Головотюк.