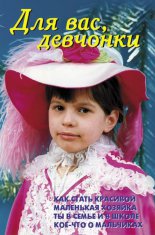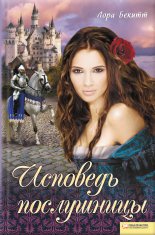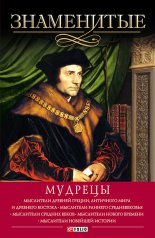Одно сплошное Карузо (сборник) Аксенов Василий

А по-моему, это ты чего-то не понимаешь – так впервые в жизни не совпали наши с женой взгляды на явления природы.
Впервые в жизни с тоской я окинул мысленным взором наш огромный город, заваленный снегом и задымленный грузовиками, многомиллионного жителя с кислым выражением лица, впервые в жизни с недоумением посмотрел я и на собственную персону – сорокалетний Иванов-Попов, проживающий всю жизнь в городе, где в основном процветает довольно неважный климат. С этим ощущением я провел весь свой рабочий день и даже как-то вяло наслаждался своим трудом в своем режимном институте, где мы столько лет выращивали свой секрет, который теперь всем известен. С этим ощущением я и в постель лег и «отключился от сети».
И вот то ли на следующий день, то ли на вчерашний, то ли вообще в неопределенное время вижу объявление в вестибюле: «Уважаемые товарищи сотрудники! Желающие совершить туристические поездки в Лапландию, Гренландию и Калифорнию могут обратиться в местком. Стоимость путевок соответственно: 50 рублей, 75 рублей и 1500 рублей. Ага, думаю, Галина Петровна, кто из нас неправильно понимает расстановку сил на международной арене?
В нашем городе немало существует экономических тайн, распространенных среди простого населения. Например, новый автомобиль «Жигули» стоит 8000 рублей, а подержанный 10 000 рублей. Еще один пример: средняя зарплата населения 150 рублей, но московские девушки разгуливают в сапожках по 200 рублей, которых к тому же не сышешь ни в одном магазине. Я полагаю, что все эти тайны опять же связаны с нашим неласковым климатом. Слишком уж тоненькая веточка Гольфстрима заворачивает к нашим берегам, в результате чего в наших магазинах никогда не продаются шапки из меха ондатры. По этой жe причине население хочешь не хочешь вынуждено их покупать и в них соответственно разгуливать. Мечта каждого москвича – дубленка, и у многих эта мечта осуществилась, хотя каким образом – совершенно неизвестно. Вот я, например, тоже человек осуществленной мечты – вызываю у окружающих нормальную зависть своей канадской миловидной дубленочкой, но каким образом она ко мне попала, я уж и сам не прослеживаю. Кажется, дело было так. Товарищ по преферансу позвонил товарищу по рыбалке, а тот своему другу по охоте, последний своему другу по теннису, а этот вышел снова на моего товарища по преферансу, и в результате я наслаждаюсь своей канадской дубленочкой. Конечно, никакие такие сложности были бы не нужны, если бы был в нашей столице климат помягче. Итак, официальная стоимость дубленки 450, а нормальная, стало быть, 1500, то есть, как вы уже догадались, приравнена к стоимости Калифорнии.
Подхваченный каким-то вдохновением, что, конечно, следствие художественной литературы (в ней причина множества необдуманных поступков), я выхожу в обеденный перерыв на промозглую, свистящую арктикой улицу, выбираю гражданина с мечтой в глазах и тут же продаю ему свою дубленку за указанную выше сумму. Следующий шаг – в местком, вываливаю на стол деньги – запишите, говорю, в Калифорнию. Хочу, дескать, людей посмотреть и себя показать. Честь советского человека будет на высоте.
Смотри, говорят, Попов, поосторожнее там с государственной тайной. Будьте спокойны, товарищи, говорю я, расширение горизонта научного работника способствует улучшению государственной тайны.
Быстро или медленно пролетели несколько зимних месяцев оформления документов – сказать не могу, потому что, когда человек одержим мечтой, границы времени, леди и джентльмены, для него существенно сдвигаются. Короче, наступил зимний месяц и зимний день отъезда в Калифорнию. На аэродроме Галина Петровна повыла надо мной в традициях русской женщины: как же ты, Попов миленький, обойдешься там без дубленочки, простудишься по дороге. Как обычно хлестала пурга, все отряхивались, тучи волоклись чуть ли не по аэродромному полю и настроение было некомфортабельное.
Взлетели мы в воздух, взяли курс на Калифорнию, и вот мы в Калифорнии. Не обманул меня ни Джон Боссанова, ни художественная литература, ни мечта моя окаянная. Солнце сияет, океанские бризы веют, королевские пальмы колышутся. Первое ощущение – восторг.
Наши товарищи из туристической группы, конечно, держатся стойко и на мою восторженную физиономию поглядывают хмуро.
– Не кажется ли тебе, Попов, что здесь излишняя сырость, – спрашивают товарищи.
– Нет, – говорю, – не кажется.
– Гримасы капитализма не видишь? – спрашивают они.
– Нет, – говорю, – не замечаю.
И тут же быстрым шагом подхожу к первому попавшемуся полицейскому.
– Господин полицейский, – говорю, – у меня есть желание попросить в Калифорнии убежища.
Первый попавшийся полицейский оказался не из худших: румяный, здоровенный уроженец теплой земли.
– Ищете политического убежища, сэр? – спрашивает он.
– Нет, сэр, климатического, – отвечаю.
– Наверное, из Копенгагена, сэр? – улыбается он.
– Почти угадали, – говорю, – я из Москвы.
– В общем, вам направо, – показывает он. – Политическое убежище у нас налево, а климатическое направо.
Иду я направо и прихожу к великолепному зданию, на котором написано «Центр по приему климатических беженцев». Встречает там меня великолепная мисс, подключает к соответствующему компьютеру и проверяет исходные данные.
– О’кей, мистер, Центру все ясно, – говорит она и везет меня в соответствующий участок побережья к соответствующему чудесному домику под пальмами. В домике уже передвигается соответствующая женщина, похожая чем-то на Галину Петровну, только загорелая и зубы блестят. Бегают соответствующие дети улучшенного варианта.
– Вот здесь будете жить, мистер Иванов-Попов, – говорит мне девушка из Центра. – Средняя годовая температура +26, ниже 24 не опускается, выше 28 не поднимается. Смен времен года практически не бывает. Ветер ласково веет, круглый год цветут грейпфруты, в вашем саду порхают колибри, у новой семьи чудный характер. Устраивает?
– Кажется, устраивает, – говорю я и слегка осматриваюсь. – Вроде бы подходяще.
– Советуем прежде всего выспаться, – говорит мисс. – Вот вам таблетка и как следует проспитесь, иначе не исключена возможность климатического шока.
Засыпаю в блаженстве, в мягком ложе, у открытого окна. Рокочет океан, щебечут колибри, телевизор напевает песенку.
Одна только мысль слегка тревожит: как же это так без смен времен года? Значит, и весны не будет? Значит, никогда не ждать весны? Улыбаюсь абсурдности своего бепокойства – если вечное лето на дворе, то зачем же весну-то ждать?
Итак, засыпаю. Надо мной в ласковом ветерке кружатся дружелюбные звезды. Мирно курлычет по телефону моя миловидная жена, с которой я еще не успел познакомиться. Под пальмой в бассейне плещутся стройные дети. Сладко спать в климатическом убежище, и только одна мысль слегка тревожит всю ночь – как же это? не ждать весны? не надеяться на весну? Нет, тут что-то не то, в этом надо будет получше разобраться.
Итак, просыпаюсь. Батюшки, проспал! Заводиться надо! Пока не поздно, «Жигули» надо разогревать, а то на работу опоздаем! Не успеваю даже побриться, натягиваю брюки, теплые сапоги «прощай, молодость», свитер, пиджак, шарф, шапку свою меховушку, бегу.
– Дубленку надень! – грозно кричит Галина Петровна.
Не успеваю даже удивиться – откуда снова дубленка взялась, ведь продал ее давным-давно какому-то мечтателю. Набросил дубленку, качусь вниз – лифта никогда не дождешься! Думаю на бегу – если сразу, подлец, не заведется, тут же искать грузовик, тащить на буксире, потому что свечи прокаливать уже некогда. Бегу вниз, мелькают за стеклом лестничной клетки обычные наши снежные просторы, но вдруг… вдруг некоторое ощущение поражает меня, и я даже останавливаю свой бег. Застреваю где-то между I0-м и 9-м этажами, вперяю свой взгляд в наши обычные снежные просторы и начинаю ощущать в них, дорогие товарищи, что-то необычное. Некоторое отсутствие присутствия определенной омертвелости чудится мне в наших обычных снежных просторах, с одной стороны, а с другой стороны, в бесконечном нагромождении дымной снежной хмурой мутной нашей столицы звучит странно тихий призыв.
Я вышел на крыльцо нашего жилого гиганта и там остановился. Что-то было необычайное в округе. Я стоял на крыльце в странной мирной задумчивости, и спешка, от которой меня всегда трясет, вдруг прекратилась. Я озирал теперь свой квартал, где мне всегда бывало тошно, как неведомое чудо. Опостылевший снег показался мне вдруг расцветшим кустом сирени. Во дворе было тесно и светло от розовощеких резвящихся детей. В губы мне вдруг попал мягкий снежок, и я почувствовал неведомый раньше прилив теплого юмора и любви. По двору, словно огонек, то удаляясь, то приближаясь, носился ирландский сеттер. Я сел в свою несчастную машину, и она не показалась мне сегодня такой холодной и безжизненной, как в прежние зимние дни. Один поворот ключа, и мотор зажужжал, как лирическая пчелка. Я вылез из машины, чтобы смести снег с ветрового стекла. Ирландский сеттер подбежал ко мне и подставил свою голову, чтобы я его погладил. С удовольствием удовлетворил егo желание. Что происходит? В этот миг я любил Москву и даже предстоящий путь на работу представлялся мне полным очарования. Что происходит? Воздух дня казался мне целебным. Я вспомнил вдруг совершенно позабытый двор, где сорок лет назад впервые увидел снег, переулок, в глубине арбатской старой Москвы, переулок, который носил доброе имя Хлебный. Что происходит?
И вдруг я понял, что происходит. Сегодня внутри зимы запахло весной. Отдаленное и еле заметное прикосновение весны к вашим лицам, к нашему дыханию… нет, это совершенно невозможно для меня – жить без ожидания весны. В этом единственная, нo могучая прелесть нашего постоянно паршивого климата – в ожидании. По дороге на работу жена сказала мне:
– Ты, знаешь, – наш секретный отдел упразднен и преобразован в бюро международного туризма.
Ноябрь 79.
«У cвиной ножки»
Бывает же так – на берегу Потомака, в столице Атлантического мира в течение одного дня встречаешь двух полузабытых друзей из прежней евразийской жизни. Два московских внутренних эмигранта – Филарет Фофанофф и Илларион Недюжина, собственными персонами, мирно прогуливаются вдоль набережной старинного Джорджтаунского канала с его деревянными шлюзами в своих излюбленных гоголевских шинелях с пелеринами и пушкинских шапокляках набекрень. Да как же это выпускают таких людей из марксистского царства? Неужто и в самом деле новые ветры подули?
Какие уж там новые ветры, вздохнул Фил Фофанофф, все те же старые шептуны. Я выбрался за границу с делегацией чаеводов, Ларику пришлось прикинуться табаководом. Существование внутренней оппозиции в СССР по-прежнему у нас не признается. До уровня филиппинской цивилизации нашей родине расти еще несколько столетий.
Впрочем, что там говорить об этих унылых предметах, нам ведь едва удалось ускользнуть от наших чаеводов и табаководов, и в нашем распоряжении только одна ночь. В самом деле, продолжил знаменитый московский всезнайка из Кривоколенного переулка Илларион Недюжина, ведь ты, Василий, как наш бывший соотечественник должен понимать уникальность нашей сегодняшней ситуации: мы в Джорджтауне, в двух шагах от загадочного Уотергейта, вокруг нас десятки всех этих маленьких кафе и ресторанчиков, открытых беглецами со всего мира, иранцами, вьетнамцами, китайцами, эфиопами, многоязычная толпа, звуки живого джаза, здесь сегодня играет настоящий живой Диззи Гиллеспи[18], там настоящий живой Чик Кориа[19], запахи табаков и чаев кружат голову, можно купить себе добротный кепи из ирландского твида, воздух пропитан атмосферой приключения, можно влюбиться, можно вступить в разговор с целью свержения с трона полковника Менгистру или просто напиться как в добрые шестидесятые, словом, ты должен нам сегодня вечером показать что-нибудь особенное, чем мы будем потом хвастаться в дремотных сумерках социализма.
Опершись на трости и попыхивая трубками, два внушительных москвича, чем-то напоминающие в этот момент Федора Достоевского и Карла Маркса в день встречи двух гигантов у колоннады игорного дома в Висбадене, смотрели на меня. Есть чем озадачиться.
Вдруг осенило. Давайте отправимся, судари мои, в кафе, из которого бежал героически полковник Виталий Юрченко[20]. Об этом местечке сейчас пишут в газетах. Я и сам с удовольствием посмотрю.
Московские вольнодумцы переглянулись. Как? Неужели во всей этой истории с похищением, отравлением и бегством этого страшнейшего персонажа с длиннейшими усами есть хоть что-то реальное? Мы-то полагали, что все сплошное вранье.
В Джорджтауне, сказал я, вымысел и реальность нередко пересекаются. Во всяком случае, в газетах пишут о коктейле «Юрченко» и о борще «Советский офицер». Сказав это, я заметил, что невозмутимые и ироничные интеллектуалы начинают впадать в состояние крайнего возбуждения, что твои девятиклассницы. Ну что же, господа, мы тут толчемся на одном месте, давайте же, наконец, продвигаться!
Стараясь все же унять внутреннюю суетливость прежних приятелей и как бы предлагая им просто включить посещение юрченского кафе в общую атмосферу вечера, я повел их по узкой набережной канала, через театральный мир старины под раскидистыми ветвями грабов, мимо крошечных окон и полуоткрытых дверей различного мелкого старинного капитализма, то ли это колониальная формация с запахами шандры и конской мяты и с пожелтевшими сосудами, хранящими порошок толченых сухих шершней, то ли это лавочка по продаже шотландских волынок, то ли это часовых дел мастерская с выставленным в окне ощетинившимся дикобразом, взирающим с вполне понятным раздражением на песочные часы, занятые своим необъяснимым делом.
На Висконсин-авеню уже катили потоки машин, светились вывески сомнительных кинотеатров, играл бродячий саксофонист, скользил продавец фиалок. Если вы думаете, что они нищие, эти продавцы фиалок, вы ошибаетесь, дорогая моя, они миллионеры. Из кафе «У свиной ножки» вышла компания цирковых пони, то есть упряжка панков. Пахнуло лошадиным потом.
Вот именно отсюда, как сообщала советская сторона, ускользнул предварительно похищенный и истерзанный американскими церэушниками добропорядочный трижды в кавычках дипломат Юрченко. Отсюда он и прошел «на рысях на большие дела» вверх по Висконсин до ворот расположенного неподалеку советского посольства. Место действия совпадало и с американской версией. Да, именно отсюда, сообщали наши газеты со слов авторитетных источников, этот важнейший в истории перебежчик, пятый номер в иерархии КГБ, охваченный спазмом невыносимой ностальгии, терзаемый «кризисом среднего возраста» и любовью к таинственной Титани из советско-канадских кругов, рванул вверх по Висконсин к вышеупомянутым воротам.
Как же выглядит место действия? Несколько деталей для будущих постановщиков киностудии «Беларусьфильм». Это с понтом французское место «О пье де кошон» выглядит с понтом по-французски, несмотря на настоящий, вдоль всей стены, американский бар с двумя тысячами всевозможных бутылок, как в прямом, так и в перевернутом положении. Наиболее французской, по мнению хозяев, деталью, очевидно, является преотвратительная парсуна[21] в центре зала, на которой изображены несколько французских поваров с огромными ножами, несущихся за пребольшущей свиньей. Не знаю, как насчет людей из разведки, но у обычных посетителей эта парсуна не вызывает ни юмора, ни аппетита.
Столы стоят в довольно расшатанных кабинках, на стенах кабинок плохо различимые фотокартинки из французской жизни. К деталям дизайна следует отнести и группу французских официантов в бывалых фартуках, которая (группа), расположившись в районе туалета, ведет несомненно бессмысленный разговор на кажанском наречии языка Мольера. Маленькие усики, плебейский румянец, персонажи Золя. Кажанское племя живет тут у нас на берегу Мексиканского залива несколько столетий, с каждым столетием все более отставая от традиций Елисейских Полей, но не брезгая, по слухам, мелкотравчатым пиратством.
Туалет заведения заслуживает особого упоминания. Несмотря на свое расположение в центре самой дезинфицированной и дезодорированной страны, он упорно напоминал мне соответствующее «узло» в ресторане «Утес» сахалинского порта Холмс снежной зимой 1961 года. Ностальгия – явление чрезвычайно сложное. Иной раз нечто совершенное неожиданное, какое-нибудь дуновение или движение мокрой тряпки может вызвать в человеке целую гамму чувств.
Мне показалось, что мои московские друзья в некотором замешательстве: они явно ожидали чего-то более элегантного, чем эта круглосуточная харчевня. Как могло ЦРУ привести сюда на ужин гостя такого крупного калибра, как Оно (триумф непостижимого для английского уха среднего рода!) могло избрать столь захудалое заведение, в котором к тому же входная дверь едва ли не сваливается с петель от бесконечного употребления и что ни минута – то панк завалится, то студент, то ночная орхидея возникает с клиентом.
Коктейль «Юрченко» оказался чем-то сродни тому, что я пил на безобразных студенческих пьянках по периметру Казанского университета – смесь водки со сладковато-парфюмерным ликером. Борщ «Советский офицер» подали в кофейных кружках, что не мешало ему, впрочем, слегка отдавать застоявшимся пивом. Официант Жакко в непринужденной манере чеховского полового, породнившегося с зощенковским банщиком, рассказал нам свою версию исторических событий, поразивших забегаловку «У свиной ножки».
Вот она:
«Врать не буду, господа хорошие, распрекрасно помню обеих. Ну да, обоих. Как раз Мишеля я подменил – у него герлфрендиха в ту ночь рожала. Тут входят двое в полумасках, ну, ежели не в полумасках, месье, то значит в темных очках, обязательно, словом, сразу видать – непростой народ. Все уставились сначала на усатого косолапого – кажись, пан Лех Валенса лично пожаловали? Э, нет, видим, сходство ограничивается только лицевой растительностью, в глазках у клиента «Солидарности» не отмечается. Насчет сопровождающего врать не буду, ничего особенного сказать не могу – обыкновенный Сильвестр Стиллон, таких тут немало прогуливается.
Замечается также, что главный посетитель, то есть с усами, не очень то как бы доволен окружающими обстоятельствами, что называется, нос воротит, как бы укоряет спутника – дескать, куда меня привели: французский стиль ему явно не в жилу. Спутник, однако же, успокаивает усача – не волнуйтесь, дескать, можно и здесь неплохо по буфету погулять, и заказывает с ходу то, чего тут у нас уже лет пять никто не заказывал – пару омаров, то есть Огюста и Жозефину, тех самых, что у нас тут уже лет пять в аквариуме жили и к которым и персонал, и клиентура привыкли.
Ничего не поделаешь, раз в меню указаны, значит, надо сервировать. Сервирую в дурном расположении настроения, прислушиваюсь к разговору. О чем говорили? Собственно говоря, о любви беседовали эти двое. Верность, говорят, в любви вещь совершенно необязательная, а вот измена требует определенной стойкости. Мы к таким разговорам промеж мужчин вполне привыкли, господа хорошие.
Ну, одолели клиенты Огюста и Жозефину, и тогда сопровождающий встал – извините, я зубы почистить, – удалился в гальюн, а оттуда уж и слинял, передав предварительно Жерару свою кредитную карточку. Оставшийся, с усами, вот именно, как потом выяснилось, месье Юрченко, часа два сидел в одиночестве, все что-то грустно напевал (Жакко воспроизвел мелодию, похожую на «Шумел камыш»), потом тяжело вздохнул и захотел расплатиться. Не извольте беспокоиться, говорю ему, все оплачено. Он тогда вздохнул еще тяжелее, вышел на улицу, открыл зонтик с надписью «Столичная, Де Водка» и пошел вон туда».
– Ваша версия, Жакко, чрезвычайно отличается от газетных, – сказали мы.
Он, конечно, обиделся.
– Пардон, – говорит, – газет не читаем, а версию эту я видел собственными глазами. Не знаю, чему вы так удивляетесь, господа. Внутри мужского пола сейчас отношения бывают очень даже сложные. Вот вы сами, например, – расходиться будете по-одному или все разом?
Конец 1985 (?)
Карусели[22]
Сплю на спальном устройстве под названием «кресло-кровать» в узком пространстве между письменной доской и кубиками для книг, полкой проигрывателя и подвесками с «декоративной керамикой». Приближается конец шестидесятых, вся комната оборудована в соответствующем стиле. Все, в общем, красиво своей «функциональной красотой», кроме самого спящего: опухшее, лет на тридцать старше меня самого, разносящее вокруг алкогольный смрад тело. К такому даже и «современная девушка» в постель не полезет.
Вот и во сне, если это можно назвать сном, происходит безобразная раскачка. Едва лишь приближаюсь к каким-то эмпиреям, протягиваю руку, чтобы приотворить что-то, ведущее куда-то, в какое-то молодое, россиниевское, что ли, моцартианское, или как его там, пушкинианское, ну, в этом роде, как тут же, резко качнувшись, спотыкаюсь о какие-то ящики немытой стеклотары, вхожу в мучительный вираж, с тошнотой выныриваю, чтобы снова ухнуть в мусорный отстойник. Музыка тут никогда не пробьется сквозь лабиринты дряни, обдерет себе бока, обвалится кровоточащей шкурой. Сквозь все это торчащее, выпирающее, свисающее проходит только телефонный звонок из ЦК КПБСС. Вот именно, из отдела культуры, поганее не найдешь в городе лавки. Так и есть, от того секретаря, члена Политбюро, что ли, не иначе, звонят помощнички. Трубка прямо над башкой, такой дизайн.
«Эй, как вас там! – говорят помощнички. – Вы, что ли?»
«Ну я, кому тут еще быть по ночам?»
«По ночам, – усмехается цегэбэшная губеха. – Сейчас 11 утра, дорогой товарищ! Как себя чувствуете?»
Кажись, чтой-то важное, о чем надысь просил в заявлении. Тут начинает раздирать неудержимый кашель. На другом конце провода с интересом ждут. Поясняю:
«Бронхит курильщика».
Там с пониманием: «М-да, курить надо тоже бросать, – и продолжают: – Послушайте, как-вас-по-батюшке, вы, кажется, писали нашему геншефу, ну, этому, который еще не на пенсии, просили аудиенции по поводу недоношенного произведения, так, что ли?»
Экое головокружительное смещение планов, летучесть стилей! Без алкоголя все-таки не перескочишь туда и обратно; мдас, тудас и обратнос!
«Флегон Афонович вас примет в пятницу, в одиннадцать, подчеркиваем, утра. Постарайтесь на этот раз прийти без фингала под глазом».
Хочется сказать: «Падлы вы позорные», – вместо этого произношу: «Нет слов, чтобы выразить благодарность Флегону Афоновичу». Слышу щелчок, мое выражение записано как неуместная ирония в адрес лексикона партии.
Вот хорошо, до этой цэковской пятницы еще два дня. Успею съездить в Ленинград, то бишь Санкт-Петербург, по поводу полузадушенного сценария. К вечеру налакавшись всякой дряни по творческим буфетам, загружаюсь в «Красную (если еще не переименована) стрелу». Кто сегодня тут дежурит в освежителе с коньяками да свинушками-отбивнушками? Да ведь любезнейшая же Валентина Архиповна, русский человек высшего класса. «Стася пришел, – говорит она, немного, всего лишь на две буквы, путая мое имя. – Смотри, подсобница, опять у нас Стася!»
Подсобница смотрит так, как будто знает обо мне больше, чем Валентина Архиповна. Возможно, возможно, однако и доказательств все-таки нет никаких, не прицепитесь. «Давайте, я вам пуговицу пришью к вашей кожаной куртке». Перед нами русская женщина второго класса, в том смысле, что прямо следующая за Валентиной Архиповной.
Приткнувшись в углу абсолютно минимального пространства, потребляю все, что дают. Пиджак плывет над головами, как наш невидимый самолет «Стелс». О, эти кожаные изделия, почему вам выпало отмечать своим размножением исторические вехи России? Сначала большевички, свердловчане, троцкоградцы, киргизоподобные фрунзенята и котовичи-ворошилы явились огромной паровозной гопой, чтобы строить новый мир своих кожаных утопий. Потом в сырую историческую погоду возник советский битник со слипшимися фигами в карманах кожаных спинжаков. Ну а вслед новое уже взыграло жеребцовское поколение киоскеров, рэкетиров, бойцов охраны в своей усовершенствованной коже с потайными кулуарами. Эх, родина, степная кобылица, скачи побыстрее, а то тут тебя обдерут, поди, уже на диваны!
Одно за другим появляется в коньячном закутке знакомое лицо всесоюзного сценариста. Вы советской власти не знаете, ребята, талдычит всеобщий попутчик. Она вам фрондерствовать не даст, пока жива, каждого приж…т! Позвольте, позвольте, изумляются наследники ифлийцев, как это «пока жива»? Она ведь у нас всегда будет жива, не так ли? Попутчик, перепугавшись, кричит вдоль спящего коридора: «Вечно! Вечно!» Выпить, забыть весь этот позор.
Утром прибываем туда, куда ехали. Какая же это «колыбель», если ничего вокруг не узнать? Да жили ли тут когда-нибудь Дягилев с Бенуа? Где тут Медный Всадник, товарищи, где благородных девиц дортуарное общежитие, где Неваострица, «Ленфильм»-батюшка, где вообще-то это, ну, главою-то непокорною выше, вот именно, где оно?
Оказывается, по закону «лиминальной драмы», прибыли не туда, куда ехали, а в Ригу, не в фигуральном смысле, а в столицу партийно-национального балтийского государства. Ире папире, говорит вокзальная стража на своем языке, платите за въезд в республику красных батальонцев! Платить надо в латах, руссише свинтус, похохатывают они. Да откуда у меня латы? Вот кожанка, может, сойдет за латы, геноссен?
Текут под шведским ветром волнистые флаги. К новым успехам в торговле, финансах, в путешествиях и в любви!
Как молод я тут, дрожащий мужчина, молод и недурен, прямо хоть в женихи, если помыть и облачить в новую кожу. Кирпичом забиваю в иностранный телефон московскую монету. Работает, сволочь, несмотря на этническую дезынтыграцыю. У телефона Эвридика Ростенковска, дитя 18 (отнюдь не 48) лет. Катался с ней на лыжах в прошлом февральском сезоне. Бросал ей в снегу палки. Она ловила на лету бамбуковые намеки.
«У меня большой прогресс! – хвалится дитя. – Заезжай, не пожалеешь!» Мне нравится, когда дети говорят на «ты» с подержанными мужчинами 30 или 60 лет. Мчусь. Воображаю Эвридику почему-то в царстве ковров. Блаженство Гаруна! Блаженство Сауда! Голливуду и не снились такие блаженства! Она открывает. И впрямь, большие визуально-пальпальные изменения в лучшую сторону. Ну, Эвридика, сознавайся, за какой шнурок тянуть, как ты сыграешь Коломбину? Дитя проявляет филологическую эрудицию: «Совлекайте, совлекайте с древних идолов одежды!» Нет, это ты, юная тварь, и есть древнее идолище любви! Одну минуточку, господин Как-вас-по-батюшке, сначала познакомьтесь с моим папенькой, сенатором от польского меньшинства, и с моей маменькой, урожденной Пицхук, от основной массы, лишенной права голоса. Они будут счастливы.
Входят двое, не поймешь, где он, где она, потому что оба в джинсовых костюмах. Мы и в самом деле счастливы, много наслышаны. Как-то вы не так нам представлялись, со слов дочки. Помоложе, что ли? Да нет, постарше. Между прочим, нас ведь когда-то знакомил господин Будетлянинов; это имя вам что-нибудь говорит? Ну да, Юлик, он у нас освобожденным секретарем в почтовом ящике. Беседуем не без интереса об общих знакомых. Увы, никак не могу проследить женские и мужские окончания глаголов.
Тем временем головокружительная Эвридика вместе с подоспевшими кузинами Фирой и Лирой накрывают на стол. Она любит дом, наша девочка, очень любит домашние заботы. Знает, где что расставить, где кнели, где сельдь, где форшмак, где заливное. В прихожей беспрерывные звонки, то телефонные, то дверные. У родителей то и дело поднимаются уши или округляются глаза. Обещал приехать даже дядя Дэйв. Вы знаете, наш Дэйв – это типичная American success story. То есть как это прикажете понимать? Ну, в самом начале перестройки. Перестройки, вы сказали? Ну, вы же помните, что началось, когда Берия взял власть и разогнал большевиков. В общем, Дэйв тогда решился и «проголосовал ногами», ну, в общем, как тогда говорили, «закинул чепчик за бугор», ах, как русский язык все-таки богат, а здесь ты не можешь на нем заговорить, чтобы тебе не плюнули в лицо, словом, Дэйв баснословно, по-русски говоря, разбогател и вот приехал в гости, все еще недурен собой, ну, не нужно так, перестань, просто я хочу сказать, что он ничего не жалеет для своей племянницы.
Входит серебряный Дэйв Бершадский, окруженный впечатляющим по разноликости кагалом родственников, мощная грудь распирает костюменцию «Хьюго Босс». Эвридика висит у него на плече. Испорченное воображение – и, очевидно, не у меня одного – рисует нечто бордельное. «Хау ар ю, – говорит он мне и протягивает свою железную лопату. – Когда поженитесь, приезжайте с Эвридикой в Бруклайн. Я вам куплю книжный магазин. Здесь вам нечего делать с вашим душой и с вашей талантой».
Аплодисменты. Эвридика в томном угаре проводит пятью пальцами – чуть не сказал «пятерней» – от плеча через грудь к средоточию. Все хором начинают обсуждать вопрос, где посадить молодых. В этот момент своей далекой молодости я вижу за окном ледяной перекресток Независимости, две пятнистые фигуры «земе-сурдис», даму-хамелеона с хамелеоном-собакой под дрейфующим в тучах рижским солнцем и большое окно бывшей парикмахерской, а нынче не поймешь чего по новому правописанию, где все-таки стригут и «броют» трех русско-еврейских нерях.
«Папочка-с-мамочкой, прошу прощения, но мне все-ш-таки надо постричься-побриться по такому поводу счастливейшей помолвки».
Дядя Дэйв провожает меня до дверей, накидывает на плечи свою дубленку, цапает за левое запястье, срывает монгольские часы «Победа». Что ты такое говно носишь, я тебе золотой «Роллекс» закажу!
Ух-ма, вываливаюсь на улицу. Все-таки это нечто! Эти вот вываливания на улицу от всяких там Ростенковских! Ради одного этого стоит жить и в тридцать лет, и тридцать лет спустя. Под порывами ветра иной раз подумаешь: может быть, и душа так говорит, вываливаясь из душного тела, – ух-ма!
Во всех шестнадцати окнах квартиры стоят родственники и с умилением смотрят, как жених переходит улицу по направлению к цирюльне. Когда, побритый, постриженный и освеженный самым ужасным одеколоном Северной Европы, который еще недавно производился в Кемерово под названием «Таежный», я возвращаюсь на улицу, все те же родственники стоят все в тех же окнах и смотрят на перекресток все с тем же умилением.
Приближается контрапункт, и ты, мой въедливый читатель, какую бы стекляшечку в глаз себе ни ввинтил, все равно не найдешь тут отклонения от классических ладов драмы. Просто подходит случайный экипаж, такси, и ты, мой читатель, приветливо помахав несостоявшимся родственникам, и прежде всего, конечно, дяде Дэйву, дескать, «сегодня не ждите!», хлопаешься вместе со мной на небезупречный таксистский диванчик и отправляешься из восходящей половины рассказа в его нисходящую половину.
В карманах дубленки обнаруживаются и латы, и литы, и кроны, и доллары вкупе со среднерусскими рублями. Ублажая своих родственников, дядя Дэйв, очевидно, потел, некоторые купюры приклеились к изящно отработанным внутренностям кармана, и их приходилось снимать почти клинически, как пластырь.
Возвращаюсь в Москву почему-то все-таки не из Риги, а из города-героя, трижды перекрещенного, имени Кирова, памяти Ленина, почти Ульяновска, не путать с Симбирском и Питсбургом. Отоспавшаяся за сутки, все та же меня там приветствует смена. Буфетной подсобнице преподношу подарок, тоже найденный в бруклайнской дубленке: отлично спрессованный пакет с ажурно-кружевными трусиками. Если не этого она ждала, то чего же? Вместо благодарности получаю оглушительный, а также наполовину и ослепляющий удар в правый глаз. «Женщина, безумная гордячка, мне понятен каждый твой намек!» Просыпаюсь утром с чувством горечи, ведь предстоит визит в ЦК ПБСС. Вот, казалось бы, побрился, постригся, как-то внутренне собрался, подготовился к диалогу, и вот на тебе – опять фонарь! Да меня теперь за такую иллюминацию не к Флегону Афоновичу на третий этаж, а в подвал проводят для усиленной терапии.
При мысли о партии начинаются, как всегда, безобразные волнения кишечника. Иду по перрону, соображаю: у руля ли она, не сбежала ли за ночь? В киоске под двумя названиями, «Союзпечать» и «Эльдорадо», покупаю темные очки. Ну и ну, когда это так было в наших краях, понадобились человеку темные очки, и он их тут же покупает? А ведь людям нередко нужны темные очки для прикрытия обиженных глаз, как вон тому идущему мне навстречу пожилому дядьке с отвисшим зобом и в темных очках. Эва, да это я сам в зеркале к себе приближаюсь среди общего поголовья под бдительной дланью Ильича! Безобразно постаревший и в темных очках иду на прием к секретарю политбюрократии!
В приемной могущественного человека сидят три его помощника с дюжиной телефонов и ребенок лет восьми перед компьютером третьего поколения. Все четверо окидывают вошедшего цепкими взглядами. «Присядьте, любезнейший!» При всей нелепости происходящего большие часы над здешней башкой Ильича продолжают «идти». Здесь понимают загадку времени. Бастион истории не отвлекается на созерцание небес или роящихся птиц. Жди тут со своим бурчанием в животе!
Один из помощников подсаживается как бы по-свойски. «У вас такой вид, старик, как будто всю ночь в борделе провели. Как будто вам кто-то там в глаз дал». Улыбается, давая понять, что все уже прослежено и доложено. Из кармана у него торчит газета «Ночь» с типографскими красными галками на полях.
«Послушайте, старик, – говорю я по-приятельски этому человеку, с которым мы, кажется, когда-то выпивали у какого-то скульптора, то ли на Третьей Мещанской, то ли на Грэнд, в общем, советской власти в … засаживали. – Что это у вас тут за несовершеннолетний появился за каким-то оруэлловским аппаратом?»
«Это Мальчиковский, – отвечает замаскированный под партийца «неформал». – Взят в секретариат за выдающиеся данные. Лет через тридцать станет властителем дум России, если уже не стал таковым».
Ребенок во время этого диалога неотрывно смотрит на нас слегка отечными глазками над одутловатыми, плохо выбритыми щечками енота, подрагивают его полные белые ляжечки с красными точками. Что же в нем такого выдающегося? Ну, у нас тут вычислили, что он обладает многими качествами для будущего, а ведь оно уже на дворе. Хроническое недоедание обострило его интеллект, колоссальную жажду знаний. Разбуди его среди ночи, и он сразу начнет говорить из Розанова. Нам такие нужны во времена грядущего разгрома. Это вообще наш человек, он владеет неистребимым совковизмом: никогда не наденет пиджак, но всегда его оденет, то есть на неодетый пиджак наденет что-нибудь. Отсутствие художественного чутья у него устраняет все преграды для продвижения к истине в последней инстанции, и это в те времена, когда все инстанции рушатся.
«О каких таких временах вы ведете речь, старик, когда ничто не рушится, а только прибавляет в весе?»
«О, если бы вы видели то, что видел я, старик! Если бы вы только могли окинуть взглядом эти страшные толпы, падение кумиров, старик, и тэдэ и тэпэ!»
Едва закончив фразу, он кошачьим прыжком воцаряется за своим столом, и все присутствующие, хоть и не слезали с мест, как-то по-кошачьи за своими столами воцаряются; ребенок Мальчиковский раньше всех. Главная дверь отворяется и на пороге воцаряется не кто иной, как сам Флегон Афонович. Клянусь междуречием Невы и Даугавы, на носу у могущественного товарища царят темные очки. Итак, предстоит диалог замаскированных персон. Прошу вас, многоуважаемый, ко мне в кабинет; нам про вас все известно, но поговорить не повредит.
Мы сидим в кабинете величиною с баскетбольную площадку, смотрим друг на друга, очки в очки. Его стекла, конечно, фээргэшного происхождения, заказаны в Четвертом управлении, на Грановского, мои родились в киоске «Эльдорадо», вчерашняя «Союзпечать», среди бутылок сладкой и горькой бузы, рядом с табаком из-за западной границы и с сеульскими тапочками. Мои лучше.
«Вы совсем молоды, любезнейший», – мягко говорит он, вглядываясь темными окружностями, а ведь мог бы говорить, ей-ей, и пожестче. Меня вдруг посещает странное недоумение: а зачем я, собственно говоря, к нему? Ловлю себя на том, что как бы пытаюсь заглянуть к нему за стеклышко, пытаюсь и там найти фингал. «Нет-нет, – понимающе улыбается он. – У меня просто глаза от света устают. В молодости работал горновым». Все-таки не худших людей отобрала для нас партия! Однако что я все-таки хотел у него попросить-то? В Англию, что ль, чтоб пустили б, чай, аль чего ишчо? На фестиваль ли прошусь, в Сполето ль? Ах, как тут внутренне не рассмеяться горьким смехом: никуда не поедешь ведь без таких горновых гегемонов.
Он, конечно, угадывает мои мысли. «Не знаю, как вы, любезнейший, а я вот терпеть не могу Запада!» С улыбкой взирает на мою нервозность. Никак не могу со своим адреналином совладать при упоминании Запада. «Вот вы, любезнейший, наверное, иначе смотрите на этот предмет, как человек нового поколения, да еще и прозападной ориентации. – Делает паузу, как бы ожидая с моей стороны возражений, но, не дождавшись, продолжает: – Меня раздражает на Западе бесконечное стремление к моде. Вот, например, возглавляю я делегацию на юбилей газеты «Фольсштурмунддрангштимме». Уступаю жене и покупаю в поездку модные остроносые штиблеты. Приезжаем в столицу этой самой «штимме», а там в витринах уже новая мода – тупоносая обувь!» Он смеется весело, по-товарищески, показывает свою остроносую туфлю, заглядывает на мою, тупоносую, еще пуще заливается. «Ах, какой вы, оказывается, модник!» Я молчу, не соответствую, и вовсе не от отваги, не от желания сказать «Заткнись, красная жаба! Не трожь цэкабэшными лапами Запада, нашей духовной родины!», а просто от избытка адреналина, который не дает сосредоточиться ни на одном осмысленном действии! «Ну а зачем письма-то писать? – с первыми нотками угрозы, с далеким пока что жарком пролетарской кузни вопрошает Флегон Афонович. – Зачем сочинять и подписывать эти, – вплетается нотка брезгливости, – письма протеста? Все эти Синявские-Даниэли, Гинзбурги-Галансковы, неужели не надоело?» Он нажимает кнопку и что-то неразборчиво говорит в какую-то дыру, что-то вроде «прнстктгвннсм». Мгновенно, будто за мячом, летящим в аут, влетает ребенок Мальчиковский, шлепает перед начальством папку и так же стремительно улетает, не забыв, правда, скользнуть по мне злорадным и торжествующим взглядом. Ябеда младших классов.
Могущественный товарищ брезгливо, одним пальцем, припоминает всякие там «письма протеста». «Что вы хотели сказать этими письмами, любезнейший?» Две пары темных, как абхазская ночь, очков вместо того, чтобы лежать рядом на прилавке, теперь гипнотизируют друг дружку. Неожиданно для себя самого нахожу правильный ответ: «Там все сказано, что я хотел сказать». Он, кажется, обижен. «Вот так, значит? Значит, больше ничего и не хотели сказать? Никакого подтекста, никаких айсбергов?»
Не без усилия, как будто за 15 минут разговора едва ли не впал в дряхлость, он поднимается и идет к своему нерушимому, как мавзолей, столу секретаря ЦК и члена ПБ. Достает оттуда большую палку финского сервелата, блок «Мальборо», банку растворимого кофе. Подмигивая мне из-за темного стеклышка, складывает это добро в объемистый и уже явно не пустой портфель. «Ну, что ж, пойдемте, любезнейший: аудиенция окончена».
Мы выходим в приемную. На нас никто не обращает внимания. Оказывается, уже вся подсобка обзавелась компьютерами. На экранах мелькают диаграммы со значками валют: гусеница доллара, мини-кобра английского фунта, антенна иены. Кто-то бубнит в трубку: «Берем наликом, переключаем валиком. Партии меньше сорока ящиков не предлагайте. «КрАЗы» с прицепами можно ставить на торги. Ваши расчеты по дизельке смешны, месье…» Между тем ребенок Мальчиковский, как бы уже заматерев, как бы уже к сороковке, как бы в ждановском френче, как бы вдохновенничает, выхватывает из-за уха гусиное перо, разбрызгивая капли, строчит на листах с грифом «совершенно секретно».
Спускаемся в нижний этаж, где стража, зевая над «плейбоями» и «андреями», провожает нас равнодушными, если не оскорбительными взглядами. Перед подъездом стоит бронированный «ЗИЛ» Флегона Афоновича. Вокруг в характерных позах покуривают на корточках полдюжины чеченцев. Мы проходим мимо.
«Как хорошо на улице, – вздыхает секретарь. – Думаете, мне легко сидеть в этом здании? Чувствовать постоянно, что наша борьба обречена, что это обязательно произойдет, если уже не произошло. Нет ничего страшнее, знаете ли, этих дистопических кошмаров с видом антисоветской толпы, осадившей Центральный комитет. Все эти отщепенцы, тысячи, миллионы отщепенцев! Видеть себя бредущим к так называемому «Метро Лубянка», нести остатки последней «кремлевки»… Ей-ей, врагу не пожелаешь таких сновидений. Вам куда сейчас?»
За время аудиенции погода над площадями коренным образом изменилась. Стеклярус позднего социализма сменился каруселями влажного ветра, раскручивающего поверху сонмы советского воронья, а понизу самумы рыночного мусора из банановых ошметков, целлофановых клочков, мятых алюминиевых банок и одноразовых сморкалок. Между этими двумя каруселями шла и третья, в которой крутились башки людей, в том числе и моя. Превращения будущего в прошлое были так стремительны, настоящее столь невесомо, что казалось, будто обратные революции, то есть круговые потоки вспять, зависят от одного лишь ветра. «Ветер-ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, не боишься никого, только Бога одного!» Это уже совсем издалека, от старой бабушки, чья плоть давно истлела на Арском поле, но чья суть вдруг возникает из туч при мгновенном воспоминании.
Старик, идущий рядом со мной, вдруг напомнил о своем существовании. «Все, что угодно, готов отдать: власть, величие, социальные задачи, оставьте мне только одно: нашу философию! Только в отрицании всех и всяких форм идеализма – моя незыблемая крепость! В мире нет ничего, кроме материи, и напрасно не ищите!» С этими словами он покинул меня и присоединился к цепочке уличных торговцев, что растянулась вдоль тротуара, неподалеку от выхода из метро. Зажав портфель между ног, он стал вынимать из него то, что там было на продажу.
Ну а мне не оставалось ничего, как пройти чуть ниже, мимо роскошеств «Метрополя», и сесть на скамейку за гранитной спиной мужиковатого Маркса. Билет на «Бритиш Эруэйз», два паспорта, остатки рублей и валюта, все было в сборе. В воздухе попахивало снегом и кислотным осадком недавнего мятежа. Заканчивалось свидание с молодостью.
Дневниковые записи, реплики, отклики
Из записных книжек Василия Аксенова (1962–1965)[23]
В американском архиве Василия Аксенова есть потертая записная книжка без алфавита в коричневой матерчатой обложке. В ней среди других рукописных текстов находятся помесячные записи событий с декабря 1962 года по март 1965-го, сделанные ровным разборчивым аксеновским почерком. Эти записи воскрешают в памяти и бесславные для руководителей Советского Союза встречи с творческой интеллигенцией (декабрь 1962-го и март 1963-го), и замечательную песенку Владлена Бахнова о Коктебеле – ответ на ретроградский выпад в центральной прессе ревнителя коммунистической нравственности Аркадия Первенцева, и постановку пьесы Аксенова «Всегда в продаже» в только что родившемся театре «Современник», и многие другие события того времени. Немало здесь и довольно интимных записей, касающихся личной жизни автора «Коллег», «Звездного билета» и «Апельсинов из Марокко». На страничках записной книжки Аксенова мелькает множество имен, часть которых, увы, ничего уже не говорит даже для доживших до наших дней аксеновских современников.
Особое место в дневнике занимают дорожные впечатления от поездки в Новгород, а также довольно подробное описание архитектурных и духовных памятников Новгорода, что стилистически отличает эти записи от аскетического лаконизма остального текста.
Полувековая давность записей, а также предельная лаконичность основной части дневника потребовала, конечно, множества примечаний, которые превосходят комментируемый объем более чем в два раза. В комментировании аксеновских записей, необходимом для адекватного прочтения их сегодняшним читателем, согласился принять участие Анатолий Гладилин, старейший и вернейший друг автора дневника. Это тем более уместно, что имя Гладилина множество раз упоминается в аксеновском тексте. Поскольку роль комментатора-литературоведа не очень привычна для именитого представителя прозы шестидесятых или, если выразиться более откровенно, она ему как бы не по чину, его комментарии-воспоминания написаны в свободной художественной манере и принадлежность их к Гладилину оговаривается особо.
К сожалению, даже участие Анатолия Гладилина и помощь других современников и друзей Аксенова в комментировании его дневниковых записей не позволили избежать пробелов в примечаниях, такие пробелы остались.
Тем не менее, хочется надеяться, что публикация записных книжек Василия Аксенова позволит сегодняшнему читателю мысленно окунуться в атмосферу шестидесятых годов прошлого века и в события, оставившие явственный след в биографии одного из ярчайших представителей поколения шестидесятников.
Виктор Есипов
Декабрь 1962
Япония. Возвращение из Японии[24]. Ночь. Мороз. Шереметьевские березы. Рассказ о Манеже [25] и первой товарищеской[26] встрече.
ЕЕ., Р.Р[27]. Встреча в Идеологической комиссии[28]. Выступления. Б.А. и Ф[29]. Художники показывают паспорта[30]. Приподнятое настроение. Остановлены «Апельсины»[31]. По телефону с И[32]. Где была встреча Нового года? ЦДЛ? Да!
Январь 1963
Морозы, пьянство, полет к Стасису[33]. Лопнула бутылка. Несколько дней в «Неринге»[34]. Любимый поэт японской молодежи[35]. Возвращение с Р. и А.[36] Морозы. С Полевым[37] к И.[38] Опоздание на 20 минут. Картины. Разговор о Пикассо. Трагедию[39] в фарс.
Крещенские морозы. Пьянство и общая мрачность.
Февраль
Со Стасиком[40] в Ленинграде. Наташа[41]. Восточный[42]. Дубулты. Толька[43], Стасик, Сэм[44], Стасик Куняев в «Охотничьем»[45]. Гонорар за «Апельсины». Sony. Бездарные интриги совместно с Толькой[46]. Безудержное веселье. Укоризны. Кикок[47]. Моника[48]. Февральские катания. У Тольки вышла повесть[49]. Света[50]. Работа над «Лабораториум»[51]. 3 марта М[52]. провожает в Румбула[53]. Оттепель.
Март
7 и 8 марта[54]. Оттепель. Через площадь[55] с Тарковским и Вознесенским. Цыганка в потоке машин.
Вечером в ЦДЛ. Загадочно улыбающийся Е.Е.[56], Эрнест[57], Гриша[58].
Приступы у Киры.
11 улетаю в Аргентину[59]. Париж. Аргентина. Возвращение из Аргентины. Газеты в Бурже[60]. Встреча в Шереметьево. Мороз и солнце. Дети Ливанова[61]. Сообщение о Женьке[62]. Встречи с Вит., с Сартаковым[63]. Пленум РСФСР.
Ответственность.
Приступы у Киры[64].
Апрель
Жуткий месяц. Пьянство, кошмары, приступы у Киры и больница.
Разрывы договоров, рассыпан набор сборника[65]. Плохие разговоры с мамой[66]. Приезд отца[67]. Деньги за «Мосты»[68].
Ссора с Женькой[69]. Дорошина[70]. Свадьба Леонова[71]. Нелепость полная.
Май
1 мая у Толмачевой[72]. Истерика Корнилова[73]. Моя истерика. ВТО, ЦДЖ…
Операция. 2-я градская. Бегство Роберта[74]. 2 недели в «Европейской»[75]. Приезд Моники[76]. Нелепость. Проводы М[77]. Таинственная ночь. Солнце в Ленинграде.
В Черемушках работаю над «Лаб»[78].
Июнь
Кратово[79]. Малеевка[80]. Работаю над «Лаб». Хорошо. Шашлыки в лесу. Евдокимовы[81], Шеровский[82], Елена[83] и т. д.
Июль
Кратово и Москва, Лена на велосипеде. Приезд отца. Поездка в Покровское[84]. Возвращение. Вызов к Ильичеву. Сурков[85], Бажан[86], Леонов[87], Рюриков[88], Сучков[89], Анисимов[90] и т. д.
О симпозиуме.
Мартин Либерман[91]. Японцы. Драка в ВТО. С Эмкой[92] спор с Либерманом у нас.
Август
Ленинградский симпозиум. Натали[93], Пенго[94], Роб-Грийе[95], Энгус Вилсон[96], Голдинг[97], Рихтер[98], Эйценсбергер[99] и т. д. Выходка Соболева[100]. Ужин с Эренбургом. Встреча с Евт. Примирение. Выступление. Кадрение в порту. Булат. В Москве катание на пароходе. Вигорелли[101], Рихтер, Энценсбергер и финны[102] у меня. Потом Натали[103]. Ужин с ней в ВТО.
Вылет в Коктебель.
В Коктебеле хорошо. Патрулирование Светы[104]. О Первенцеве Вл. Бахнов[105]. Походы, при…(нрзб), купания, вино, день рождения.
В последний день дикая ссора с Кирой.
Сентябрь
Кратово. Работа над «Лаб». Визит Юрки Акимова[106]. Дождь.
Вторая половина в Переделкино. Золотая осень. Запорожец[107]. Толька[108]. Мишка Демиденко[109] (случай с ним в темноте), Саша Межиров. Внуково, мотель, ЦДЖ. Света. Истерика.
Октябрь
Толька с Машкой[110]. Возвращение из Переделкино. Ссора с Кирой. Бегство в Ригу. Моника. Бегство от Моники[111]. Ночлег у Илана[112]. Пьянство. Отъезд.
В Москве – примирение. Заканчиваю пьесу[113]. В «Юности» «Лаб» отклоняют. Встреча с Ильичевым по поводу сборника.
Знакомство с Леной[114] у них.
Ноябрь
Встречи с Леной. Заканчиваю пьесу. Влюбленность в Лену. В «Новом мире» «Лаб» отклоняют. Сдаю в «Молодую гвардию». Сдаю в театр пьесу[115]. Интриги Плучека против Ефремова. Встречи со Стейнбеком и Олби.
Декабрь
С Леной в Ялте. Возвращение. Читки пьесы в «Современнике». Невозможность встреч. Знакомство со Стальной[116]. У Киры аборт. Разговоры в «Молодой гвардии».
Встреча Нового года в ЦДЛ. Приход туда Лены[117]. Стыд и тоска.
Январь 64
Разоблачение по телеграмме[118]. Ужас. Жалею Киру. Всеобщее замешательство. Звонки. Ужасные сцены. Чуть ли не разрыв. В Переделкино пишу новую главу для «Лаб». Повесть принята[119]. Кое-как сцепленная семья.
Февраль
Редкие встречи с Л. Пьянство с Гнеушевым[120]. ЦДЛ, ЦДЖ, ВТО. Вышла «Катапульта»[121].
Март
Отъезд в Л-д с «Юностью». Сумасшедший дом. Сцены Киры и Беллы[122]. Отъезд в Дубулты. В Дубултах Толька[123], Стасик[124], Гриша[125]. Дружба с Гришей. Выпивки. Алла[126]. Вся эпопея со Стальной и Тамарочкой[127]. Письма от Лены. Разные. Письма от Киры. Уезжает в Карловы Вары.
Написал сценарий[128].
Апрель
Готовимся к отъезду в Таллин. Телефонограмма: «Лаб» остановила цензура. Выезд в Москву. Кира в Карловых Варах. Возня с повестью. Визиты к Камшалову[131]. Разрешили. Слухи о Лене и Илье. Не звоню, не встречаюсь. Повесть вышла[132]. Вернулась Кира. Радость моя, Кит. Выступление в идеологической комиссии. Поездка в Таллин вместе с Эрнстом[133] в поисках дачи. Клога – Рад[134] пустой под ветром. Конец контактной подвески[135].
Договор с Кон. Дан. Еж. Каз[136].
Загул. Лена. Платок.
Май
Договора на «Мосфильме» не заключают. Интриги вместе со Стальной[137]. Отъезд со Стасиком[138] в Грузию. В Грузии Отар[139] и Томаз[140], Гурам Асатиани[141]. Возвращение из Грузии. Кира едет в Таллин. Лена с Чудаковым[142] ходит в ЦДЛ по мою душу. Встретились. Пошли к Вайсбергу[143]. Потом мы у Гладилина. Возобновились редкие встречи.
Июнь
Неслыханная жара. Семинар под Подольском. Замечательно. 4 дня спорта и дружбы. Стальная крутится. Возвращение из Подольска. Китяра один во всем дворе, носится в траве. Заключили договор[144]. Получил деньги предпоследним, встреча с Леной. Пен-клуб[145]. Отъезд в Кейла-Йоа[146] со всем барахлом и с Пашей[147]. Кит в окне.
Июль
Прекрасный месяц в Кейла-Йоа. Написал пять рассказов[148]. Катания, прогулки. Кит купается в море. Пустой пляж, лес, водопад. Л[149]. Не приехала. Поездка в Пирита[150].
Август
Явилась Стальная на автомобиле. Поездка в Таллин. Загуляли. Работа над сценарием. Кира уезжала в Москву на 4 дня. Встречи в Таллине с читателями. Путешествие. Хаапсалу, Лухула, Пярну, Таллин, Нарва, Ленинград. Штучки Стальной[151]. У Ахматовой. Встреча с Горышиным[152]. Обратно вместе. День рождения[153] в ресторане «Таллин». Кяннукук[154]. Витька – матрос[155]. Кира, Кит, Паша на самолете. Жуткое волнение[156]. Слава Богу, все кончилось благополучно! Улетаю сам.
Сентябрь
В Москве интриги. Стальная свалилась в Ленинграде. В Переделкино работаю над «Путешествием»[157]. В «Новом мире» рассказы отложили. Четыре из пяти приняли в «Юности»[158]. В конце месяца вылетаю в Одессу[159].
Октябрь
Одесская эпопея с Конецким, Казаковым, Ежовым[160], Данелия[161]. Мюзик-холл. Флотилия «Слава»[162]. Бегство во Львов, а Казакова в Казахстан. Инкогнито во Львове. Пишу грузинский очерк[163]. Разоблачили. Толик Конов[164] – менеджер. Знакомство с Соснорой[165]. Особняк Вики Малеевой[166]. Очень хорошие отношения с мамой[167]. Тонька[168] – взрослая девица. Отъезд в Москву.
Ноябрь
Начался бурными ссорами. 2 тысячи долгов. Последняя встреча с Леной. Отар[169], Гурам[170], Мишель[171]. У Гнеушева начало репетиций в «Современнике». Работа над пьесой[172]. В конце месяца рассчитался с долгами.
Джон Чивер[173].
Декабрь
Поездка в Харьков. Алик Гуревич[174], Вал. Харченко[175], Юра Турчик[176], Леонтович[177], Нелка[178], Ушанги[179], Вика. Возвращение. Ссоры. Работа над пьесой[180]. Репетиции. Джон Апдайк[181]. Евтушенко, Лена в ВТО и после танцы у Е[182]. Вылет в Краснодар к Садовникову[183].
Вышли рассказы[184].
Краснодар, Новороссийск, Абрау-Дюрсо. Возвращение, встреча с чехами. Ссора с Балтером[185]. Злюсь. Свадьба Садовникова[186]. Встреча Нового года в ЦДЛ. Все то же и все те же.
Январь 65
На даче у Евтушенко. 8-го летим в Фрунзе[187]. Фрунзе. Айтматов. Петрусь Бровка поражен моим откровением. Ал. Михайлов[188]. Вл. Мак. Пискунов[189]. Гостиница в горах. Арык. В кафе наболтал много пьяного вздора. Шимгуд-мэн. Возвращение в Москву. Репетиции в театре[190]. Пять дней в Малеевке. Работа над пьесой и над Звездным. Репетиции. Отослал в Ленинград сценарий[191]. Большой худсовет Мосфильма. Пьянство с Рекемчуком[192]. Клуб «Юности». Отравление. Кира.