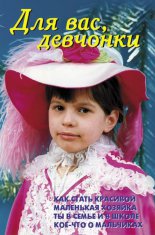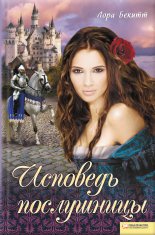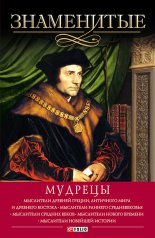Одно сплошное Карузо (сборник) Аксенов Василий

Уместно тут вспомнить, чем была Прибалтика для русских писателей моего поколения. Ее недолгая свобода разлила над теми берегами такую стойкую ауру, что мы как завороженные приковывались взглядами к закатам за готическими шпилями. Анатолий Гладилин писал о перекрестках этой «малой Европы», которая за «железным занавесом» заменяла нам Европу большую. В 1960 году, попав на военные сборы корабельных врачей, я был очарован Таллином, и именно в Эстонию сбежали юные герои «Звездного билета» в знак протеста против стереотипов советской жизни и официальной комсомольской романтики.
В шестидесятых годах в Дубултах каждую зиму возникала вольная колония русских и прибалтийских молодых писателей. В июньские белые ночи мы вместе с латышами собирались вокруг костров полулегального национального праздника «Лиго». Однажды, когда этот праздник был полностью запрещен как буржуазный и националистический, мы со сцены актового зала Рижского университета потребовали: «Руки прочь от Лиго!»
Как-то раз трое ребят в Пирита ночью показали мне подкладки своих пиджаков. Там были нашиты четырехугольные лоскуты с тремя цветами национального флага, белым, синим и черным. За такие дела тогда полагалась тюрьма. Я попросил у них дать мне такой же лоскут и с юношеским трепетом, хотя мне было в ту пору уже 28 лет, пришил его к подкладке своего пиджака. С тех пор при встречах мы отворачивали свои пиджаки и тайком показывали друг другу флаги независимой Эстонии.
Молодые писатели в те годы никогда не изображали из себя по отношению к прибалтам омерзительную фигуру «старшего брата». Напротив, мы испытывали некоторый пиетет по отношению к нашим европеизированным собратьям хотя бы потому, что некоторые из них не забывали пользоваться салфеткой. У меня была масса друзей среди прибалтийских писателей, киношников, музыкантов, особенно много в Вильнюсе, чуть поменьше в Риге и Таллине. Мы никогда не спорили о балтийской свободе, потому что она была непреложной частью общего контекста. И вот теперь, оказывается, все это, даже и в сугубо литературном ключе, не наше дело.
В январе 1991 года я был в Москве. Вдруг начались панические звонки: все кончено, перестройка задушена! Спецчасти атакуют литовское телевидение, в Риге ОМОН собирается захватить здание Верховного Совета. Я вышел на улицу. Пушкинская площадь бурлила, как сверху, так и в подземных переходах. Народ собирался кучами, отовсюду слышались слова: Литва, Латвия… Вспоминая 1968 год, вторжение в Чехословакию, я подошел к одной большой группе. В те далекие уже времена основная масса московского люда была настроена против чехов. Кричали: Фашисты! Гады! В Германию хотели переметнуться! За что мы боролись! Что-то в этом роде я ожидал услышать и сейчас. Услышал – противоположное. Уличная братия громко кричала хулу «коммунягам» и поддержку литовцам и латышам. Один пытался их урезонить. Что вы орете, братцы, в тюрьме все окажетесь! Братва повернулась к нему с большими неприличными жестами. Это, может, ты в тюрьме окажешься, а мы больше никогда!
Тогда я понял, что психология народа полностью переменилась и к прошлому им, нашим общим поработителям, уже не повернуть. Очень жаль, если теперь все начнет снова загибаться в каком-то хоть и новом, но снова паршивом, антидемократическом направлении.
Итак, я русский шовинист, поскольку в своей статье в «Вашингтон пост» упомянул о закрытии в Риге самого передового и широко известного городского театра, русского Театра юного зрителя, а тот, кто этот театр закрыл, – латвийский патриот. Все очень просто, такие нюансы, как «держиморда» и «либерал», уже никому не нужны.
Мой оппонент профессор экономики из Джорджтаунского университета Джордж Викснинс, видимо, часто бывает на своей родине в Латвии и знает обстановку достаточно хорошо. Тем не менее он критикует меня за то, что я написал о напряжении между латышами и русским меньшинством. Конечно, говорит он, генералы и полковники КГБ, расположившиеся на уютных дачах вдоль Рижского взморья, должны чувствовать себя неуютно в эти дни. Многие, возможно, должны предстать перед судом за соучастие в казнях, арестах и высылках сотен тысяч балтов.
Ну, вот уже я и оказался защитником генералов и полковников КГБ. В самом деле, где им еще найти более ревностного адвоката? Странно очень строится полемика: оппоненту не нравится один аспект, и он для того, чтобы отвергнуть, тут же подменяет его другим. Среди миллиона русских душ, населяющих Латвию, далеко не все являются генералами и полковниками КГБ, сидящими на приморских виллах, а напряжение между тем существует и все усиливается. Это меньшинство слишком велико, чтобы смириться с ролью граждан второго или третьего сорта или вообще не-граждан. Поэтому я и писал о том, что латвийские власти, отказывая им в правах, вместо того, чтобы сделать из них законопослушных граждан демократического государства, готовят бомбу замедленного действия.
Забирая все мористее и мористее на своем полемическом челне, профессор Викснинс изображает дело так, будто я злорадствую над тем фактом, что многие рижане плохо понимают по-латышски. С торжеством он доводит до моего сведения, что улица Ленина переименована в Бривибас иела, то есть улицу Свободы. Хочется напомнить ему, что с целью избавиться от Ленина русские возвращаются даже не к своему, а к голландскому языку, как это случилось с Санкт-Петербургом. Хочется также спросить, переименованы ли на латышский улицы Стучки, Пельше, Калниньша и десятков других латышских коммунистов?
Я прекрасно понимаю серьезнейшую опасность языковой ассимиляции, перед которой стоит небольшой народ Латвии, иначе я бы не рассказал с возмущением в своей статье об омерзительной сцене, свидетелем которой я был в Риге много лет назад, когда продавщица закричала на латыша, обратившегося к ней по-латышски: «Ты что, человеческого языка не знаешь?» Господин Викснинс, однако, об этой сцене не упоминает, ему важно представить меня русским шовинистом.
А между тем на эту тему надо не дергать друг друга за галстуки, а говорить всерьез. Один латышский писатель в свое время мне говорил: «Наши традиции умирают, надо дать им умереть. Проблема языковой ассимиляции стоит перед каждым малым народом. Ирландцы говорят по-английски, корсиканцы по-французски. Если латыши отвыкнут от русского, не исключено, что через некоторое время они заговорят по-немецки. Не исключено также, что к ним присоединятся оставшиеся в Латвии русские, и по прошествии нескольких поколений население Латвийской Республики будет говорить на новом, латвийско-немецко-русском языке».
Профессор Викснинс сетует, что девяносто процентов бизнесов в современной Латвии принадлежат не-латышам и что большинство владельцев шикарных западных автомобилей на улицах Риги не говорят по-латышски. Хочешь не хочешь, говорит он, для изменения ситуации потребуется какая-то политика сродни американской «аффирматив экшэн», то есть политики предпочтения для этнических меньшинств. Это, пожалуй, самый туманный пункт моего оппонента. Что же, отбирать, что ли, «Мерседесы» собираются? Надеюсь, что до этого все-таки не дойдет в государстве, претендующем на звание демократического, а речь пойдет лишь о предоставлении латышским бизнесам лучших кредитов. В качестве поверхностного наблюдателя прошлым летом я заметил, что аффирматив экшен уже существует для принятия в администрацию или в полувоенные формирования. Впрочем, пардон, это абсолютно меня не касается, это действительно не мое дело.
Я совершенно согласен с профессором Викснисом, что Латвия должна как можно скорее избавиться от остатков российских военных гарнизонов и от монстров мегаломанической советской индустрии и на этой примирительной ноте я бы так и хотел закончить нашу полемику, если бы в самом конце своего письма он снова, как будто за карточным столом в Лас-Вегасе или Атлантик-Сити, не передернул карты.
Вспомнив опять все тех же полковников КГБ, господин Викснинс пишет, что только лишь закрытие нескольких специальных магазинов для этой братии да увольнение рабочих, строивших ракетные системы, можно подвести под статью нарушений прав человека в Латвии, в том смысле, что нельзя подвести под эту статью ничего. Боюсь, что с этим могут не согласиться очень многие там, в Латвии. Хоть это и не мое дело, но ситуация там значительно серьезней.
Профессор Викснинс приглашает меня посетить его родственников в Латвии, но в то же время он никак не хочет меня видеть в роли предъявляющего свои права собственника на Дом творчества в Дубултах. Мистер Викснинс, если бы и были у меня какие-нибудь права на «Дубулты», я охотно передал бы их вам. Только не устраивайте там казино, неизбежно прогорит. Вы не хотите, чтобы я вмешивался в латвийскую политику? Это вполне совпадает и с моим желанием, тем более что я никогда в нее и не вмешивался. Статья моя все-таки была напечатана не в латвийской газете, а в американской, в секции «Кругозор», специально существующей для выражения разных мнений. За приглашение же посетить ваших родственников спасибо, не премину им воспользоваться.
На следующий день после публикации письма профессора Викснинса «Русский шовинизм, громко и отчетливо» мне позвонил латвийский журналист. Мы стали говорить на все эти темы без всяких взаимных обвинений, а просто пытаясь разобраться, какие опасности существуют на самом деле, а какие возникают в результате слухов, а то и любимого дела компартии – дезинформации. Мой собеседник показался мне человеком вполне интеллигентным и непредубежденным.
Разговор снова зашел об этой пресловутой «бомбе замедленного действия». Если она взорвется, сказал я, то есть если возникнет бунт русского меньшинства, это вызовет не только кризис в Латвии, но и колоссальный слом по всей территории СССР, и прежде всего в Москве. Российское демократическое правительство будет загнано в тупик.
«А вы все еще считаете российское правительство демократическим?» – спросил журналист. «Пока да», – сказал я.
В конце разговора со мной произошел небольшой психологический казус. «Откуда у вас появились все эти ваши сведения о Латвии, Василий Павлович?» – спросил журналист. Я ответил, что из разговоров с людьми. С какими людьми? С писателями в основном. Вы не можете вспомнить, с какими именно писателями? Я вдруг почувствовал, что мне не очень хочется называть имена.
Странная история, подумал я, ведь не опасаюсь же я за них. Ведь не может же быть, чтобы в демократической стране кому-то повредило упоминание в газете, даже и в таком злободневном контексте. Имена, тем не менее, упоминать не хотелось.
1993 (?)
Речь побеждает вой
Одним из синонимов для понятия Радио «Свобода» может быть слово «альтернатива». Сорок лет назад, в 1953 году, у советских людей никаких альтернатив не было. Расцвет советского, да еще и самого что ни на есть сталинского коммунизма. Даже представить себе что-нибудь другое для гигантской, обтянутой по всем периметрам колючей проволокой страны было невозможно. Нужно было обладать каким-то особенным чувством истории, каким-то особенным – я бы сказал, сугубо американским – хладнокровием, чтобы организовать и выйти в эфир с альтернативной идеей столь дальнего прицела.
Критически относясь ко многим аспектам американской жизни, следует тем не менее признать, что загипнотизировать Америку еще никому не удавалось. Пилигримская и пионерская основа ее ментальности всегда помогала ей выдвигать альтернативы в самых, казалось бы, безальтернативных ситуациях. Примечательно также то, что все американские альтернативы так или иначе бывают увязаны не только с идеологической, но и с технологической стороной дела.
Можно разглядеть Божий промысел в том, что такие таинственные технологии, как радиовещание, то есть передача речи поверх всех барьеров на огромные расстояния, становились главными средствами борьбы в двадцатом веке против тирании и массовых жестокостей.
Уже самое начальное и несовершенное, зародившееся в Лондоне в ходе Второй мировой войны антифашистское вещание доставило Гитлеру немало хлопот, ободрило немало отчаявшихся сердец. Возникни разветвленное и мощное, типа современной «Свободы», радиовещание в тридцатых годах, сталинской банде, может быть, и не удалось бы провести массовый террор в желанных масштабах.
Помнится, отец рассказывал мне, как в их лагере стало известно, что некая радиостанция сквозь неистовый вой глушилок передает номера лагпунктов и имена начальников вохры, отличающихся особенно жестоким отношением к заключенным. Режим тогда явно смягчился, у вохровцев очко сыграло. На отчетливом русском языке до их сведения доводилось, что в мире, пока хотя бы только в мире идей, существует альтернатива их гадской власти.
Не было у коммунистов врага страшнее, чем радисты «Свободы». Вся наша молодость прошла под знаком бесконечных проклятий в этот адрес, а также бесконечных гнусных карикатур всяких Кукрыниксы и Борисов Ефимовых, на которых перед микрофонами изображались извивающиеся чудища со змеиными языками.
Эта так называемая «контрпропаганда», хоть и не вызывала у советских людей соответствующего накала священной ненависти, достигла своей цели в одном – все, что было связано с Радио «Свобода», казалось, было пронизано высочайшим током опасности и провокации. Даже и в самые мягкие периоды ослабления международной напряженности, когда иные либеральные деятели советской литературы соглашались выступить на «Голосе Америки» или Би-би-си, интервью «Свободе» казалось чем-то если не самоубийственным, то непростительным. «Голос» и Би-би-си обладали все-таки некоторой респектабельностью как правительственные учреждения, за «Свободой» же подразумевались разведка и контрразведка, какие-то таинственные операции «плаща и кинжала».
В 1975 году мне после девятимесячной борьбы удалось пробить поездку по приглашению в Калифорнийский университет. Незадолго до отъезда со мной беседовал какой-то крупный чин КГБ. «А вы знаете, что некоторые ваши товарищи из числа новых эмигрантов скатились до самого черного дна, до сотрудничества с радиостанцией «Свобода»?» – спросил он и назвал имена Галича, Максимова, Коржавина, Свирского. Я представил себе этих людей, сидевших на этом самом «черном дне», и оно мне показалось чем-то вроде знаменитой «московской кухни».
Эмиграция росла, и компания «черного дна» расширялась, вскоре там появились Анатолий Гладилин, Виктор Некрасов, Наталья Горбаневская, Александр Гинзбург, Эдуард Кузнецов… Уже сами эти имена рассеивали демонический ореол вокруг «Свободы». Радиостанция заговорила голосами современной тираноборческой России. Кагэбэшным дезинформаторам все труднее стало проводить свои тезисы о продажности и церэушности.
Когда подошла моя очередь на пинок в зад, я стал время от времени сотрудничать со «Свободой» и никогда не пожалел об этом. Однажды в 1985 году в моем вашингтонском доме появился бывший товарищ, ставший порученцем оттуда. Он стал активно передавать мне претензии своего начальства и среди прочего, а может быть, и прежде всего, нарекания в том, что я выступаю на волнах «Свободы». Посмотри на меня, говорил он, ведь я же не выступаю по «Радио Москвы», а ты выступаешь на чужой радиостанции. Послушай, сказал я ему, на «Радио Москвы» нужно врать, а на «Свободе» не нужно. Как ты думаешь, что лучше: врать по своему радио или говорить правду по чужому?
Ироничная, современная, глубоко интеллектуальная среда «Свободы» уже самим своим существованием отрицала возможность вранья и провокаций. В этой среде всегда существовало и существует настоящее понимание роли писателя у микрофона. В принципе, я всегда работал в атмосфере доверия еще с тех времен, когда моим непосредственным редактором был скромнейший и преданнейший делу Борис Оршанский. Все свои темы я определял сам и постепенно пришел к тому, что я сейчас называю «радиодневником писателя».
Были годы, когда речь «Свободы», казалось, полностью тонула в реве коммунистических глушилок. Заслон был настолько тотальным, что возникали уже предложения о закрытии всего предприятия как провалившегося. К счастью, это не состоялось, альтернативная станция продолжала вещание, и, как сейчас, оказалось, речь все-таки проникала сквозь рев. Даже и в Сибири, и на Урале находились люди, которые исхитрялись записывать наши голоса на магнитофоны, а потом очищать их от прилипшей грязи.
Сейчас разговоры о том, кто работает на чужой, а кто на своей радиостанции, кажутся смехотворными и постыдными. Кроме последышей вохры и гэбухи, никому уже не кажется зазорным сотрудничество со «Свободой». Дикторы московского телевидения почти в каждой сводке новостей ссылаются на передачи радиостанции. Талантливые российские журналисты приносят свои скрипты в московское бюро некогда столь страшного радио.
В этой обстановке иногда можно услышать мнение, что радио сделало свое дело, радио может закрыться. Это, конечно, неверно. Борьба за демократические идеалы далеко не закончена. Коммунизм – это лишь одна из личин тоталитаризма. Сейчас, на его руинах, уже появляется множество новых зловещих физиономий, повсеместно поднимает головы слепой от бешенства национализм. К своему сорокалетнему юбилею Радио «Свобода» благодаря накопленному опыту и интеллектуализму становится снова важнейшим фактором поддержки демократических сил.
1993
Люди в ловушках, бесы гуляют
Всвязи с частыми перемещениями между Москвой и Вашингтоном я стал иной раз испытывать некоторую двусмысленность. Проснувшись однажды и включив телевизор, чтобы узнать новости, подумал: почему они сегодня говорят с британским произношением? Лишь через минуту сообразил, что я не в Америке, и это просто «Останкино» передает программу ВВС без перевода. Еще одно странное, и на этот раз не такое безобидное, телевизионное впечатление. Однажды вечером в Москве я смотрел популярную программу «Времечко», в которой трое ведущих, один гладко причесанный, другой всклокоченный, третий – красивая женщина, отвечают на телефонные звонки зрителей. Вдруг в ровное течение беседы врезался истерический голос: «До каких пор мы будем терпеть этих черных?! Пора от них избавиться раз и навсегда!» Пораженный, я вскочил. Каким образом здесь на телевидении оказалась расистская группа White Supremacy[334] и как они осмеливаются открыто нападать на афроамериканцев? Лишь с опозданием я понял, что этот звонок не имеет никакого отношения к американским делам, и вспомнил, что «черными» в Москве называют не негров, а кавказцев. Мрачная ирония состоит в том, что в Америке Caucasian означает «человек белой расы». Оказалось, что «черные», в данном случае чеченцы, только что обманули этого нервного бизнесмена на три тысячи долларов.
Увы, для многих людей в России «чеченец» является синонимом «мошенника». Еще в последнее «советское» лето 1991 года я стал свидетелем паники на Измайловском «блошином рынке», когда на торговцев напали чеченские рэкетиры. Народ сбежался, в том числе и многие свои блатные молодчики, разносился клич «Бей Чечню!». Это была как бы одна из многочисленных репетиций нынешних трагических событий. Больше всего я боюсь, что эти события вызовут взрыв шовинизма в России. Пока этого, слава Богу, не происходит. Напротив, публика как бы симпатизирует простым чеченцам, жертвам государственного погрома в Грозном.
Советская идеология оставила в наследство новой России огромную бомбу своей «ленинской национальной политики» с ее ханжеским постулатом «вечной и нерушимой дружбы народов СССР», с ее искусственно прочерченными границами и с ее кадрами коррумпированной национальной партбюрократии. Джохар Дудаев был не кем иным, как членом этой обнаглевшей партбюрократии в ее военном варианте. Сейчас ленинская бомба с шипением кружится на Кавказе.
Спору нет, идет исторический и вряд ли остановимый процесс дезинтеграции вековой российской империи. Когда-то мы мечтали о возникновении содружества демократических республик. Сейчас перед нами стоит угроза возникновения многочисленных фашистских диктатур в отделяющихся этнических регионах. Под угрозой уже не империя, а «российская цивилизация», которая сквозь все препоны пытается найти свое место в демократическом мире.
Весьма любопытны исторические параллели, что появляются в связи с чеченскими событиями в американской прессе, которая на этот раз почему-то нередко отступает от своей традиционной непредвзятости и изображает ситуацию в голливудском духе: good guys and bad guys[335]. С подачи Збигнева Бжезинского параллели проводятся либо с колониальными войнами, либо с советскими оккупациями Венгрии, Чехословакии, Афганистана.
Легче всего, однако, российская операция в Чечне поддается сравнению с совсем недавним американским штурмом Панамы. В обоих случаях речь шла об удалении периферийного криминального режима, который мог дестабилизировать метрополию, причем в американском случае дело было менее законным, поскольку проходило на территории независимого государства. Панамская операция, однако, была отлично спланирована и профессионально исполнена, что привело к меньшему числу жертв и не вызвало возмущения внутренней и мировой общественности.
Бжезинский, всю жизнь боровшийся против советского империализма, и сейчас размышляет в прежнем ключе, делая из России все того же советского монстра, а из фашиста, генерала Дудаева, едва ли не романтического борца за свободу, безупречного рыцаря своего «маленького, но гордого народа». Между тем, по сравнению с ним генерал Норьега выглядит сущим либералом. В условиях распада российского конгломерата личности типа Дудаева с их криминальным мессианизмом представляют страшную опасность не только для России, но и для всего мира. Идиотское бахвальство, угрозы сжечь Москву, развалить «колосса на глиняных ногах» были бы смешны, если бы не огромное количество скопившегося там оружия. Слетают порой с языка и какие-то темные ядерные намеки. Вожди окружающих Чечню маленьких республик живут в постоянном страхе перед свирепой дудаевской гвардией. Видя теперь, как они умеют воевать, мы понимаем, что они легко могли бы уничтожить, скажем, Грузию или Дагестан.
У меня нет ни малейшей симпатии к скопившейся сейчас вокруг Ельцина группе старорежимных коммунистических аппаратчиков и уж тем более я не испытываю приязни к бесноватым в своей тупости постсоветским генералам. Это они с их бездарностью и наплевизмом (вечный советский гонор – «шапками закидаем!») умудрились превратить полицейскую акцию в колониальную войну против целого народа. Они же, сохраняя своих элитных опричников, пустили в первый серьезный бой сосунков-первогодков: авось, мол, и так сойдет. Стойко проследовав за давней российской традицией бессмысленных жертв, генерал Грачев проливает теперь крокодиловы слезы по «мальчикам, умиравшим с улыбкой на устах». Школу советской армии не так легко забыть. В результате главный мазурик превращен теперь в мифологический образ вождя свободолюбивого Кавказа. А ведь можно было бы, скажем, исключить дудаевскую Чечню из состава Федерации, блокировать границы, защитить железную дорогу, и тогда все пошло бы по другому, не столь жестокому сценарию.
И все-таки это уже не советская армия. Когда в 1944 году Сталин депортировал многие народы Кавказа, в том числе чеченцев, армия не оставила никому никаких надежд на сопротивление. Теряя несчетно своих, красные уж подавно не щадили чужих. У нынешней армии на рукавах все-таки трехцветные нашивки российской демократии. Эта армия отказалась проводить коммунистический переворот 1991 года и подавила красно-фашистский бунт 93-го. Все-таки она принадлежит стране с многопартийным парламентом, стране, в которой практически не существует цензуры, где телевидение, радио и газеты освещают мельчайшие подробности позорной войны, где люди не боятся правительства, стране с открытыми границами и нарождающейся системой свободного предпринимательства.
Такое общество, если говорить о Федерации в целом, несовместимо с режимом, подобным дудаевскому. Провозглашенная в послеавгустовской горячке «независимая Чечня» быстро превратилась в восточную деспотию современного террористического стиля. Провинившегося мэра там выбрасывали из окна президентского кабинета, на главной площади там для устрашения выставлялись отрубленные головы врагов-кровников, захват заложников и вымогательство выкупа стали там рутиной, российские поезда, идущие в Закавказье, подвергались там постоянным грабежам. Нет сомнения, что в Чечне назревал геноцид (в лучшем случае высылка) русского населения. В переполненной оружием стране автоматы продавались прямо на базарах и нередко тут же, на базарах, пускались в ход. Американский журналист год назад напечатал репортаж о Чечне под заголовком «Страна бандитов». Теперь тот же журналист, должно быть, пишет о «борцах за свободу».
Только лицемер не заметит, что определенное число чеченской молодежи сплотилось вокруг Дудаева в стаю бесов, похваляющуюся своими стволами. Сексуальная подоплека современных «малых войн» с их «рэмбоизмом» очевидна. Недаром в Боснии, а теперь и в Чечне наблюдались случаи кастрации пленных. Для бесов не существует законов человеческого общежития, если не считать закона кровной мести.
Печально, что именно вокруг этой бесовщины откристаллизовалась светлая идея национальной независимости. Нет сомнения, что честные чеченцы, сражающиеся с захватчиками, представители чеченской интеллигенции, чувствуют себя в ловушке: кто бы ни победил, добра не будет. Порочный круг запущен на полные обороты.
В столь запутанных с обеих сторон ситуациях мерилом может быть только демократия, но кто сейчас возьмется за такое мерило? Российская демократическая интеллигенция тоже загнала себя в тупик. Собственно говоря, она всегда этим отличалась – уткнуться головой в угол и предаваться самобичеванию. Мы виноваты во всех бедах России! Лживый, дурацкий стереотип, все беды России всегда шли от темного тупого мужичья, а не от интеллигенции. Единственная здравая мысль постсоветского периода пришла от краткосрочного правительства молодых интеллигентов, а не от мужицкой совбюрократии. Увы, сейчас и интеллигенция тычется в тупики своих стереотипов.
Набоков, давая определение интеллигенции, заметил, что ее всегда отличала «интенсивная симпатия к слабой стороне вне зависимости от ее национальности». Увы, то, что слабее или меньше, не всегда справедливее. Говоря о бешеных бомбежках Грозного, Сергей Ковалев почему-то упорно не замечает злодеяний дудаевских боевиков. Против русских, говорит он, выступает «вооруженный народ», а значит, мы не имеем права воевать против всего народа. Трудно, однако, не заметить, что, поголовно вооружившись, этот народ загнал себя в ловушку абсурда, когда все чаще и чаще он поднимает оружие лишь для того, чтобы защитить свое оружие.
Политическая сцена Москвы представляет сейчас собой лабиринт интриганства, неумных, но запутанных маневров, бесконечного раздора, в который, увы, вовлечены и все фракции демократов. И это, к сожалению, единственное, что вдохновляет умы. Общаясь со многими выдающимися фигурами, я заметил, что эти фигуры увядают, когда речь заходит о каких-то глобальных или, еще пуще, отвлеченных вопросах, и воспламеняются только лишь при обсуждении возни в московских кабинетах. Не будет большим преувеличением сказать, что любая фигура мнит себя будущим президентом.
Общественность боится, что покорение Чечни поставит под угрозу судьбу реформ и российской демократии. В этих опасениях есть серьезный резон, почему, однако, никто не замечает, что распространение дудаевщины вообще отберет у демократии какие бы то ни было шансы на выживание?
В американской прессе в эти дни было модно отсылать Ельцина к русской классической литературе в ее «кавказском периоде». Почитал бы, дескать, Лермонтова и Толстого, не полез бы в Чечню. Трудно, однако, сказать, на какие вопросы сегодня ответили бы байронические стихи бесстрашного поручика, который и сам сражался против горцев в составе отряда, который бы в наши дни назвали «спецназом». Трудно с этой точки зрения понять и «мэссидж» Хаджи Мурата, героя гениальной толстовской последней прозы, человека, который ненавидел русских поработителей, но еще больше ненавидел имама Шамиля, убившего его семью и ослепившего его сына. И уж совсем трудно извлечь политические уроки из описания морозной ночи в горах, когда под ногой, словно выстрел, трещит любая ветка. Чтобы извлечь из классики уроки, придется опять обращаться к Достоевскому, а именно к его кружку отвязанных бесов.
Нынче все, и русские, и чеченцы, и националисты, и державники, и демократы, во всех ипостасях, застряли в расставленных ими самими ловушках. Гуляют только бесы.
7 февраля 1995 года
Хиппи и преппи[336]
(Очерк пост-постбайронизма)
Сколько бы ни твердили республиканцы в конгрессе, что их возмущает не «секс», а ложь под присягой, все это дело президента Клинтона и Моники Левински выглядит как безобразная сцена ревности на коммунальной кухне. Или, скажем, как пресловутые советские судилища по «аморалке», когда из зала в духе сатирической песенки Галича вопят: «Давай подробности!» Как это возникло в стране, где еще недавно, то есть несколько десятилетий назад, царило байроническое отношение к любви, как бы приплывшее из повестей Хемингуэя и песен Фрэнка Синатры? Год назад мы еще только поеживались, узнавая о мерзких сыскных делишках «независимого советника» Кеннета Старра, теперь масштаб лицемерия потрясает. Могущественные сенаторы и конгрессмены в буквальном смысле перетряхивают грязное белье, рассматривают пятна, оставшиеся после любовных утех, цинично выворачивают наизнанку интимную жизнь и даже физиологию своего президента. Республиканцы пытаются представить это дело как торжество американской демократии: все равны перед лицом закона и даже президент не является исключением. Этот постулат, однако, легко поворачивается в противоположную сторону: если даже и президента можно вот так, со свистом и улюлюканьем всенародно изнасиловать, значит, и с каждым гражданином можно поступить так же, и священное право «прайвеси» (частной жизни) уже никого не защитит перед лицом такого «закона».
Трудно все это объяснить межпартийной борьбой и даже «заговором ультраправых сил», хотя и то и другое, безусловно, имеет место. Интенсивность антиклинтоновской кампании подогревается сильнейшими эмоциями, какой-то странной амальгамой нетерпимости, зависти, неполноценности. Чтобы понять, откуда эти эмоции взялись, надо отступить назад на три десятилетия, в те времена, когда Клинтон был двадцатилетним длинноволосым юнцом, чуть ли не «хиппи», а главный его низвергатель, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич (между прочим, «ньют» – это «тритон» по-английски) был студентом консервативного склада, аккуратистом в галстучке и с розовыми коленками из-под шортов; на кампусах таких пацанов называют «преппи».
В принципе, два этих персонажа олицетворяют столкновение двух разных и бесконечно враждебных культур. Президент вышел из малообеспеченной и не очень благополучной семьи. Вполне естественно было увидеть его среди бунтарей конца шестидесятых – начала семидесятых, той молодежи, что расшатывала сословные перегородки американского общества и постоянно, во всех сферах, бросала вызов ригидному истеблишменту. Смело можно сказать, что если бы не растрясли тогда эти перегородки, никогда бы Биллу не удалось ни пробиться через них, ни обойти их сбоку.
Похоже на то, что он прошел через все тогдашние, как бы сейчас в России сказали, «приколы и прибамбасы». Покуривал марихуану, хотя и «не затягивался», как он утверждает во время своих предвыборных кампаний. Вот, кстати, еще один повод для усердия прокурору Старру и его ищейкам: доказать, что затягивался, поставить под присягу с рукой на Библии, заставить соврать! Затягивался, затягивался «Слик Уилли», балдел, кружилась у него головка, видел он «небо в алмазах», торчал от ритмов «Jesus Christ Super Star», просовывал башку за ширмы благопристойного пространства!
Сачканул от призыва в армию и отправки во Вьетнам. Мне кажется, что сделал он это не от страха, но от приверженности к тогдашней идеологии «детей цветов» с их всеобъемлющим лозунгом «make love, not war!». Общеизвестно, как сильно потряс тогда этот призыв устои пуританского общества, и Билл по всей вероятности был далеко не последним из сотрясателей, о нет, далеко не последним. Он «делал любовь», и любовь «делала его» таким, каким он впоследствии и остался, несмотря на бурную политическую карьеру зрелых лет. В принципе, он вообще так до конца и не созрел, во всяком случае в своих романтических устремлениях.
Следует также иметь в виду, что он был джазовым музыкантом. Знатоки, и прежде всего в моем случае Алексей Козлов, который встречался с президентом на джем-сэйшн в американском посольстве, говорят, что клинтоновский сакс звучит почти на профессиональном уровне. Джазист, как известно, смотрит на девушку как на «чувиху», то есть веселую подружку музыканта. Меньше всего в момент увлечения его беспокоят нравственные устои. Эта хиппово-лабушная незрелость чувств и неосторожность движений в конечном счете и навлекла на этого странного президента общеизвестные теперь «цоресы» в мире притаившихся вокруг преппи, или, как я их когда-то называл в романе «Остров Крым», «мобил-дробилов», то есть зубрил-мучеников.
Мой добрый приятель, бывший московский корр и писатель Дэвид Саттер[337] в те далекие времена учился с ним в Оксфордском университете. Билла все любили на курсе, вспоминает он. Политической хитрости тогда у него не было и в помине. Очень способный и непосредственный увалень из Арканзаса. Девушки считали его неотразимым.
В принципе, Уильям Джефферсон Клинтон прошел по всей леволиберальной повестке дня. Он был в движении за ядерное разоружение. Ну, уж во всяком случае, носил на свитере «птичку-стрелку». Он выступал против дискриминации «сексуальных меньшинств», хоть сам всегда и стремился к большинству, больше того – к голове большинства. Нечего и говорить о том, что он всегда и повсюду был органически чужд и враждебен расизму во всех, даже самых малейших проявлениях. Недаром иные афроамериканцы называют его сейчас первым черным президентом США. Аллегорически, конечно, все ведь знают, что он белее белого слона. Он никогда не был коммунистом, но и в буржуазии никогда не находил никакого «скрытого шарма». Это сейчас он помахивает палочкой на буржуазных полях гольфа, молодость же его проецируется для меня в тесных, забитых фрондерами клубах вроде Middle Earth возле рынка Ковент-Гарден 1968 года. И в этом мире процветала ярче всех прочих цветов любовь того незабываемого ренессанса – открытая, манящая и откровенная даже до некоторой противности.
Это был как раз тот мир, который с трепетом подкожным ненавидели молодые консерваторы, будущие столпы нынешней республиканской партии США. Сей мир казался им источником инфекции и деструкции, который когда-нибудь высосет весь кислород из неба родины, развалит весь фундамент федерализма и демократии. Сейчас, когда я вижу этих постаревших законодателей на экране телевизора, Ньюта Гингрича, Боба Ливингстона и Генри Хайда, меня не оставляет ощущение, что передо мной плантаторы прошлого века. Наследственная их мораль во всяком случае не претерпела изменений со времен она: крепкая родина, крепкий закон, крепкая кастовая религия, крепкие семейные ценности. Юношеская чистая любовь приводит к таинствам брака, к дальнейшему разрастанию генеалогического древа, что шумит своими ветвями во славу рода и во имя укрепления здравого смысла отцов-основателей.
Кто в конце концов может подвергнуть сомнению эту концепцию, тем более что она скреплена конституцией великой демократии с ее постулатами личных свобод, защиты личности и стремления к счастью? Никто, и уж тем более не леволиберальная сволота в ее декадентских эскападах.
В 1994 году «Великая Старая Партия» впервые за долгие годы завоевала солидное большинство в конгрессе и сенате. Страна, казалось, повернула вправо. Гингрич с трибуны спикера объявил о начале «революции республиканцев». Все тогда думали, что же нам принесет эта революция, какие грандиозные преобразования, какую феноменальную очистку воздуха? И вот теперь мы получили ответ: целью революции оказалось разоблачение сексуальных приключений президента-демократа, средствами революции оказались внедрения подсадных уток, стукачек с микрофонами в лифчиках, выкручивание рук и шельмование вольных и невольных свидетелей злополучной любовной истории.
В ходе развития скандала оказалось, что и сами носители чистоты и здравого смысла оказались не очень чисты и не очень здравы. В полном соответствии с традициями прежних плантаторов, приглашавших к себе рабынь, нынешние заводили себе содержанок и наложниц в стороне от святого семейного очага. С грандиознейшей вонью перед изумленным населением открылось грандиозное, как все в Америке, лицемерие.
Девушкам по имени Моника свойственны романтические головокружения. Я знаю об этом из собственного опыта[338], столетней, впрочем, давности. К счастью, не все Моники попадают в сферу интересов спецслужб. Нашей нынешней всеобщей героине (или антигероине) не повезло (или повезло): влюбившись в лабуха Билла, она вляпалась в самое пекло.
Во всей этой истории есть один любопытный аспект. Из всех участников драмы мужского пола только один оказался джентльменом. Это врунишка Билл, президент Соединенных Штатов. В принципе, ему не следовало врать. Ему следовало твердо сказать своим мучителям: джентльмены таких вопросов не задают, джентльмены на такие вопросы не отвечают. И все-таки, соврав, он пытался защитить не только свою репутацию, но и честь двух женщин, мать своего единственного ребенка мраморную Хиллари и взбалмошную, кремовую с вишнями Монику. Во всяком случае, никто не может опровергнуть такую интерпретацию его поступка. Безнравственный хиппи оказался рыцарем среди улюлюкающих высокоморальных, а на самом-то деле таких лицемерных преппи; таков парадоксальный итог всей этой истории.
Родина «мыльных опер» дошла до апогея в развитии своего любимого жанра. Каноны мещанского «дневного телевидения» задавали тон судьям этого процесса. «А судьи кто? – За древностию лет / К свободной жизни их вражда непримирима… Всегда готовые к журьбе, / Поют всё песнь одну и ту же…» В принципе, они апеллировали не к мыслящему демосу, а к бессмысленному охлосу, полагая, что он уже созрел и составил псевдопуританское большинство. Оказалось, что и в этом прокололись: 70 процентов адресата посылают их подальше. Но что толку – дело сделано, грязь размазана.
Теперь окинем взглядом ландшафт после битвы. Дымятся руины воздушных замков. Копытами кверху лежат две священные американские коровы. Когда-то их звали «Privacy» и «Gentlemanship».
1999 (?)