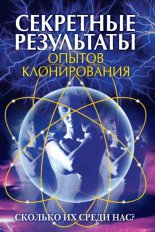Воды любви (сборник) Лорченков Владимир
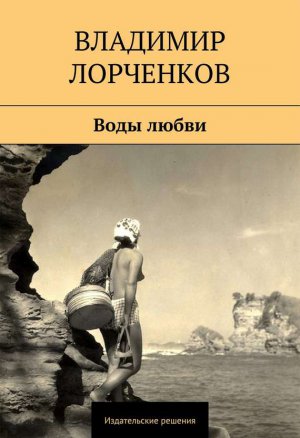
Этот «Чародей», – который заказывал сценарии для театра, – обладал суровым лицом римского патриция.
Значит, еврей, думал с неприязнью антисемит, – как и все бессарабцы, – Лоринков. Но старался думать об этом поменьше. Ведь гигантский заработок позволял не просто пить, сколько влезет, но и отсылать кое-что домой, жене и детям. За годы болтания в Москве семья стала для Лоринкова чем-то вроде Бога. Тем, что, – без сомнения, – существует; во что хочется верить, когда тебе плохо; и о чем стараешься не вспоминать, когда тебе хорошо. Напившись дешевой водки, Лоринков писал сценарии в комнатушке под крышей театра, где и спал, укрывшись куском занавеса.
– Сумрак сгущается над Ершалаимом, – сказал Лоринкову как-то «чародей хренов».
– Валентин Иосифович, чайку, – сказал помощник и принес чайку.
– Валентин Иосифович, – постарался запомнить Лоринков.
– В общем, Ершалаим, – сказал босс.
– И? – сказал Лоринков.
– Ну и что-то в этом роде, – сказал босс.
– Я хочу сыграть Воланда, но чтобы мы не отстегивали наследникам Булгакова, – сказал он.
– Так что сочините что-то в этом роде, – сказал он.
– А я вам, Володя, начислю в этом месяце сорок пять тысяч рубликов! – сказал он.
– А можно пятьдесят? – сказал Лоринков.
– Мне жить негде, я бы снял комнатушку, – сказал он.
– После работы стаканы в кафе мою, – сказал он.
– Ая-яй, – сказал «чародей».
– Испортил людей жилищный вопрос, – сказал он.
– Вижу, вы уже вживаетесь в роль, – сказал Лоринков.
– Ладно, полтишку начислю, – сказал босс.
– Иди, негр, – сказал он.
Лоринков побрел в каморку. Сел. Взял ручку, приложился к бутылке. Начал писать. Через пятнадцать минут рассмеялся. Выпил еще. Пил и смеялся, смеялся и пил. Хохотал во все горло. Словно молодой Горький, писавший в заключении – если верить долбоебу Пикулю, – смеялся Лоринков. Правда, он этого не знал, потому что не читал ни Пикуля, ни Горького. Он просто писал и смеялся. Последнее, что увидел Лоринков перед тем, как упасть у стола и вырубиться, были строки:
…любовь к порнографии, откляченным попкам
пухлым задам, ярко и розово торчащим
из освещенных парадных, подъездов
– назови как хочешь,
в общем, из мест, где ведут фотосессию, и куда
в самый разгар, врываются мины, влетает полиция нравов, немножечко соли
немножечко горько, как все по-английски! жалко, что только
в полиции нравов
нет конан дойла
девицы визжа убегают, на марше
спасите, спасите…
* * *
– Лоринков, Лоринков, вставай, Лоринков, – сказал рабочий сцены Родионов.
– Вставай, Лоринков, – сказал Родионов.
Лоринков, щурясь, сел. Потянулся к бутылке, глянул вопросительно на красильщика занавесов. Тот пожал плечами, показал в угол, где была полная бутылка. Лоринков, попытавшись встать, пошатнулся и упал. Уже все равно, подумал он, и просто пополз в угол. На красильщика тканей он старался не смотреть. Тот, – похожий на старинного колдуна, – бормоча, красил что-то в чане, потому что комната Лоринкова в театре была и ремонтной, и мастерской. Глотнув, Лоринков выдохнул. Смог встать. Увидел, что на столе лежат разорванные листы. Глянул вопросительно на Родионова.
– Тебя уволили, – сказал тот.
– Приходил Гафт, читал поэму, страшно ругался, – сказал он.
– Какой Гафт, какая поэма? – сказал Лоринков.
– Поэма? Средненькая, – сказал Родионов.
– Ты просто мне завидуешь, – сказал Лоринков.
– Все рабочие сцены мечтают писать стихи, – сказал Лоринков.
– Небось, тайком пописываешь? – спросил он.
– Тебя уволили, – сказал рабочий, мешая в чане ткани.
– Гафт это фамилия руководителя театра, – сказал он.
– Он просил пьесу, а ты написал поэму, – сказал он.
– Ясно, – сказал Лоринков, и встал на колени.
Долго и страшно блевал желчью. Рабочий, не глядя в его сторону, месил ткани. Лоринков утерся, встал, пошел к выходу.
– Бери мой тулуп, холодно, – сказал рабочий.
– Спасибо, – сказал Лоринков.
– И поэму забери, – сказал рабочий.
– Поэму оставь себе, – сказал Лоринков.
– Пригодится, станешь тут звездой, – сказал он.
– Мне все равно, я сваливаю, – сказал рабочий.
– В Пермь, – сказал рабочий.
– Знакомый еврей ресторан открыл, буду стены расписывать, – сказал он.
– Айда со мной, – сказал он.
– Не могу, я антисемит, – сказал Лоринков.
– Что, настоящий? – сказал рабочий.
– Нет, – сказал Лоринков.
– Но я бессарабец, и меня положение обязывает, – сказал он.
– А пьешь ты почему? – спросил рабочий, дергаясь лицом.
– Поэтому же, – сказал Лоринков.
– Я гений, и меня положение обязывает, – сказал он.
Допил бутылку. Швырнул в угол.
Молча вышел.
* * *
После увольнения Лоринков немного поработал руками. Он копал дачу бородатому мужчине, который представился Соколовым и постоянно говорил на латыни. Лоринков, знавший румынский – что мало отличается от латыни, – почему-то стеснялся сказать Соколову, что тот очень часто лажает. Потом драматург ставил забор пьяному хмырю, который все время говорил «однако» и предлагал брататься против НАТО, а потом обманул при расчете… Ишачил грузчиком в каких-то «толстых журналах», – хотя москвичи опять все напутали, журналы-то были тоненькие, в пол-книжки всего, – и вылетел без выходного пособия, потому что, как сказал один из боссов, «мы частная лавочка, и не хрен тут».
Потом стало совсем плохо и Лоринков жил в подъездах.
К счастью, на улице ему долго болтаться не пришлось. У Киевского вокзала, куда Лоринков, ослабев духом, собрался было идти, чтобы христарадничать, а потом попробовать вернуться в Молдавию, ему встретился бывший земляк. Драматург Еуджен Никитин, – как и все молдаване давно уже переехавший в Россию, – узнал Лоринкова, долго смеялся, снимал приятеля на мобильный телефон и слал фото на «Фейсбук».
– Етическая твоя сила! – восклицал Еуджен.
– Да знаешь ли ты, что ты уже пятый год как всемирно признанный гений?! – говорил Еуджен.
– Твои пьесы ставят во всех театрах мира, – говорил он.
– Ты признанный лучший драматург мира, – говорил он.
– Только странный и прячешься ото всех и пьешь, – сказал он.
– У нашего гения сложный характер, – процитировал он Лоринкову статью из какой-то газеты, вытащил ее из кармана.
– Идите все на… – сказал Лоринков.
– Ха-ха, – сказал Еуджен. – У нашего гения сложный ха…
– А ты что в Москве делаешь? – спросил Лоринков, открывший купленное Еудженом пиво.
– Да вот, приехал на Конгресс «Русско-Молдавские поэты и драматурги», организованный нашим выдающимся земляком, поэтом Кириллом Копальджи, да живет он сто тысяч и еще одну тысячу лет, – сказал Еуджен, глядя в приглашение.
– Зачем? – спросил Лоринков.
– Поучаствовать в Конгрессе «Русско-молдавские поэты, прозаики и драматурги: два берега одной полноводной реки», чтобы получить удостоверение писателя, представляющего молдавскую литературу! – сказал Никитин.
– Этого что, достаточно? – спросил, превозмогая тошноту, Лоринков.
– Ну конечно! – сказал Еуджен.
– Достаточно справки из общества «Молдо-российской дружбы» города Калараш, официально зарегистрированного участия в одном таком Конгрессе, ну, и для нашего выдающегося земляка, эфенди Кирилл бей Копальджи да славится он сто и сто раз, нужно подшестерить разок-другой, – перечислил он.
– Зачем? – спросил Лоринков, которого тошнило все больше.
– Как же, – сказал Еуджен, – ведь тут выдают удостоверения молдавских писателей и поэтов.
– Тебе тоже пора вливаться, – сказал он.
– Идите все на… – сказал Лоринков, – русско-молдавские поэты.
…и драматурги и прозаики, – послал он драматургов и прозаиков вслед за поэтами.
– И всех своих выдающихся земляков не забудьте прихватить, – сказал он.
– Кстати, – сказал Лоринков.
– Одолжи на пиво, – сказал Лоринков.
– Нет, я не дам тебе рыбу, – сказал Еуджен.
– Я дам тебе удочку! – сказал он.
– В смысле, устрою на работу, – сказал он.
– Какая рыба? – сказал Лоринков.
– Какая удочка? – сказал он.
– Я просил одолжить мне на пиво, – сказал он.
…Еуджен, – надо отдать ему должное, – не только одолжил Лоринкову 18 рублей 50 копеек на пиво, но и привел того в театр «Табакерка», где представил полному доброму человеку с улыбкой Чеширского Кота и повадками педофила. Тридцатипятилетнего Лоринкова это не испугало.
– Антон Палыч, вот вам Лоринков, – сказал Еуджен
– Представляете, он ничего не знает, – сказал он, пошептав что-то Антон Палычу в ухо.
– Вот чмо-с, – сказал ласково Антон Палыч.
– Будешь писать мне сценарии и получать за это… скажем… пятьдесят тыщ в месяц, а?! – сказал он.
– Антон Палыч, – сказал Лоринков.
– Благодетель, – сказал он.
– Да за пятьдесят тыщ я еще и всех твоих актрис трахать буду! – сказал он.
– Отставить-с актрис-с, мразь-с, – мурлыкнул Антон Палыч.
– Главное, пиши, пиши, Володя! – сказал он.
Улыбнулся, и ушел, махнув хвостом.
* * *
…закончив пьесу «Остроумный Остроум», – в которой в ироническом ключе рассказывалось о попытках советской псевдо-интеллигенции конца 20 века создать хоть что-то, отдаленно напоминающее Серебряный век, созданный русской интеллигенцией в начале этого века, – Лоринков встал, и отжался несколько раз. Дела шли все лучше. Он уже мог отсылать домой по пятнадцать тыщ рублей! Да и на выпивку в Москве – из супермаркета «Пятерочка», конечно, – хватало. Тряслись руки…
Вдруг в пустой зал забежал, прерывисто дыша, билетер Ян Шенкман. Они с Лоринковым часто спорили. Культурный человек, – считал билетер, как все культурные люди, – никогда не скажет вслух, что он гений, а просто скромно подумает это про себя. Ему казалось, что именно это причина их с Лоринковым разногласий. На самом деле она состояла в том, что Шенкман давно уже не пил, а Лоринков еще продолжал.
– Бегите, Володя! – крикнул билетер.
– А в чем дело? – спросил Лоринков, открывший бутылку паленого коньяку, и вовсе не желавший куда-то спешить.
– Ваши недоброжелатели! – сказал билетер.
– Они убедились, что против вас они всё же никто, – сказал он.
– Поэтому они хотят убить вас, выдать вашу пьесу за свою, и получить за это кучу денег, славу и почета, а еще колонки в «Огоньке», «Эксквайере» и «Снобе», – сказал он.
– Все то, что получили бы вы, не будь вы задроченным на своей якобы гениальности пьющим асоциальным психом, – сказал он.
Лоринков пожал плечами и выпил. Лучше еще выпить и дать себя убить, чем бежать куда-то ночью зимой, подумал он. Интересно, чем будут убивать, подумал он. Недоброжелатели, – кучка младших сценаристов театра, – ненавидели Лоринкова. Ведь он был лимитчик сраный, у него не было связей, он много работал, и не хотел ни с кем тепло общаться и дружить. В свою очередь, Лоринков презирал недоброжелателей за то, что не различал их – как по виду, так и по манере письма. Шутя, несчастный пьяница называл их «безликие новые сценаристы». Это страшно бесило ребят. И вот сейчас они, заперев все двери театра, поднимались по лестнице в зал, вооруженные до зубов… Лоринков слышал топот, и прикрыл воспаленные глаза. Вспомнил вдруг семью.
– Бегите, я вас прикрою, – сказал билетер, и вынул пистолет.
– Шенкман, Шенкман, – сказал Лоринков.
– Пристрелите меня, они вас за это к себе возьмут – сказал он.
– Не вечно же вам билетами торговать? – сказал он.
– В другой раз может я вас и пристрелил бы, – сказал билетер.
– Но сейчас, объективности ради, буду защищать, – сказал он.
Лоринков покачал головой. Билетер встал на край сцены с пистолетом в одной руке и кинжалом в другой. Он выглядел как человек, который просто так не сдастся. Тем более, он так и сказал:
– Просто так я не сдамся, – сказал он.
– Теперь понятно, почему римляне так долго возились с этой вашей Масадой, – сказал Лоринков.
– Это все ваш обычный антисемитизм, – сказал обидчиво билетер.
Вдруг в зале ярко вспыхнул свет.
– Один за всех и все за одного! – раздался крик.
Это оказался не Боярский, – как подумал вначале Лоринков, – но тоже житель Санкт-Петербурга. Лоринков, глазам своим не веря, покачал головой. Ведь на сцену забежал… декоратор Левенталь! То ли девочка, то ли мальчик, – существо в телогрейке и с винтовкой – встало оно перед несчастным пьяненьким сценаристом. Уже два человека хотят спасти меня, подумал Лоринков. Невероятно, как много доброжелателей, понял вдруг он.
– Бегите, Лоринков, – велел декоратор.
Лоринков пожал плечами. Вдруг в зал забежал седой бородатый электрик, Топоров. Его в театре все боялись, потому что он мог выключить свет и часто так делал, когда ему казалось, что пьеса – говно. С появлением Лоринкова в сценарном отделе свет в зале почти перестал отключаться. Ничего не сказав Лоринкову, электрик быстро развернул на сцене декоративный, – как лишь казалось раньше, – пулемет «Максим», зарядил ленту и дал короткую очередь в сторону входа. Оттуда раздались крики боли и негодования.
– Живо, Лоринков, уходите, а мы прикроем, – велел электрик.
– Там не только «новые сценаристы», – сказал он.
– С левого фланга еще местечковая группировка из виртуальной черты оседлости атакует, – сказал он.
– Всем, ну решительно всем вы насолили, – сказал он.
– Сука, на! А вот кому благовеста одесского?! – закричал, забежав в зал мужчина в римской тоге, иудейской кипе, и православном клобуке, причем во всем одновременно, и выстрелил в электрика.
– За Глеба, за Сталина, за Морева, за Родину, за «Опенспейс»! – крикнул он.
– Ты ударишь, я выживу, – сказал хладнокровно электрик, прицеливаясь.
– Я ударю, ты выживи! – сказал он, и очередь разорвала странно одетого человека на куски.
– Да уходите же! – крикнул он Лоринкову.
– Но… – сказал Лоринков.
– Вы – будущее русской литературы, – сказали хором защитники Лоринкову.
– Уходите, мы прикроем, – сказали они.
– А я пока сыграю, – сказал декоратор, и уселся за рояль.
Заиграл что-то печальное – фальшиво и бездарно.
– У-у-у-у-у, у-у-у-у-у-у, – замычали защитники Лоринкова.
– У-у-у-у-у, у-у-у-у-у-у, – угрюмо запели они в осажденном зале, и Лоринков сразу вспомнил балет, похороны вождей и концерты классической музыки.
– Господа, что это, право? – спросил Лоринков.
– «Торжественная увертюра», Чайковский, а что, – сказал недоуменно декоратор.
– Гм, – сказал Лоринков.
– А давайте… из Мары?.. – сказал Лоринков смущенно.
– Это любимая певичка моя, Мара, – сказал он.
Декоратор поправил очки и винтовку. Заиграл из Мары.
– Отправь мне пару писем, – запели защитники зала.
– Быть может, они нужны, – пели они.
– Кто менее зависим, – пели они.
– Тот первым уйдет с войны, – пели они.
– Налей мне немного Whiskey… – пели они.
Лоринков подошел к окну. Нащупал в кармане вдруг ручку какую-то. Странно, подумал он, всегда же прошу у кого-то ручку, своих нет… Вынул. Это оказался поломанный оловянный волчок, без одной лапки… Сын когда-то просил, Лоринков купил, да вот забыл отправить, а потом волчок сломался и отправлять уже не было смысла, а выкидывать жалко, и с тех пор вот в кармане… Сунул Лоринков фигурку обратно в карман. Оглянулся. Глянул в жерла винтовок, в лицо направленных. Иуды-декоратор и электрик оружие свое на драматурга развернули.
– А ведь, Лоринков, давно вас прикопать пора… – сказал электрик.
– Гордый больно… залупаетесь все время… – сказал он с ненавистью.
– Еще и мужик, сразу видно, – с болью сказало то ли мужчина, то ли женщина декоратор.
Забежали в зал атакующие… Липким комком дождевых червей копоишились «новые реалисты», и самые толстые и гадкие среди них – вор привокзальный Гешка Саздулаев да Серенька Шаргунцов. Замахали им иуды театреальные – вот он, мол, попался, драматург!
Но попятился Лоринков к стене, разбил стекло, и, царапая израненные руки осколками, выбрался на улицу… Убегая, слышал очереди, звон стекол, грохот взрывов. Уходил, оставляя на снегу кровавый след. Под утро, дрожа, притулился к к столбу какому-то у железнодорожного моста на краю чужой, холодной, омерзительно высокомерной Москвы. Колотило от усталости, похмелья, холода. Пугали шаги милицейских патрулей. Верещали, – поднимая горожан на утренний намаз – подмосковные муэдзины, шелестели отъезжающие от ночных клубов «Мерседесы».
– Господи, – сказал Лоринков.
– Господи, – сказал он.
– Пусто-то как… – сказал он.
– Что я здесь делаю? – сказал он.
Ничего не ответил Господь.
Загрохотали вдали товарные составы.
* * *
…оловянный волчонок стоял на самом почетном месте в доме.
В углу, на комоде в детской.
На этот комод Лоринков часто натыкался, когда затемно поутру заходил в комнату, полюбоваться сыном. Жена ласково журила его за это. Как будто не на утреннюю пробежку собирался, а на войну. После пробежки Лоринков долго плескался в роднике, возвращался домой не спеша, чувствуя, как заживает и наливается силой тело. За телом возвращался и дар. Лоринков время от времени – и все чаще, – садился за письменный стол, и тогда его хохот распугивал птиц, летевших в парк на ночлег.
Московские слаксы, сапожки и фирменную рубашку за 20 тысяч рублей Лоринков отдал в городской ТЮЗ, исполнителю роли Кащея Бессмертного. Не жалко. Единственное, о чем жалел Лоринков, так это тулупчик, – тот остался при бегстве из театра в окне, оскалившемся битым стеклом. Но Лоринков не очень переживал.
– Все неприятности Москвы начинались с отобранного у кого-то тулупчика, – знал Лоринков.
– Хоть она, Москва, и не верит слезам, – знал он, щуря сухие глаза.
В пустом тренажерном зале крутились сухими осенними листьями железные блины, сброшенные на пол. Леденила сердце вода в заброшенном бассейне. Крепли мышцы, закипала ярость. По утрам пели в лесу – в который превратился заброшенный парк у дома, – птицы. Вечерами чернел за окнами поиздержавшийся в разруху Кишинев. Какой он ни есть, но это мой дом, и другого мне не надо, знал Лоринков. Суровый и немногословный, вечерами он, на просьбу сына почитать колыбельную, – доставал книгу. Садился у изголовья.
– Низко нависает серый потолок,
– Баю – баю – баю, засыпай, сынок
– Засыпай, проснёшься, в сказочном лесу
– За себя возьмёшь ты, девицу-красу, – читал он.
Сопел, засыпая, мальчишка. Лаяли на улице бродячие собаки. Шумели, дребезжа, старые троллейбусы. Лоринков читал:
– Спит пятиэтажка, в окнах ни огня…
– Будет тебе страшно, в жизни без меня, – читал он.
Засыпал не видный с неба из-за разбитых фонарей и пропавшего уличного освещения Кишинев. Переливалась где-то огнями пьяная, сытая, набухшая деньгами и кровью Москва. Рос во сне мальчишка. Поднимали весенние воды ручьев хрупкие льды. Наливался гневом Лоринков. Вспоминал Москву. Вспоминал подходы, подъезды, и направления. Придет день ярости и возмездия, знал он. И очередная Великая Блудница падет, как и многие другие до нее. И на разрушенных остатках Кремля варвары станут пасти свой скот, а московские евреи с лицами римских патрициев – с ненавистью думал неисправимый антисемит Лоринков, – мыть ноги дочерям и сыновьям новых варваров.
Гладил сына по голове. Читал.
– Из леса выходит серенький волчок,
– На стене выводит свастики значок, – читал он.
–… дети безработных, конченных совков
– Сколько рот пехотных, танковых полков… – читал он.
В рассветах и закатах чудились ему всполохи последнего боя, из которого спасся он в Москве, а потом, – чудом, – добирался железной дорогой восемнадцать суток до дома. Туда, где уже и ждать забыли, и где дети поначалу дичились незнакомого мужика с щетиной и руками в шрамах. Лоринков прикрывал разметавшегося во сне сына, поправлял одеяло. Читал ему.
– Твой отец писатель, этот город твой.
– Звон хрустальной ночи, бродит над Москвой, – читал он.
– Кровь на тротуары просится давно
– Ну, где ваши бары? Театры, казино? – читал он.
– Все телегерои, баловни Москвы