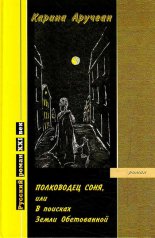Эйзенштейн Шкловский Виктор

«У Эйзенштейна был контракт с «Парамаунтом», по которому они должны были платить ему 3000 долларов в неделю, когда он начнет работать…
Для буржуазного мира это было бы очень удачным началом, и все, что от него требовалось, – это в незначительной степени пожертвовать своей честностью художника.
…В Голливуде на него яростно нападали местные фашистские элементы. Они называли его красной собакой, подстрекателем к убийствам и т. д. Он не сделал никакой попытки оградить себя от этого, что мог бы сделать очень легко, пойдя на некоторые уступки.
…Когда он пришел ко мне, то объяснил свое желание делать картину в Мексике тем, что не хочет возвращаться к Советскому правительству побежденным – то есть ничего не совершив за границей. Мы решили попробовать собрать для него денег, чтобы сделать независимую картину в Мексике. Эйзенштейн отказался подписать контракт, не обсудив предварительно вопрос с Л. И. Моносзоном из Корпорации Амкино. Он сказал мне в присутствии моей жены: «Моносзон мой босс, и с моей стороны было бы невежливым не посоветоваться с ним». Моносзон дал свое согласие на это предприятие.
…Эйзенштейн настаивал, чтобы в контракте было оговорено, что права на картину передаются Советскому Союзу бесплатно и в распоряжении Амкино имеется письменное соглашение по этому поводу.
…Многочисленные задержки в работе происходили не по вине Эйзенштейна. Когда он прибыл в Мексику, мексиканское правительство арестовало всю группу.
Впоследствии группа постоянно натыкалась на тысячи бюрократических препон по вопросам цензуры и вывоза фильма. Эйзенштейн некоторое время болел, а его ассистент Александров проболел несколько месяцев.
Затем наступил сезон дождей, когда снимать было невозможно. Более того, вначале невозможно было предугадать, сколько будет материала и какого исключительно интересного характера, и объем картины с неизбежностью увеличился, после того как художник приступил к работе.
Все эти факты сообщались в Амкино на каждом этапе работы. Совсем недавно Амкино подписало со мной соглашение, по которому оно вкладывает в картину 25 тыс. долларов, из них 5 тыс. должны быть истрачены в Мексике, а остальные пойти на монтаж и озвучание картины, которые должны производиться в Голливуде. Невероятно, чтобы Амкино предприняло такой шаг, если бы оно считало Эйзенштейна недостойным доверия…»
Синклер продолжал:
«Посмотрев картину, знакомишься со всей Мексикой, ее внешними сторонами и ее душой, и я берусь предсказать, что народ Советской России наградит эту работу восторженными аплодисментами. Пока что мы просмотрели около 25 миль этого фильма, и маленькая группа друзей, разделивших со мной эту привилегию, единодушна в своем мнении» (т. 6, стр. 536–537).
Как я уже говорил, пленка была смонтирована без участия Эйзенштейна, смонтирована анонимно.
Монтаж самый простой, по последовательности времени. Человек живет, мучается, пытается бороться, потом его убивают, потом над ним плачут. Весь воздух Мексики, все то, чем мыслил Эйзенштейн, то, что объясняло сопротивление, то, что давало уверенность в победе, не осуществилось в монтаже.
Урезанная, склеенная чужими руками лента «Мексика» уже шла по всему миру. Чужой монтаж дал ей, как в сказках бывает, мертвую воду. Мертвая вода сказок склеивает разрубленное тело богатыря. Живой воды творческого монтажа лента не получила. Это страшный конец сказки.
Картина даже в таком виде все же имела успех.
В Париже ее пять раз восстанавливали в прокате.
Ее встретили как одно из величайших произведений кино, но это был праздник мертвых, вернее, торжество еще не рожденного.
Возвращение на родину
В мае 1932 года Эйзенштейн вернулся в Москву.
На родине раны заживают скорее.
Но вообще раны у победителей заживают скорей, чем раны побежденных.
Эйзенштейн вернулся в измененную страну. Многое из того, что делалось при его отъезде, было совершено, прошло и могло воскреснуть только измененным.
Многое появилось заново: Довженко снял ленту «Земля». В этой ленте были широкие, долгие и драматически сомкнутые кинематографические куски.
Монтаж переосмысливался.
Режиссер М. Калатозов снял патетическую картину «Соль Сванетии»; в этой картине столкновение кусков, патетика монтажа обострились.
Советская кинематография набирала силы, входила в звук.
Москву асфальтировали: везде стояли котлы с асфальтом. Асфальт растопляли попросту – дровами.
Около асфальтовых котлов грелись беспризорные, но уже снималась картина «Путевка в жизнь» о конце беспризорщины.
Еще были целы стены, построенные Федором Конем в 1536 году: их звали Китай-городом. Их недавно восстановили и покрыли, как в старину, деревянной кровлей.
Они смотрели на новую Москву вертикальными, как у лисы, зрачками подошвенных бойниц для затинного боя.
Еще шумел базар около Сухаревой башни – здания, в котором когда-то было открыто первое гражданское учебное заведение в России.
Там, где сейчас стоит Московский университет, за кустами сирени таились старые деревянные домики.
Около Арбата и в Замоскворечье стояли особняки с белыми деревянными колонками.
И стенами рустованными, как будто они сложены из больших камней.
Вскоре мы увидели, что эти стены сложены из бревен, обиты войлоком, обшиты тесом и оштукатурены.
Пока около особняков было тихо. Около Поварской были даже две улицы – Большая Молчановка и Малая Молчановка.
Рубили на Садовом кольце бульвары.
Заливали асфальтом булыжник.
Внутри города стояли вышки, похожие на крепостные башни деревянных укреплений: это были шахты метро. Метро сперва скреблось, потом гудело под старыми развалинами храма Христа Спасителя.
Город изменялся.
Сергей Михайлович видел весь мир. Он вернулся, как Одиссей вернулся на остров Итаку.
Только тот остров был изменен мало, и Одиссею нужно было только найти старые стрелы, взять в руки старый лук, найти старых слуг и перебить женихов, сватавшихся к Пенелопе.
Сперва Сергей Михайлович хотел снимать эксцентрическую комедию под названием «МММ».
Сценарий был принят в марте 1933 года к постановке. В картине должны были сниматься Юдифь Глизер и Максим Штраух. Большие актеры, верные друзья Эйзенштейна.
Лента могла бы сняться и могла бы иметь успех, но время шло, стуча колесами на стыках рельсов. Может быть, время эксцентриады тогда прошло. Но что судить о судьбе детей, которые не родились.
Для них нет гороскопа.
Способы соединения в живописи, архитектуре, литературе отдельных частей произведения разнообразны.
Связь фресок зданий разъясняется всем известными мифами и переосмысливает их. Они обращены лицами к человеку, стоящему в храме, и, может, этим объясняется то, что русские иконы часто написаны с обратной перспективой. По-разному соединены части здания в античной Греции, и деревянные здания русских дворцов, и храмы и стены великого Московского Кремля.
Соединение частей романа судьбой героя не единственно.
Можно сталкивать биографии людей, отделенных столетиями, можно разорвать сюжетные связи, переставить их, как это сделал Гоголь в «Мертвых душах». Можно перенести действие как бы в героя, рассматривая противоречивость его сознания.
Сергей Михайлович хотел связать новеллы картины «Да здравствует Мексика!» драматическими воплощениями различных стадий мироощущения мексиканской культуры, показав ее миру в изменяющемся единстве.
Теперь он так надеялся глубоко раскрыть содержание понятия «Москва».
Как организовать сюжет, чтобы вобрать действие, которое продолжается около тысячи лет? Когда праздновали 800-летие Москвы, Москва оказалась старше праздника. Там, где впадает Неглинка в Москву-реку, люди жили очень давно, по крайней мере уже тысячу лет.
Эйзенштейн писал:
«Москву» хотелось бы видеть гербом московского рабочего,
его генеалогией,
его геральдикой.
Нам чудится сценарий глубоко сюжетным.
Пронизанный конфликтом и перипетиями одной сквозной классовой борьбы по разным фазам. В единой сюжетной линии.
С героями и злодеями, перерастающими свои индивидуальные биографии и биографии движущих классовых сил, действий и инициатив, переходящих с деда к отцу и внуку, к правнуку.
Интрига, раздвинувшая рамки сакраментальных традиций скованных единств, шаблона кинематографической ложноклассики,
раз установленных шаблонов кинорамок для киносюжетов.
В этих сквозных образах хотелось бы практически обрести новую форму «шекспиризирования».
Само же обратное оформление фильма мы хотим провести в другой шекспировской традиции: оформив по четырем стихиям – воде, земле, огню и воздуху, из сочетания коих слагались гармония и дисгармония вселенной для Шекспира» (т. 1, стр. 155).
Это старый спор о шекспировском и шиллеровском сюжетосложении, о сталкивании страстей или о выговаривании высоким голосом страстей.
Проектировался Дворец Советов как одно из высочайших зданий мира. Ломались старые здания, расширялись улицы, передвигались дома.
Город становился неузнаваемым. Особенно это было видно человеку, который только что приехал.
Как обычно бывает в эпосе, герой приехал, наполненный временем, пространством, воспоминаниями о множестве неудач и верой в подвиг.
Нити жизни Сергея Михайловича на Западе обрывались много раз, и он связывал нити своего творчества, как ткачиха, стоящая за станком; нити опять рвались.
Второй замысел Эйзенштейна после возвращения из Мексики назывался просто – «Москва». Но он был непростым по структуре. Четыре стихии – это недаром.
Слава о Москве как о месте, где сходятся реки, древняя.
Птолемей писал когда-то, что Волга, которую тогда называли Ра, имеет два устья: одно впадает в Каспийское море, другое – в Азовское.
Он путал Волгу с Доном.
Страбон считал, что Каспийское море – залив океана, а Волгу принимал за узкий пролив, который тянется к океану, охватывающему мир с севера.
Потом начали уточнять географию.
Писали, что Москва стоит на перепутье от Балтийской Двины и Немана, от Верхнего Днепра к Булгарской Волге и к Дону, на перепутье рек, идущих в Балтийское, Белое, Черное и Каспийское моря, то есть в море моржей, море янтаря, море шелка. На перепутье всех этих рек стоит Москва.
Первая стихия – вода.
Если взять карту России, изданную в 1572 году Антонием Дженкинсоном, то можно увидеть неточную, невнятную съемку России, похожую на запись по памяти. Антоний Дженкинсон срастил верховья рек, текущих в сторону Каспийского, Балтийского и Белого морей. Реки текут у него из одного места в разные стороны.
Герберштейн, побывавший в Москве в 1656 году и говоривший по-русски, сделал все точнее. У него верховья рек подведены к Москве.
Москва в самом деле стоит на сращении рек, в водоразделах, которые были соединены волоками – местами, по которым перетаскивали тогда ладьи. Сохранились названия городов: Вышний Волочок, Волоколамск.
Жили в тех местах кривичи и вятичи. У вятичей тотемом были бобер и утка – речная птица и речной зверь. Недаром в картине «Иван Грозный» Ефросинья Старицкая поет песню о бобре над трупом сына.
Весной по Москве-реке со льдом приходила большая вода. Окна домов на первом этаже внизу закладывали кирпичом. Я помню, как вода подошла к Третьей кинофабрике, стоящей недалеко от Киевского вокзала. Река с берегами была потоплена разливом.
Другой стихией была земля, которая из Москвы была видна во все стороны. Москва пригребала к себе земли, соединяла их по-новому.
И огонь был в Москве. Это огонь татарских набегов, огонь Петра, тульских заводов и московского пожара 1812 года, московского восстания 1905 года.
Огонь зимних костров похорон Ленина.
Но как соединить все это, как выразить в одном геральдическом знаке, понятном для зрителя?
В разгаре были работы по созданию канала имени Москвы. Канал подводил воду Волги к городу. Одновременно он был частью Великого морского пути и восстанавливал Москву как внутренний порт.
Как создать историю города, собравшего вокруг себя земли, преобразившего воды?..
Земля в наброске сценария – пашня и руда. Руда, добытая открытым способом, тоже уменьшает площадь земли. Землю нужно напоить водою. Реки должны стать, как говорил Радищев, рукотворными. Дела людей должны были стать основой сюжета.
Прежде основой художественного произведения была история героя, которая смыкалась с историей его семьи. Не так построил Достоевский «Записки из мертвого дома». Он показал в тюрьме насильно собранных людей и развернул истории их многообразных трагедий.
Смоллетт, Филдинг и Диккенс вводили героя в тюрьму, но обыкновенно брали тюрьму долговую.
Горький в пьесе «На дне» избежал традиционной мотивировки входа и выхода героев на сцену; дал ночлежку, где люди сдвинуты в одну группу; нет стен, разделяющих людей, разнообразие судеб объединено разорением.
Как в изображении истории города избежать мнимого движения хронологии?
Как дать новые конфликты, соединяющие людей?
Как для себя, в себе преодолеть усталость подвига?
Изменялась жизнь. Строилась на горе Потылиха, там, где река Сетунь впадает в Москву-реку, новая кинофабрика.
Потылиха цвела вишневыми садами, заложенными еще до Ивана Грозного. Сюда привозили назём со всей Москвы. На грязи Москвы вырастали сады.
Потом асфальт победил сады. Асфальт заменил лед в прекрасной картине «Александр Невский». Сады Потылихи потом исчезли. И вновь вернулись садами вокруг нового здания Московского университета и яблоневым садом у самой фабрики. Посадил сад Сашко Довженко.
В старой церкви около кинофабрики потом разыгрывались сцены «Бежина луга».
Но это было будущим.
Потылиха была не только победой советского кино. Она несла в себе ошибки. Слишком велики были и не расчленены ее павильоны.
Здание было так огромно, что Эйзенштейн потом говорил, что на фабрике есть места, на которые «еще не ступала человеческая нога». Иногда приходится идти из комнаты в комнату, теряя дорогу; выходить на улицу, чтобы ориентироваться, превращая переход по зданию в некое подобие прогулки по городу.
Здесь еще не было места Сергею Эйзенштейну.
Я снова увидел его на Первом съезде советских писателей в Москве в 1934 году.
Блестели колонны Благородного собрания, те колонны, которые видали героев войны 1812 года, Пушкина, Лермонтова; те колонны, среди которых венком венчали Федора Достоевского, человека, заблудившегося в прошлом и будущем.
Блестели колонны, отражая гроб Ленина – человека будущего, отражая дышащую холодом молчаливую толпу.
Она шла черным ледоходом через зал, дыша морозом и горем.
Сейчас колонны отражают надежду.
На кафедре стоял еще не старый Максим Горький. Его освещал «юпитер». Он поднял длинную руку, наклонился и сказал негромко и как бы извиняясь:
– Уберите печку!
Он говорил о фольклоре, об осуществленных мечтах, о новом строительстве. Говорил о литературе.
Горький поднял перед собой руки, расставил ладони на расстояние не больше чем треть метра и сказал:
– Мы, писатели, можем только критиковать друг друга.
И потом повторил раздельно, упирая на «о»:
– Больше ничего. Только критиковать и работать.
Это был съезд великих ожиданий.
За столом президиума сидел девяностолетний поэт Джамбул. Он казался не столько старым, сколько человеком, совсем не имеющим лет. Мохнатая лисья шапка лежала перед ним на столе.
Сергей Михайлович вернулся домой достраивать свой замысел, создавать свою маленькую «экспериментальную вселенную». Он записал:
«На Первом Всесоюзном съезде писателей говорил Борис Пастернак.
Он влюбленно говорил о склонности своей к Пушкину.
О все более углубляющемся своем стремлении к творениям XIX века.
К осязательной приближаемости к [их] творцам.
О том, как он скачет все глубже и глубже к живительным истокам расцвета литературы начала XIX века.
И о том, как навстречу ему из этих глубин скачут сами творцы.
– Куда вы? – спрашивают его встречные.
– Назад – к началам нашего века. А вы?
– Мы? Мы – вперед. Вперед – к вашему времени. Вперед. В двадцатый век…
Я помню его взволнованное выступление, в котором он сам стыдил свою архаизирующую тенденцию рядом с прогрессивным стремлением всей столь дорогой ему поэзии пушкинской поры.
Точных слов Пастернака я уже не помню.
Помню только основной образ того, как может быть прогрессивен отсчет от Пушкина вперед» (т. 3, стр. 518).
Это было путевкой в трудное будущее, в будущее, которое надо создавать; в «экспериментальную вселенную», в первый раз появляющуюся.
Тут есть предтечи, но мало попутчиков.
Сергей Михайлович жил в широком море живописи, архитектуры, литературы.
Раны болели, но заживали.
Он перестраивал свой ритм заново, принимая пушкинскую ясность, пересматривая работу современников на Западе.
Он говорил, что для Пруста времени нет, что его эпопея называется повестью об утраченном времени. Героев нет. Есть один человек, вспоминающий микроскопические изменения в своей жизни. Его история – запись несвоевременных желаний. Он не любит, он выбирает ситуации неосуществленных желаний.
«Под сенью девушек в цвету» Марселя Пруста Сергей Михайлович Эйзенштейн знал хорошо и враждебно.
Человеческая душа расширилась. Должен быть создан новый кинематографический сюжет. Но пока связь предполагаемых кинематографических новелл последовательность времени соединяла несколько прямолинейно, осмысливала сопоставление геральдически условно.
Не надо думать, что жизнь гения состоит из одних побед.
В ней, как в скитаниях Одиссея, не имевшего карт, создается новая география. Древние называли Гомера «отцом географии».
Сергей Михайлович вернулся из Америки окровавленным. Вокруг него были друзья и ученики.
Они за три года изменились. Сняли картины, выросли.
Они были связаны с сегодняшним днем не только пониманием, но и непрерывностью работы, и это объясняет некоторую сложность положения Сергея Михайловича на Первом совещании кинематографистов.
Его любили, от него ждали нового слова; это слово нельзя было вспомнить, его надо было заново создать.
1935 год – совещание работников советской кинематографии
Совещание происходило 8–13 января 1935 года на Васильевской улице в большом зале старого Дома кино.
Советской кинематографии уже было пятнадцать лет, если считать днем ее рождения 27 августа 1919 года – момент издания декрета о переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения. Наше кино начато хроникой: в хронике впервые проявился талант первых операторов, набирались опыта первые режиссеры.
Но крупные удачи нашей кинематографии можно считать с 1923 года: тогда появилась картина по сценарию П. Бляхина «Красные дьяволята».
Наивная по сегодняшнему счету картина заполонила страну, ее знали все, ее смотрели и в Москве и в любом колхозе. Сейчас она возродилась в форме серии «Новые приключения неуловимых». Эта серия имеет успех, похожий на повторные приступы малярии, в кино, в телевидении. Недостаток ее сравнительно с прародителем, созданным П. Бляхиным, состоит в том, что «Красные дьяволята» первично молоды, рождены первым вдохновением.
Это первый воздух утра, когда он как будто только что создан, только что разлит над землей, только что согрет солнцем, вставшим из-за горизонта и дующим теплом в широкие поля.
«Новые приключения неуловимых» – работящая тень прародителя. Как всякая тень, она может быть размножена путем перемещений и размножений источников света.
Следующими удачами кинематографии были: «Дворец и крепость» – картина, созданная по сценарию Ольги Форш режиссером Ивановским; «Необыкновенные приключения мистера Веста в стране большевиков» – сценарий Николая Асеева, режиссер Лев Кулешов; «Аэлита», созданная Яковом Протазановым по сценарию Алексея Толстого и Алексея Файко.
Кинематография росла скорее царевича Гвидона. Появились картины «Киноглаз», потом «Стачка» С. М. Эйзенштейна, «Коллежский регистратор» с Москвиным. В сущности, советской кинематографии, начавшейся с 1925 года, в те годы, то есть ко времени совещания кинематографистов, было, скорее, как отмечали выступающие, не пятнадцать, а десять лет.
В зале все были молоды. Одним из старших был С. М. Эйзенштейн, который имел картины «Стачка», «Броненосец «Потемкин», «Октябрь», «Старое и новое». Его имя всемирно утверждено.
В зале Всеволод Пудовкин. После двух небольших картин он делал подряд картины «Мать», «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингис-хана». У этого молодого режиссера были три всемирно известные картины.
В зале был Довженко, создавший «Арсенал», «Землю» и картину, которую тогда считали неудачной, – «Иван».
В зале братья Васильевы, недавние монтажеры, создавшие сперва неудачную картину по сценарию Г. Александрова «Спящая красавица», потом маленькую веселую инструктивную или научную картину о кроликах и после этого – картину «Чапаев».
Картину, не нуждающуюся в эпитетах.
Но не могу удержаться и скажу.
«Чапаев» не только лента о гражданской войне.
Это лента о рождении нового человека.
Зрители потому так любят Чапаева, что видят в нем свою биографию, верят в себя и улыбаются своим ошибкам. «Чапаев» не совершенен, как не совершенно все искусство, но в смелости его решений есть будущее.
Шло заседание.
Это было собрание людей в возрасте от тридцати одного, может быть, до тридцати пяти. Это было собрание мастеров, уверенных в завтрашних удачах.
Не боящихся поисков.
Это был совет военачальников по самым важным вопросам стратегии революционной кинематографии. Спорили представители так называемого тогда монтажного кино и кино сюжетного. Термин «монтажное кино» ввел на заседании Сергей Юткевич, один из самых молодых участников совещания. Ему был тридцать один год. Он снял картины «Кружева», «Черный парус», «Златые горы» и только что закончил с Эрмлером картину «Встречный».
Монтажное кино противопоставлялось сюжетному кино, в частности картине братьев Васильевых – «Чапаев».
Терминология эта неточна. Сюжетные картины непрерывно снимались до 1935 года.
Слово «сюжет» в разное время, в разные эпохи искусства обозначало разное. Например, в XVIII веке сюжетом называли главного актера произведения и обычно первого любовника; в балете – корифея. Люди вкладывают в неизменившиеся термины изменяющиеся значения.
Лев Владимирович Кулешов снял по сюжету новеллы Джека Лондона «Неожиданное» – картину по моему сценарию. Сценарий получил название «По закону». Об этом сценарии во вступительном слове к совещанию говорил докладчик С. Динамов. Он упрекал Кулешова, говоря:
«Иногда наши режиссеры рисуют людей умирающих эмоций. Это Кулешов. Если возьмете «По закону», то в центре картины поставлена эмоция страха. Люди боятся убить врага, люди боятся смерти, они боятся жизни. И вот картина на протяжении шести-семи частей посвящена глубокому, тонкому анализу страха перед жизнью. Не только в этой картине, но и в других картинах Кулешова расцветают умирающие эмоции. Любопытно, что Кулешов у Джека Лондона увидел страх. Ленин, когда ему читала Надежда Константиновна Джека Лондона, увидел другое. Ему понравился рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни» о том, как один человек, несмотря ни на что, не останавливаясь ни перед чем, потеряв все, не имея ни огня, ни пищи, ни жилища, ползет, как зверь. Воля к жизни горит, не угасая ни на одну секунду.
Вот что нужно было видеть у Джека Лондона, вот что нужно видеть в нашей действительности.
Если художник будет знать жизнь, любить жизнь, если он будет говорить правду о ней, то он произведений об умирающей эмоции не создаст»[29].
Эту довольно большую цитату я привожу потому, что покойный С. Динамов говорил не только обидно, но и неверно. Владимиру Ильичу из рассказов Джека Лондона понравился только один – «Воля к жизни». Когда Надежда Константиновна читала ему другие рассказы, Ленин говорил о неудачах писателя, об единичности удачи.
Не буду пересказывать картину, она еще не забыта. Это не сценарий о страхе, это лента о том, как собственники защищают не какую-то абстрактную правду, а свое исключительное право на добычу. Человека, который борется, стараясь войти в долю, считают преступником. Это и создает преступление. Не будем сейчас обсуждать глубину и точность конфликта, но в картине он был показан хорошо.
«Потомок Чингис-хана» – кинопроизведение, известное во всем мире. Эта лента сюжетная, то есть в ней есть свой предмет с определенным выделением основной темы и обработка темы в сюжете-исследовании.
Такая обработка, в которой предмет предстает в разных видах, и есть полнота художественного познания.
Сценарий по повести Новокшонова написал О. Брик.
…Молодой монгол становится жертвой скупщика шкур. Очень ценная шкура чернобурой лисицы приемщиком бросается в кучу. За нее платят не настоящую цену. Кругом хозяева, оккупанты. Монгол ранил скупщика. Он преступник, его арестовывают, его расстреливают. Расстрел неохотно производит рядовой солдат. На груди монгола найдена ладанка, в ладанке родословная – монгол принадлежит к роду Чингис-хана. Возникает идея сделать его главой марионеточного государства.
Но молодой монгол уже расстрелян. Посылают на место казни того самого солдата, который расстрелял монгола. Казненный еще жив, его лечат, за ним ухаживают. Он ничего не понимает. Он боится яда, пьет воду из аквариума, потому что в аквариуме водятся живые рыбы, значит, там нет отравы. Его одевают во фрак, перед ним говорят речи. Он видит на даме, сидящей за столом, ту шкуру, которую у него отняли; он срывает эту шкуру; в финале происходит буря, за которую фильм назвали на Западе «Буря над Азией».
Это большая сюжетная картина.
Тем не менее можно сказать, что одно время предметные противопоставления, монтажные противопоставления ставились в одну высоту со смысловыми событийными сопоставлениями. И даже вытесняли их.
Вместо того чтобы по-новому использовать структуру, созданную старым искусством, его отвергали.
«Чапаев» – торжество всей советской кинематографии: картина была понятна всем; она всюду смотрелась, всюду понималась и многому научила мастеров.
Но в чем причина торжества «Чапаева», почему он так безусловно всеми был принят?
Мне кажется, потому, что в «Чапаеве» монтаж кинематографической фразы был подчинен сопоставлению – то есть монтажу – больших смысловых построений.
Монтаж крупных смысловых кусков – как бы глав – есть и в «Броненосце «Потемкин». Но «недовольство матросов» (бунт), «мертвый взывает» (мол и лестница) у Эйзенштейна не связаны внятно с ростом человеческого самосознания.
«Сюжетный фильм» создан на основе монтажных фильмов.
Васильевы – работники монтажного цеха – стали в несколько лет могучими режиссерами.
Создали сюжет, основанный не на деньгах, не на любви, а на раскрытии того, как создается новый командир: как человек изменяется, сам того не замечая, перестраивая себя в своем деле.
О сюжете «Чапаева», о монтаже смысловых построений
Разбита была эта картина на ряд завершенных кусков, неожиданных по завязке и развязке. Развязки были новыми завязками. Мы видим сцену, которую можно было бы назвать гульбой партизан. Партизаны веселятся. Но на крыльцо выходит ординарец и стреляет в воздух. Пауза. На паузе ординарец говорит: «Тихо, Чапай думать будет». Вот эта форма – Чапай, а не Чапаев, и этот способ – не звонок председателя и не стук по столу, а выстрел в воздух – дает своеобразное представление о возникновении дисциплины и о выделении командира, который должен думать за всех, и о том, что к его думе с уважением относится весь отряд.
Ножницы монтажера получили новое назначение.
Монтажные куски иначе завершаются и сходятся в новых противоречиях.
Молодой Сергей Юткевич говорил тогда, что «Чапаев» связан с «Матерью» Пудовкина и не связан с Эйзенштейном. Значит, это ребенок с матерью без отца.
В искусстве так не бывает.
Прошли годы, и тот же Юткевич стал одним из тех, кто восстанавливал наследие Эйзенштейна; он помог разобраться в его архиве; он руководит изданием мастера.
В искусстве очень многое принадлежит молодым, но зрелость тоже нужна художнику.
Нам говорить сейчас легче, мы судим себя, зная результат опытов своих и опытов товарищей.
Мы живем заново, как летописец Пимен, который в чем-то наш современник.