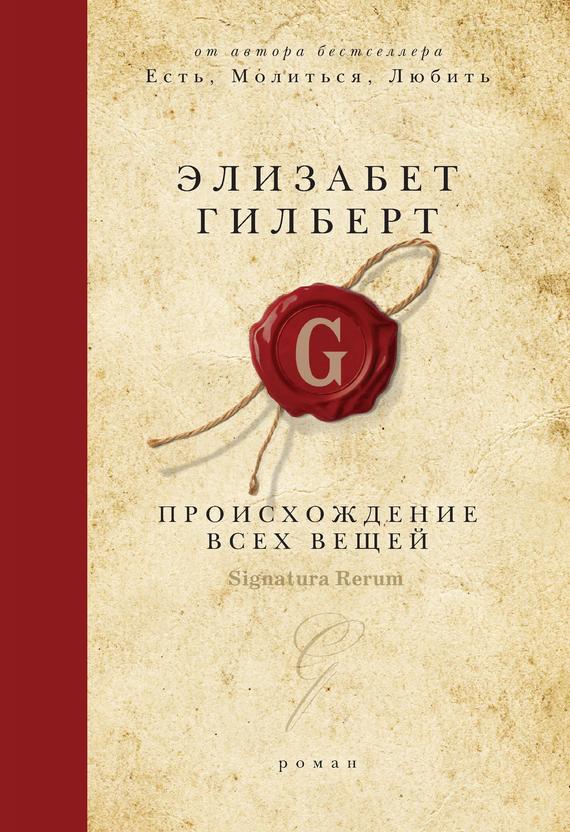Ветер сквозь замочную скважину Кинг Стивен

— Каторга.
— И что же это за каторга? — Все это мне сразу не понравилось.
— Бильская каторга, — уточнил Пикенс, глядя на меня как на круглейшего из круглых идиотов. — Ты что, не знаешь ее? А еще стрелок.
— Городок Били — это же на запад отсюда, верно? — спросил я.
— Был когда-то, — сказал Строттер. — Теперь это Били, город-призрак. Пять лет назад через него прошли бандиты. Говорили, будто это люди Джона Фарсона, но я в это не верю. Куда там! Самые обычные бандиты, грош за дюжину. Когда-то там был аванпост ополчения — в те времена, когда у нас еще было ополчение, — и Бильской каторгой тоже заправляли они. Туда мировой судья отправлял воров, убийц и шулеров.
— И еще ведьм с колдунами, — вставил Пикенс. У него было выражение лица человека, вспоминающего старые добрые времена, когда поезда ходили по расписанию, а джинг-джанг, без сомнения, звонил куда чаще и из самых разных мест. — Тех, кто практиковал черную магию.
— А один раз поймали людоеда, — добавил Строттер. — Он свою жену съел, — он сопроводил сообщение дурацким смешком, хотя неясно было, что именно его развеселило — сам факт поедания или отношения людоеда с жертвой.
— Этого-то парня повесили, — сказал Пикенс. Он откусил кусок жевательного табака и принялся его перемалывать своей внушительной челюстью. Взгляд его по-прежнему туманили воспоминания о прекрасном прошлом. — В те дни на Бильской каторге много кого вешали. Мы с папашей и мамашей несколько раз ездили посмотреть. Мамаша всегда брала с собой перекусить, — он неторопливо, задумчиво кивнул. — Да, много их было, много. И народу съезжалось полно. Там были балаганы и разные штукари, которые показывали хитрые штуки, вроде жонглирования. Иногда собачьи бои устраивали. Но главное-то, конечно, была виселица, — он захихикал. — Помню одного парня — он такую каммалу там сплясал, когда от падения его шея не…
— И какое отношение это имеет к татуировкам?
— А, — сказал Строттер, вспомнив, с чего начался разговор. — Их делали всем, кто трубил срок в Били, вот в чем тут дело. Я уж позабыл, то ли это делалось в наказание, то ли как опознавательный знак, на случай, если кто сбежит из рабочего отряда. Десять лет назад все это закончилось, и каторга закрылась. Вот почему бандиты смогли разгуляться там как следует: потому что ополчения-то там уже не было и каторга закрылась. Теперь нам приходится со всей этой швалью разбираться самим, — он смерил меня с ног до головы вызывающим взглядом. — Теперь Галаад не больно-то нам помогает. От Джона Фарсона толку было бы больше, и кое-кто уже готов отправить к нему на запад посланцев, — наверно, он что-то увидел в моих глазах, потому что подобрался в кресле и добавил: — Не я, само собой. Это уж нет. Я верю в честный закон и династию Эльда.
— Как и мы все, — присоединился к нему Пикенс, яростно кивая.
— А можете вы сказать, не отсидел ли кто из шахтеров на Бильской каторге до того, как та закрылась? — спросил я.
Строттер задумался ненадолго и сказал:
— Да есть такие. Не больше четверых из каждого десятка, так я скажу.
Позже я научился держать лицо, но то было в давние годы, и он, наверно, увидел мое уныние. И оно вызвало у него улыбку. Сомневаюсь, понимал ли он, чего ему могла стоить эта улыбочка. Последние два дня выдались для меня нелегкими, и мысль о мальчике грузом давила мне на душу.
— А кто, по-твоему, согласится за гроши вырубать соль из этой вшивой дырки в земле? Образцовые граждане? — спросил Строттер.
Похоже было на то, что юному Биллу придется-таки взглянуть на нескольких солевиков. Оставалось надеяться, что тот, кого мы ищем, не в курсе, что мальчик видел только его татуировку в виде кольца.
Когда я вернулся к камере, юный Билл лежал на тюфяках. Я подумал, что он спит, но при звуке моих шагов он сразу привстал. Глаза его покраснели, а щеки были влажными. Он не спал — скорбел. Я вошел, сел подле него и приобнял за плечи. Далось это мне нелегко — сострадание мне не чуждо, но выказывать его я никогда не умел. И я знал, каково это, потерять родных — в этом у юного Билл и юного Роланда было много общего.
— Доел конфеты? — спросил я.
— Нет, не хочу больше, — вздохнув, сказал он.
Ветер взвыл так, что от его порывов задрожало все здание. Потом слегка поутих.
— Ненавижу этот звук, — сказал мальчик. Джейми Декарри говорил то же самое, и это заставило меня улыбнуться. — И это место. Из-за него мне кажется, что я сделал что-то плохое.
— Это не так, — сказал я.
— Может и нет, но мне уже кажется, что пробыл здесь всю жизнь. Взаперти. А если они не вернутся к ночи, сидеть мне придется дольше, так ведь?
— Я побуду с тобой. Если у кого-нибудь из помощников есть колода карт, мы можем поиграть в Быстрого Джека.
— Это для мелюзги, — мрачно ответил он.
— Ну тогда в Будь Начеку или в покер. Знаешь эти игры?
Мальчик покачал головой и стал тереть щеки, по которым опять катились слезы.
— Я тебя научу. Будем играть на спички.
— Я лучше послушаю ту историю, о которой вы говорили в хижине пастуха. Не помню уже, как она называется.
— «Ветер сквозь замочную скважину», — сказал я, — но она длинная, Билл.
— Время у нас есть, так ведь?
С этим не поспоришь:
— И в ней есть страшные моменты. Мне это было в самый раз, когда мальчиком я лежал в кровати, а возле меня сидела мама, но тебе-то пришлось пройти через многое…
— Плевать, — сказал он, — истории заставляют людей забыться. Конечно, если это хорошие истории. А эта хорошая?
— Да. По крайней мере, я всегда так думал.
— Тогда рассказывайте, — он слабо улыбнулся, — я вам даже отдам две из трех крученок.
— Они все твои, а себе я сверну папиросу, — я думал, с чего начать. — Знаешь такие истории, которые начинаются со слов «Однажды, когда дед твоего деда еще не появился на свет…»?
— Они все так начинаются. По крайней мере те, которые рассказывал мой па. До того, как сказал, что я уже слишком взрослый для историй.
— Человек никогда не бывает слишком взрослым для историй, Билл. Мужчина, мальчик, девочка, женщина — никогда. Ради них мы живем.
— Правда?
— Да.
Я вытащил табак и папиросную бумагу. Скручивал медленно, потому что в те дни для меня это еще было в новинку. Когда результат меня удовлетворил (то есть, отверстие для затяжек стало не больше игольного ушка), я зажег спичку о стену. Билл сидел, скрестив ноги, на соломенных тюфяках. Взял одну из шоколадок, покрутил между пальцами — точь-в-точь как я, когда скручивал папиросу — и засунул ее за щеку.
Начал я медленно и неуклюже, потому что в те дни истории тоже пока не стали для меня обычным делом… хотя со временем я в них поднаторел. Пришлось, как приходится всем стрелкам. И чем дальше, тем легче и естественнее давались мне слова, потому что я начал слышать голос своей матери. Он изливался через меня, со всеми его подъемами, падениями и паузами.
Я видел как мальчик погружается все глубже и глубже, и меня это порадовало. Я будто бы снова вводил его в транс, но уже другим, лучшим способом. Более честным. Но больше всего меня радовал голос матери — я как бы снова обрел ее внутри себя. Конечно, голос причинял и боль тоже. Со временем я понял, что все лучшее зачастую сопряжено с болью. На первый взгляд, это странно, но, как говорили старики, мир — странное место и всему когда-нибудь приходит конец.
— Однажды, когда дед твоего деда еще не появился на свет, у края неведомой глуши, называемой Бескрайним Лесом, жил мальчик Тим со своей мамой, Нелл, и папой, Большим Россом. Были они бедны, но до поры до времени жили счастливо втроем…
ВЕТЕР СКВОЗЬ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ
Однажды, задолго до того как дед твоего деда появился на свет, у края неведомой глуши, называемой Бескрайним Лесом, жил мальчик по имени Тим с мамой Нелл и папой, Большим Россом. Были они бедны, но до поры до времени жили счастливо втроем.
— Я смогу передать тебе лишь четыре вещи, — говорил Большой Росс сыну, — но четырёх достаточно. Сможешь их перечислить, сынок?
Тим хоть и перечислял их уже не раз, но всегда был рад повторить:
— Топор, счастливая монета, надел и дом, который не хуже, чем жилище любого короля или стрелка в Срединном Мире, — тут мальчик обычно делал паузу и добавлял, — и, конечно же, моя мама. Значит, их пять.
Большой Росс смеялся и целовал сына в лоб. Мальчик уже лежал в кровати, потому что ритуал этот проводился обычно в конце дня. За ними, в дверях, стояла Нелл в ожидании минуты, когда и она сможет оставить свой поцелуй поверх отцовского.
— Ага, — говорил Большой Росс, — маму забывать никак нельзя — нам без нее никуда.
Тим засыпает, зная, что его любят, что у него есть свое место в мире. Вокруг дома шуршит ветер, и его таинственное дыхание доносит до мальчика разные запахи: сладкий запах цветуниц, растущих на краю Бескрайнего Леса и едва различимый, кисловатый, но все равно приятный запах железных деревьев, которые растут там, куда решаются ступить только самые смелые.
Хорошие то были годы, но как мы знаем — из сказок и из жизни — хорошие годы не длятся вечно.
Однажды, когда Тиму было одиннадцать, Большой Росс и его партнер, Большой Келлс, гнали свои телеги по Главной дороге к тому месту, где Железная тропа вливалась в лес. Так они делали каждое утро, за исключением каждого седьмого, когда вся деревенька Листва отдыхала. Но вернулся в тот день только Большой Келлс. Кожа его была покрыта сажей, а куртка опалена. В левой штанине домотканых штанов зияла дыра. Сквозь нее проглядывала обожженная и покрытая волдырями кожа. Сам Большой Келлс ссутулившись сидел на облучке, не в силах выпрямиться.
— Где Большой Росс?! Где мой муж?! — закричала Нелл, подбежав к двери своего дома.
Большой Келлс медленно покачал головой — с волос на плечи посыпался пепел. Он произнес только одно слово, но и его хватило, чтобы превратить колени Тима в желе. Мама зарыдала.
А слово было «дракон».
Никому из ныне живущих не доводилось видеть ничего похожего на Бескрайний Лес, потому что мир сдвинулся с места. Он был сумрачный, полный опасностей. Дровосеки Листвы знали это лучше, чем кто угодно другой в Срединном мире, но даже им ничего не было известно о том, что обитало или росло за десять колес от места, где кончались купы цветуниц и начинались железные деревья — эти высокие мрачные часовые. Чаща леса была тайной, полной диковинных растений и еще более диковинных зверей, вонючих чудь-болот и, поговаривали, следов Древних, зачастую смертоносных.
Жители Листвы боялись Бескрайнего Леса, и недаром. Большой Росс был не первый лесоруб, который ушел по Железной Тропе и не вернулся. Но они и любили его, потому что ведь это железное дерево кормило и одевало их семьи. Они понимали (хоть вслух никто бы об этом не сказал), что лес был живой. И, как всем живым существам, ему нужна была пища.
Представь, что ты — птица, летящая над этими дикими просторами. Сверху они могли показаться великанским зеленым платьем, темным почти до черноты. Внизу платья ты увидел бы кайму посветлее. Это были рощи цветуниц. А под самыми цветуницами, в дальнем конце Северного Баронства, стояла деревушка Листва. Это было последнее поселение на границе тогдашнего цивилизованного мира. Как-то раз Тим спросил отца, что такое «цивилизованный».
— Налоги, — ответил Большой Росс и засмеялся, да только как-то невесело.
Большинство лесорубов не заходило дальше цветуничных рощ. И даже там можно было столкнуться с опасностью. Хуже всего были змеи, но встречались и ядовитые грызуны — вервелы, размером с собаку. Много людей погибло в цветуницах за долгие годы, но все же цветуницы того стоили. Это была хорошая древесина, с тонкими волокнами, золотистого цвета, такая легкая, что разве в воздухе не парила. Из нее строили хорошие посудины для плавания по рекам и озерам, но для морских она не годилась; даже не очень сильный шторм быстро разломал бы на куски цветуничное судно.
Для мореплавания требовалось железное дерево, и за это дерево Ходиак, баронский закупщик, приезжавший на лесопилку Листвы дважды в год, платил хорошие деньги. Это железное дерево придавало Бескрайнему Лесу его зеленовато-черный оттенок, и только самые храбрые лесорубы отваживались за ним отправиться, потому что на Железной тропе — которая, надо сказать, была лишь царапиной на шкуре Бескрайнего леса, — таилось множество опасностей, по сравнению с которыми змеи, вервелы и пчелы-мутанты из цветуничных рощ казались пустяками.
Драконы, к примеру.
Вот так и случилось, что на двенадцатом году жизни Тим Росс потерял отца. Не было теперь ни топора, ни счастливой монеты, висевшей на серебряной цепочке у Большого Росса на мощной шее. А вскоре могло не оказаться и надела с домом, ибо приближалось время Широкой Земли, а значит визит баронского сборщика податей уже не за горами. При нем был пергаментный свиток, который содержал фамилии всех семейств Листвы. Напротив каждой фамилии — число. Оно означало сумму налога. Если ты мог заплатить — четыре, шесть или восемь серебряников, а в случае самых крупный хуторов — целый золотой, то все было в порядке. Если же нет, то Баронство забирало твой надел и пускало тебя по миру. Никакие протесты не принимались.
Обычно Тим проводил полдня в доме вдовы Смак, которая вела школу. Платили ей едой — обычно овощами, но иногда и мясом. Давным-давно, когда половину ее лица еще не сожрали кровавые язвы (дети перешёптывались об этом, хотя наверняка ничего не знали), вдова была важной леди и жила далеко-далеко в баронских поместьях (об этом уже шептались взрослые, но опять же, правды не знал никто). Теперь же вдова носила вуаль и учила смышленых мальчишек, а иногда и девчонок, читать и постигать сомнительное искусство под названием матьматика.
Вдова была страшно умной. Она готова была учить детей днями напролет, но болтовню на уроках пресекала нещадно. И в основном дети ее любили, несмотря на ее вуаль и на ужасы, которые могли под ней скрываться. Но иногда вдову начинала бить дрожь, и она кричала, что у нее раскалывается голова и ей надо прилечь. В такие дни она отпускала детей по домам и иногда наказывала им передать родителям, что она ни о чем не жалеет и меньше всего — о своем прекрасном принце.
Один из таких приступов случился у сай Смак через месяц после того, как дракон обратил в пепел Большого Росса. Когда Тим вернулся домой (дом звали Красавцем), он заглянул в кухонное окно и увидел, что мама плачет, опустив голову на стол.
Тим бросил свою грифельную доску с задачками по матьматике (на этот раз — деление столбиком, которого он боялся, но которое оказалось всего лишь умножением наоборот) и ринулся к маме. Увидев сына, мама попыталась улыбнуться. Растянутые в улыбке губы так не сочетались с плачущими глазами, что мальчику самому захотелось плакать. Выглядела мама так, будто что-то в ней вот-вот оборвется.
— Что случилось, мам? Что не так?
— Просто думала о папе. Я так по нему скучаю. А почему ты так рано?
Он уж было начал рассказывать, но заметил кожаный кошель с тесемкой наверху. Мама прикрыла его рукой, а когда увидела, куда смотрит Тим, то смела его со стола к себе на колени.
Тим был совсем не глупым мальчиком, поэтому прежде всего он приготовил чаю. Хотя сахара оставалось уже на донышке, чай он сделал сладким, и мама, отпив немного, слегка успокоилась. Только после этого Тим спросил, что еще не так.
— Не понимаю, о чем ты.
— Зачем ты считала деньги?
— Было бы, что считать, — горько ответила она, — пройдет Праздник Жатвы, а сборщик податей уже тут как тут. Даже не будет ждать, пока все костры погаснут. И что тогда? В этом году он запросит шесть серебряников, а может и все восемь, потому что, говорят, налоги поднялись. Наверное, нужны деньги на очередную дурацкую войну далеко отсюда. Солдаты маршируют, знамена развеваются — все чинно-благородно, ага.
— И сколько у нас есть?
— Четыре с мелочью. Скота у нас нет, а с тех пор, как твой папа умер, железного дерева — ни бревнышка. Что нам делать? — она заплакала, — что же нам делать-то?
Тим боялся не меньше нее, но ведь рядом не было мужчины, чтобы ее успокоить, поэтому свои слезы он придержал, обнял маму и попытался успокоить ее, как мог.
— Если б у нас остались его топор и монета, я бы продала их Дестри, — сказала она наконец.
Тим пришел в ужас, хотя и топор, и монета сгинули там же, где их жизнерадостный и добродушный хозяин.
— Ты бы никогда такого не сделала!
— Сделала бы, чтобы сохранить надел и дом. За них папа переживал больше всего. За меня и тебя тоже, конечно. Если бы он был здесь, то сказал бы: «Продавай на здоровье, Нелл», потому что деньги у Дестри есть, — она вздохнула, — но в следующем году сборщик приедет снова… и через два года тоже… — она закрыла лицо руками. — О, Тим, нас пустят по миру, а я ничем не могу этому помешать. Разве можешь ты?
Тим с радостью пожертвовал бы тем немногим, что у него было, чтобы ответить «да», но понимал, что это капля в море. Он мог лишь спросить, когда сборщик податей появится в Листве на своей огромной, черной как смоль лошади, сидя в седле, которое стоит больше, чем Большой Росс заработал за все двадцать пять лет, рискуя жизнью на Железной тропе.
Она показала четыре пальца:
— Через столько недель, если погода будет хорошей, — потом, показав еще четыре, — а через столько, если погода задержит его в деревнях Срединья. Восемь — это большее, на что мы можем надеяться. А потом…
— До того, как он приедет, что-нибудь да случится, — сказал Тим, — па всегда говорил, что лес воздает тем, кто его любит.
— На моей памяти он лишь забирал, — ответила Нелл и снова закрыла лицо руками. Тим попытался обнять ее, но она покачал головой.
Он поплелся наружу за своей доской. Никогда он не чувствовал себя таким грустным и испуганным.
«Что-нибудь да случится», — думал он, — «пожалуйста, пусть что-нибудь случится и все изменит».
Штука в том, что иногда желаниям свойственно исполняться.
Знатной выдалась в Листве Полная Земля. Это признала даже Нелл, хоть ей и больно было смотреть на созревающий урожай. Возможно, в следующем году им с Тимом придется кочевать от поля к полю с брезентовыми мешками за плечами, удаляясь все дальше и дальше от Бескрайнего Леса. И думы эти омрачали летнюю красоту. Лес был ужасным местом — он забрал ее мужчину — но кроме него она ничего не знала. По ночам, когда ветер дул с севера, он любовником вкрадывался к ней в постель сквозь открытое окно спальни, принося неповторимый, горько-сладкий аромат леса. Словно кровь, смешанная с земляникой. Иногда ей снились его густые покровы и потайные тропки, и солнечный свет, такой рассеянный, что казалось, будто его пропустили через толстое зеленое стекло.
Запах леса, который приносит северный ветер, порождает видения, говорили старики. Нелл не знала, правда ли это, или просто треп у очага, но знала, что запах Бескрайнего Леса — это смешанный запах жизни и смерти. И она знала, что Тим любит этот запах, как любил его отец. Как и она сама, хоть иногда ей этого и не хотелось.
Нелл втайне боялась того дня, когда мальчик станет сильным и высоким и начнет ходить по опасной тропе со своим отцом. Теперь же она лишь сожалела, что этот день никогда не настанет. Сай Смак со своей матьматикой — это замечательно, но Нелл знала, чего по-настоящему хотел ее сын, и она ненавидела дракона, вставшего у него на пути. То, наверное, была самка, вставшая на защиту яйца, но Нелл все равно ее ненавидела. Она надеялась, что чешуйчатая желтоглазая сука подавится своим же огнем и взорвется. В старых сказках такое бывало.
Через несколько дней после того, как Тим пришел домой и застал маму в слезах, к ней пришел Большой Келлс. Тим получил двухнедельную работу на ферме Дестри, помогая тому с сенокосом, поэтому Нелл была в саду одна. Она стояла на коленях и выпалывала сорняки. Увидев друга и партнера своего покойного мужа, она поднялась и вытерла руки о фартук из мешковины, который иногда в шутку называла своим свадебным платьем.
Одного взгляда на его чистые руки и подстриженную бороду было достаточно, чтобы понять, зачем он пришел. Когда-то, еще детьми, Нелл Робертсон, Джек Росс и Берн Келлс были большими друзьями. Просто-таки щенки из одного помета, говорили иногда жители деревни при виде этой троицы. В те дни были они не разлей вода.
Юношами оба парня ухаживали за Нелл, и хотя любила она обоих, с ума сходила именно по Большому Россу. За него она вышла замуж и пустила в свою постель (правда, никто не знал, в таком ли порядке все произошло, да и не заботило это никого). Билл Келлс принял удар, как мужчина. На свадьбе он стоял рядом с Россом и повязал шелковую веревку вокруг молодых, когда те шли обратно по проходу после речи проповедника. В дверях Келлс веревку снял (хотя, как говорят, молодоженам от нее уже не избавиться), поцеловал молодых и пожелал им жизни, полной долгих дней и приятных ночей.
День, когда Келлс застал Нелл в саду, выдался жарким, но на нем была курка из черного сукна. Из кармана он достал кусок шелковой веревки. Нелл это предчувствовала, как предчувствовала бы любая женщина на ее месте, даже после долгих лет брака. Ведь сердце Келлса с тех пор осталось все тем же.
— Ты согласна? — спросил он. — Если да, то я продам свой дом и свою землю старику Дестри — он уже давно на них глаз положил, потому что они граничат с его восточным полем — и переберусь к тебе. Скоро появится сборщик податей, Нелли, и протянет руку. А сможешь ли ты ее наполнить без мужчины?
— Ты знаешь, что нет, — ответила она.
— Тогда скажи, повяжем ли мы веревку?
Нелл все вытирала руки о фартук, хотя их оставалось только сполоснуть в воде из ручья:
— Я… я подумаю.
— О чем тут думать? — он достал бандану, которая в этот раз лежала сложенной в кармане вместо того, чтобы быть свободно повязанной на шее, как это обычно и делают лесорубы. Промокнул лоб. — Выбор у тебя небольшой. Ты либо соглашаешься и мы остаемся жить в Листве. Парнишке я подыщу какую-нибудь работу, чтобы помогал семье. В лес ему пока еще рано — слишком мал. Либо вы идете по миру. Пойми, я могу поделиться тем, что у меня есть, но отдавать просто так не могу, как бы мне этого не хотелось. У меня есть лишь один дом, который можно продать.
«Он пытается подкупить меня, чтобы согреть ту сторону постели, на которой когда-то спала Миллисент», — думала Нелл. Но мысль эта казалась недостойной мужчины, которого она знала еще до того, как он им стал. Того мужчины, который работал бок о бок с ее любимым мужем в опасных зарослях на конце Железной тропы. Один — чтоб рубить, второй — чтоб спину прикрыть, говорят старики. Всегда вместе и никогда — порознь. Теперь, когда Джека Росса не стало, Берн Келлс просил ее быть вместе с ним. И это нормально.
И все же она колебалась.
— Завтра приходи в это же время, если не передумаешь, — сказал ему Нелл, — и я дам тебе ответ.
Нелл видела, что ответ ему не понравился. Заметила по глазам, как замечала и раньше, когда еще была зеленой девчонкой, за которой, подругам на зависть, ухаживали два чудесных парня. Именно глаза заставили ее повременить с ответом, хотя на первый взгляд казалось, что это бог послал ей ангела, предлагающего вытащить ее и Тима из глубокой ямы, в которой они оказались после смерти Большого Росса.
Келлс опустил глаза. Возможно, понял, что заметила в них Нелл. Некоторое время он изучал свои ноги, а когда вновь поднял взгляд, на лице его сияла улыбка. Она сделала его почти таким же красивым, каким он был в молодости… но все равно не таким, как Джек Росс.
— Завтра, значит… Но не позже, дорогая моя. Есть у них на западе одна присказка: «На предложенное долго не смотри, ибо все ценное имеет крылья и может улететь».
Сполоснувшись, Нелл немного постояла на берегу ручья, вдыхая кисло-сладкий аромат леса, потом пошла в дом и прилегла. Лежать в кровати еще до захода солнца? Для Нелл это было неслыханным делом, но ей надо было о многом подумать и повспоминать о тех временах, когда два юных лесоруба соревновались за ее поцелуи.
Даже если бы ее сердце и потянулось к Берну Келлсу (в те дни он еще не стал Большим, хотя отец его успел погибнуть в лесу от когтей вурта или какой-то другой кошмарной твари), Нелл сомневалась, что смогла бы повязать веревку с ним, а не с Джеком Россом. На трезвую голову Келлс был добродушным, много смеялся и был спокоен, как песок в песочных часах, но когда напивался, то становился злобным и частенько распускал кулаки. А в те дни пьянствовал он много, особенно после свадьбы Росса и Нелл, когда его запои становились все длиннее. Не раз и не два Келлсу приходилось очухиваться в тюрьме.
Джек терпел это некоторое время, но после выпивки, где Келлс разрушил большую часть мебели в салуне, прежде чем отключиться, Нелл сказала мужу — что-то должно быть предпринято. Большой Росс неохотно согласился. Он вытащил своего партнера из тюрьмы — как это делал ранее много раз — но в этот раз он с ним дружески переговорил, вместо того, чтобы просто сказать Келлсу залезть в ручей и оставаться там, пока его голова не прояснится.
— Слушай сюда, Берн, и слушай внимательно. Мы дружим еще с младенчества, а работаем в паре с тех пор, как нам разрешили оставить цветуницы и ходить за железными деревьями. Ты прикрывал мне спину, а я прикрывал твою. Когда ты трезвый, на свете нет никого, кому я доверял бы больше. Но стоит тебе залить в глотку пойло — ты становишься не надежнее трясины. Один я в лес ходить не могу, и все, что у меня есть — все что есть у нас обоих — пойдет псу под хвост, если я не смогу тебе доверять. Мне очень не хочется искать нового партнера, но запомни: у меня есть жена, а скоро будет и ребенок, и ради них я на все пойду.
Келлс напивался и куролесил еще несколько месяцев, словно делая назло своему другу (и его молодой жене). Большой Росс уже был готов искать нового партнера, но тут случилось чудо. Чудо было чуть больше пяти футов ростом, и звали его Миллисент Рэдхаус. И если ради Большого Росса Келлс успокаиваться не собирался, ради Милли он был готов на все. Шесть сезонов спустя Миллисент умерла при родах. Ребенок скончался сразу за ней, еще до того, как успели остыть раскрасневшиеся от схваток щеки несчастной, — тайком рассказала Нелл повитуха.
— Теперь Келлс снова примется за выпивку, и только бог знает, чем это кончится, — мрачно говорил Росс.
Но ко всеобщему удивлению Келлс оставался трезвым, и когда ему случалось проходить мимо Салуна Гитти, он перебирался на другую сторону улицы. Говорил, что это была предсмертная просьба Милли, и если он поступит иначе, то оскорбит ее память.
— Я умру прежде, чем пропущу еще стаканчик, — говорил он.
Обещание Келлс держал… но иногда Нелл ловила на себе его взгляд. Даже не иногда, а часто. Изредка он к ней прикасался, но прикосновения эти не были ни откровенно интимными, ни даже двусмысленными, а поцеловать мог только в разгар Праздника Жатвы. Но вот его взгляд… Не тот, которым мужчина смотрит на друга или на жену друга, а тот, которым мужчина смотрит на женщину.
Тим пришел домой за час до заката усталый, но довольный. Ко всем видимым местам его потной кожи прилипла солома. Фермер Дестри заплатил ему распиской для деревенской лавки. Сумма вышла приличной, а к ней жена фермера добавила мешок со сладким перцем и помидорами. Нелл взяла у мальчика расписку и мешок, наградила добрым словом и поцелуем, сделала ему здоровенный бутер и отправила к ручью искупаться.
Тим стоял в холодной воде, а впереди него тянулись в направлении Внутреннего мира и Галаада подернутые дымкой поля. Слева, меньше, чем в колесе от него, начинался лес, в котором, как говорил папа, даже днем стояли сумерки. При мыслях об отце, радость Тима от сегодняшнего (почти как у взрослого мужчины) заработка куда-то ушла, высыпалась, словно зерно из дырявого мешка. Грусть находила на него часто, но всегда как-то неожиданно. Некоторое время Тим сидел, подобрав колени к груди и положив голову на руки. Погибнуть от драконьего огня так близко к краю леса… Как же это несправедливо! Но такое случалось и раньше — отец не был первым, не будет и последним.
Через поля до Тима донесся голос мамы, зовущий его домой на настоящий ужин. Тим бодро отозвался, затем наклонился и промочил холодной водой глаза, которые почему-то опухли, несмотря на то, что он не плакал. Тим быстренько оделся и побежал вверх по склону. Спустились сумерки, и мама зажгла лампы, которые теперь отбрасывали прямоугольники света на ее маленький сад. Усталый, но вновь счастливый — ибо мальчишки переменчивы, как флюгера на ветру — Тим поспешил к манящему свету дома.
Когда с ужином было покончено, а посуду вымыли, Нелл сказала:
— Тим, я хочу поговорить с тобой как мать с сыном… и не только. Ты у меня уже большой, даже вон начал подрабатывать, а скоро вообще расстанешься с детством — скорее, чем мне бы хотелось — и у тебя есть право не свое мнение.
— Ты о сборщике податей, мама?
— И о нем тоже но… дело не только в этом.
«Боюсь, дело не только в этом», чуть ли не вырвалось у нее, но с чего бы? Да, решение было важным и очень непростым, но чего бояться-то?
Нелл пошла в гостиную. Тим за ней. Гостиная была такой маленькой, что если Большой Росс стоял в центре, то почти что дотягивался до противоположных стен. И там, сидя у нерастопленного очага (ночь в ту Полную Землю выдалась теплой), она рассказала Тиму обо всем случившемся между ней и Большим Келлсом. Тим слушал со все нарастающим беспокойством.
— Ну, — закончив, спросила Нелл, — что ты думаешь? — Тим еще не успел ответить, но по лицу она увидела, охватившую мальчика тревогу, которую чувствовала она сама.
— Он хороший человек, папе он был как брат, — затараторила она, — я уверена, он волнуется за меня и за тебя.
«Как бы не так», — думал Тим, — «я — это так, лишнее барахло в седельной сумке. Он даже никогда не смотрит на меня. Только если со мной был папа. Или ты».
— Мам, я не знаю…, — от мысли о том, как Большой Келлс бродит по дому, как он лежит рядом с мамой на месте папы, мальчику сделалось нехорошо, будто бы ужин неудачно устроился в желудке. По правде говоря, он уже рвался наружу.
— Пить он перестал, — продолжала Нелл. Казалось, она увещевает саму себя, а не сына. — Давно уже. Юношей он бывал чересчур бурным, но твой папа нашел на него управу. Миллисент тоже, конечно.
— Может и так, но их с нами уже нет, — отметил Тим, — и, ма, никто по-прежнему не хочет быть его напарником на Железной тропе. Он идет и работает один, а это же так опасно!
— Ну, прошло не так уж и много времени, — ответила она, — Келлс партнера найдет, потому что Келлс сильный и знает самые лучшие места. Твой папа показал ему, как их находить, когда они еще только становились лесорубами. Они застолбили неплохие участки у конца тропы.
Тим знал, что это правда, но он не был так уверен, что Келлс найдет нового напарника. Другие лесорубы сторонились его. Они, казалось, делали эти непроизвольно, как хорошо знакомый с лесом человек обходит куст иглояда, заметив его лишь уголком глаза.
«А может, мне это только кажется», — подумал Тим.
— Я не знаю, — снова сказал он, — веревку, повязанную в церкви уже не развязать.
— И где, во имя Полной Земли, ты это услышал? — Нелл нервно рассмеялась.
— Ты сама говорила, — ответил Тим.
Она улыбнулась:
— Может и я, да. Рот у меня не закрывается, а язык — как помело. Давай уже идти спать. Утро вечера мудренее.
Но спалось им плохо. Тим лежал в кровати и думал, каково это, иметь Большого Келлса к качестве отчима. Будет ли он хорошо к ним относиться? Будет ли он брать с собой в лес Тима и обучать своему ремеслу? Было бы неплохо, думал Тим, но согласится ли на это мама? Ведь работа эта забрала у нее мужа… А может быть, она захочет, чтобы он всю жизнь оставался к югу от Бескрайнего леса и стал фермером?
«Дестри — хороший дядька», — думал Тим, — «но я никогда не буду фермером, как он. Ведь Бескрайний лес так близок, а в мире еще столько интересного!»
Через стену от него лежала Нелл, погруженная в свои собственные невеселые мысли. В основном, думала она о том, какой станет их жизнь, если она откажет Келлсу и их с Тимом пустят по миру, оторвав от единственного знакомого им места в этом мире. Какой станет их жизнь, когда баронский сборщик податей прискачет на своей огромной черной лошади, а им нечего будет ему дать.
Следующий день выдался еще жарче, но Келлс пришел все в той же куртке из черного сукна. Лицо его раскраснелось и блестело от пота. Нелл пыталась себя убедить, что от него не разило граффом, а если и разило, то что с того? Ведь это всего лишь крепкий сидр, и каждый мужчина на его месте выпил бы пару стаканчиков перед тем, как идти к женщине за ответом. К тому же, она все уже для себя решила. Ну, почти.
Не успел Келлс снова задать свой вопрос, как Нелл, набравшись храбрости, сказала:
— Мой мальчик напомнил мне, что веревку, повязанную в церкви, уже не развязать.
Большой Келлс нахмурился. Раздосадовало ли его упоминание Тима или брачной петли, Нелл сказать не могла.
— Ну, и что с того?
— Будешь ты относиться к нам по-доброму?
— Ага, насколько смогу, — он нахмурился еще больше. Нелл не поняла, сердится ли он или просто озадачен. Она надеялась, что озадачен. Мужчины, способные рубить деревья в опасной глуши и не боящиеся жутких тварей, частенько теряются в таких вот деликатных делах. Нелл это знала, и замешательство Келлса заставило ее открыться.
— Даешь слово? — спросила она.
Лоб Келлса слегка разгладился. Он улыбнулся — в старательно подстриженной бороде сверкнули белые зубы:
— Даю, получи и распишись.
— Тогда я говорю «да».
Вот так они и поженились. На этом месте заканчиваются многие истории, но наша, к сожалению, только начинается.
На свадьбе тоже подавали графф и для мужчины, который зарекся прикасаться к спиртному, Большой Келлс залил в себя немало. Тим смотрел на это с тревогой, а вот мама, казалось, ничего не замечала. Еще Тима беспокоила то, как мало лесорубов пришло на свадьбу, хотя было воскресье. А будь он девчонкой, то заметил бы кое-что еще: несколько женщин, которых Нелл считала своими подругами, смотрели на нее со старательно скрываемой жалостью.
В ту ночь, уже далеко за полночь, Тим проснулся от какого-то стука, за которым последовал крик. Он мог посчитать это сном, да только звуки доносились из-за стены, из комнаты, которую мама теперь делила (в это все еще было трудно поверить) с Большим Келлсом. Тим лежал и слушал. Он уж было начал снова проваливаться в сон, но тут из-за стены послышался тихий плач. За плачем последовал голос новоиспеченного отчима, низкий и сердитый: «Заткнись, а? Тебе же не больно, даже вон крови нет, а мне вставать с ранними пташками».
Плач прекратился. Тим поприслушивался еще немного, но разговоров больше не было. Вскоре после того, как послышался храп Большого Келлса, мальчик заснул. На следующее утро, когда мама стояла у плиты и готовила яичницу, Тим заметил синяк на внутренней стороне руки чуть повыше локтя.
— Это ерунда, — сказала Нелл, когда заметила, куда он смотрит, — я просто вставала ночью сходить по нужде и ударилась о стойку кровати. Теперь, когда я снова не одна, мне надо заново учиться находить путь в темноте.
«Да, вот этого-то я и боюсь», — подумал Тим.
На второе воскресье своей семейной жизни Большой Келлс взял с собой Тима в дом, принадлежавший теперь Лысому Андерсону, второму богатому фермеру Листвы. Они поехали в лесовозке Келлса. Без тяжелых кругляшей или досок железного дерева в повозке мулы ступали легко; в этот раз в фургоне оставалось лишь несколько кучек опилок. И, конечно же, кисло-сладкий запах — запах лесной чащи. Старый дом Келлса стоял печальный и заброшенный, с закрытыми ставнями, заросший некошеной травой по самые занозистые доски крыльца.
— Вот заберу свои ганна, а там пусть Лысый хоть на дрова его распилит, — проворчал Келлс. — Мне-то что?
Как оказалось, ему понадобились только две вещи во всем доме — старая грязная скамеечка для ног и здоровенный кожаный сундук с ремнями и медным замком, стоявший в спальне. Келлс погладил его, словно сундук был домашним животным:
— Это-то я тут не оставлю, — сказал он. — Ни за что. Это папашин сундук.
Тим помог его вытащить, но в основном поработать пришлось Келлсу. Сундук оказался тяжеленный. Поставив его в повозку, Келлс наклонился и оперся ладонями о колени своих свежезаштопанных (и весьма аккуратно заштопанных) брюк. Наконец, когда на его щеках начали бледнеть фиолетовые пятна, он снова погладил сундук, да с такой нежностью, с какой пока что не прикасался к матери Тима:
— Все мои пожитки — в этом сундуке. А что до дома — скажешь, честную цену заплатил мне Лысый? — он взглянул на Тима с вызовом, словно ожидая возражений.
— Не знаю, — осторожно ответил Тим, — люди говорят, сай Андерсон скуповат.
Келлc хрипло расхохотался:
— Скуповат?! Скуповат?! Да выбить из него грош сложнее, чем трахнуть девственницу. Знаю я, знаю, что вместо целого куска получил сущие крохи, ведь он понимал, что ждать я не могу. Давай-ка привяжем заднюю доску. И поторопись.
Тим поторопился. Он привязал свой край доски быстрее Келлса, хотя узел у того получился не в пример неряшливее. Папа бы рассмеялся, увидев такой. Закончив, Келлс вновь любяще погладил сундук.
— Все в нем, все, что у меня есть. Лысый знал, что к Широкой Земле мне позарез нужно серебро, так ведь? Скоро приедет старый добрый Сам Знаешь Кто и протянет руку, — Келлс сплюнул себе промеж изношенных сапог, — а виновата во всем твоя ма.
— Моя ма? Почему? Разве ты сам не хотел на ней жениться?
— Попридержи язык, пацан, — Келлс глянул вниз и, казалось, удивился, увидев кулак там, где за секунду до этого была ладонь. Разжал пальцы. — Мал ты еще, ничего не понимаешь. Когда подрастешь, поймешь, как бабы мужиками вертят. Давай возвращаться.
На полпути к сиденью возницы он остановился и посмотрел на мальчика поверх сундука:
— Я люблю твою маму. Пока это все, что тебе надо знать.
А когда мулы затопали по главной улице деревни, добавил: «Папку твоего я тоже любил. Как же я по нему скучаю. Скучаю по нашей работе в лесу. По Мисти и Битси, на которых он ехал впереди меня по тропе. Без него все уже не то.
При этих словах сердце Тима, хоть и с неохотой, потянулось к этому большому, ссутуленному человеку с поводьями в руках, но не успело это чувство окрепнуть, как Большой Келлс снова заговорил.
— Хватит тебе ходить к этой Смак, с ее цифрами и книгами. Странная она. Вуаль, припадки и все такое. Как она умудряется задницу подтирать, когда посрет, для меня загадка.
Сердце у Тима в груди словно бы захлопнулось. Он любил учиться, и он любил вдову Смак, вместе с вуалью и со всеми припадками. Его возмутило, что отчим говорит о ней так жестоко.
— А что тогда я буду делать? Ездить с вами в лес? — он представил себя в папиной повозке, запряженной Мисти и Битси. Это было бы неплохо. Совсем неплохо.
Келлс коротко хохотнул.
— Ты-то? В лес? Да тебе еще двенадцати нет.
— Мне будет двенадцать в следующем м…
— Да даже когда ты будешь вдвое старше, то все равно не сможешь рубить дерево на Железной тропе, потому как ты пошел в мать, и быть тебе Малышом Россом всю твою жизнь.
Он снова хохотнул, и Тим почувствовал, как при звуке этого смеха у него загорелось лицо.
— Нет, парень, я уговорился, чтобы тебя взяли на лесопилку. Складывать доски в штабель — на это у тебя силенок хватит. Начнешь работу сразу после жатвы, до того, как выпадет снег.
— А мама что говорит? — Тим постарался, чтобы в его голосе не прозвучало смятение, но это ему не удалось.
— А ее мнение никого не волнует. Я ее муж, стало быть, и решать мне, — он хлестнул вожжами по спинам еле бредущих мулов. — Н-н-но!
Три дня спустя Тим отправился на деревенскую лесопилку с одним из мальчишек Дестри. Парня звали Виллем, а за бесцветные волосы его прозвали Соломой Виллемом. Обоих наняли складывать доски, но еще некоторое время мальчишкам работы не найдется, да и потом, на первых парах, работать они будут самое большее полдня. Тим взял с собой папиных мулов, которым не помешало бы размяться, и домой они с Виллемом бок о бок ехали верхом.
— Ты ж вроде говорил, что твой новый отчим не пьет, — сказал Виллем, когда они проезжали Салун Гитти. Днем его наглухо закрывали, и над салунным пианино никто не издевался.
— Не пьет, — сказал Тим, но вспомнил свадебную вечеринку
— Точно? Тогда, кажись, вчера ночью чей-то другой отчим выполз на рогах из вон той уклеечной. Рэнди, брат мой старший, видел, как тот блевал у привязи для лошадей. Нализался, видать, как стрекозел — сказав это, Виллем щелкнул подтяжками, как делал всегда, когда считал, что отмочил отменную шутку.
«Надо было отправить тебя домой пешком, чертов дебил», — подумал Тим.
Той ночью мать разбудила его снова. Тим потянулся в кровати, скинул ноги на пол и замер. Голос Келлса был тихим, но и стена между комнатами была тонкой.
— Заткнись, женщина. Если ты разбудишь пацана и он придет сюда, я тебе еще больше наваляю.
Ее плач прекратился.