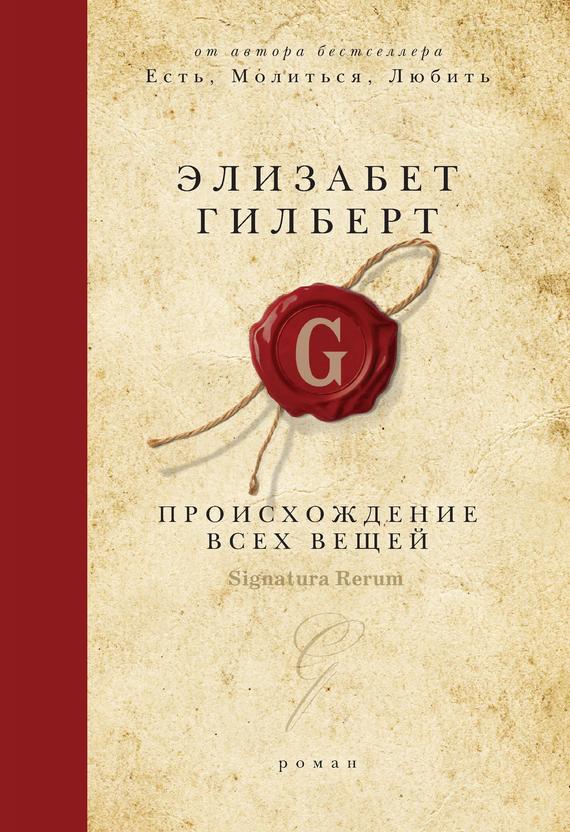Ветер сквозь замочную скважину Кинг Стивен

— Я просто сорвался, только и всего. Ошибка вышла. Я зашел с Меллоном выпить имбирного эля и послушать про его новый участок, а кто-то поставил передо мной стакан джакару. Я его и опрокинул — даже понять не успел, что пью, ну, и понеслось… Больше такого не будет. Даю слово.
Тим снова улегся, надеясь, что это правда.
Он смотрел на невидимый в темноте потолок, слушал уханье совы и ждал, когда придет сон или наступит рассвет. Ему казалось, что если в брачную петлю с женщиной становится не тот человек, то из петли она превращается в удавку. Он молился, чтобы это оказался не их случай. Он уже знал, что не сможет хорошо относиться к новому мужу матери, не говоря уж про то, чтобы полюбить его, но, возможно, его матери под силу было и то, и другое. Женщины — они другие. У них сердца больше.
Тим все еще перебирал эти тягучие мысли, когда рассвет окрасил небо, и его наконец сморило. В тот день синяки обнаружились на обеих маминых руках. Похоже, столбики кровати, которую она теперь делила с Большим Келлсом, совсем распоясались.
Полная Земля, как водится, уступила место Широкой Земле. Тим и Виллем-Солома пошли работать на лесопилку, но только на три дня в неделю. Десятник, порядочный сай по имени Руперт Венн, сказал им, что они смогут работать подольше, если зима выдастся не сильно снежная, и зимний улов будет хорошим, — он имел в виду стволы железного дерева, которые привозили Келлс и другие лесорубы.
Синяки у Нелл сошли, а улыбка вернулась на ее лицо. Тим решил, что улыбка эта стала более сдержанной, чем раньше, но лучше уж такая, чем никакой. Келлс запрягал своих мулов и ездил по Железной тропе, и хотя участки, которые они с Большим Россом застолбили, были хорошие, партнер для него все никак не находился. Поэтому и древесины он привозил меньше, но железное дерево есть железное дерево, и за него всегда можно было взять хорошую цену, к тому же кусками серебра, а не бумажками.
Иногда Тим думал — чаще всего в то время, как катил доски в один из длинных сараев лесопилки, — насколько лучше была бы жизнь, если бы его отчим напоролся на змею или вервела. А то, может, и на вурта — этих злющих летучих тварей называли еще «птица-пуля». Одна такая прикончила отца Берна Келлса — пробила в нем дыру насквозь своим твердокаменным клювом.
Тим с ужасом гнал от себя эти мысли, в изумлении обнаружив, что в его сердце есть уголок — темный, мрачный уголок, — для таких вещей. Отцу было бы за него стыдно — в этом Тим не сомневался. Может, ему и есть стыдно: ведь кое-кто говорит, что те, кто достиг пустоши в конце тропы, знают все тайны, которые живые скрывают друг от друга.
По крайней мере, от его отчима больше не несло граффом, и никто — ни Виллем-Солома, ни еще кто-нибудь — не рассказывал ему, как Большой Келлс вываливается из забегаловки, когда старик Гитти уже запирает двери.
«Он дал слово, и он его держит», — думал Тим. — «И столбик маминой кровати перестал безобразничать, потому что синяков у нее больше нету. Жизнь налаживается — вот о чем надо помнить».
Когда он возвращался с лесопилки в свои рабочие дни, ужин уже стоял на плите. Большой Келлс приходил позже, останавливался у источника между домом и сараем, чтобы смыть опилки с рук и шеи, потом поглощал свой ужин. Ел он помногу, просил добавки не по одному разу, и Нелл шустро ее приносила. Делала она это молча, а если и заговаривала с мужем, то в ответ слышала только мычание. Потом он уходил в гостиную, усаживался на свой сундук и курил.
Иногда Тим поднимал глаза от грифельной доски, где решал задачи по матьматике, которыми его по-прежнему снабжала вдова Смак, и видел, что Келлс пристально смотрит на него сквозь дым от своей трубки. От его взгляда Тиму становилось не по себе, и он начал выходить со своей доской во двор, хотя в Листве становилось холодно, и темнело с каждым днем все раньше.
Как-то раз его мать вышла из дома, присела рядом с ним на крыльцо и обняла его за плечи:
— На будущий год ты вернешься в школу к сай Смак, Тим. Это я тебе обещаю. Я уж его уговорю.
Тим улыбнулся и поблагодарил ее, но он знал, что ничего этого не будет. На будущий год он по-прежнему останется на лесопилке, только к тому времени подрастет и сможет не только складывать доски в штабеля, но и таскать их, и времени на задачки у него будет меньше, потому что работать он будет пять дней в неделю, а не три. Может, даже шесть. А еще через год он будет не только носить доски, но и строгать их, а потом — орудовать подвесной пилой, как взрослый. Пройдет еще несколько лет, и он в самом деле станет взрослым, и домой будет возвращаться таким усталым, что на книжки вдовы Смак не останется сил, даже если она все еще будет готова ему их давать, а премудрости матьматики выветрятся у него из головы. Этому взрослому Тиму Россу, может быть, будет хотеться только одного — проглотить кусок мяса с куском хлеба и завалиться спать. Он начнет курить трубку и, возможно, пристрастится к граффу или пиву. Он будет наблюдать, как улыбка матери становится все бледнее; он увидит, как из ее глаз пропадут искорки.
И за все это надо будет сказать спасибо Большому Келлсу.
Прошла жатва. Луна-Охотница бледнела, всходила снова, натягивала лук. С запада приносились первые ветры, предвещая своим воем скорое наступление Широкой Земли. И вот, когда жителям уже казалось, что этого не произойдет, с одним из этих холодных ветров в деревню внесся на своей черной лошади баронский сборщик податей. Худ он был, как Том-Костлявая Смерть, его черный плащ развевался на ветру крыльями летучей мыши. Под широкополой шляпой (такой же черной, как и плащ) светилось бледное лицо. Оно неустанно поворачивалось туда-сюда, подмечая все изменения: там сделали новый забор, а вон к тому стаду добавилась парочка коров. Жители поворчат немного, но заплатят, а если заплатить им будет нечем, их землю отберут именем Галаада. Наверное, даже в те стародавние времена люди роптали от такой несправедливости, что, мол, налоги слишком высоки, что Артур Эльд (если такой и был когда-то) давно скончался, и что Соглашение уже оплачено сторицей как кровью, так и серебром. Возможно, некоторые из них уже с нетерпением ждали Доброго Человека, который поможет им сказать: «Хватит с нас, довольно, мир сдвинулся с места».
Может и так, но в тот год ничего подобного не случилось, как и во многие последующие.
После полудня, когда пузатые тучи медленно переваливались по небу, а в саду Нелл шуршали и пощелкивали, будто зубы, стебли кукурузы, сай сборщик въехал на своей черной лошади в ворота, которые Большой Росс сделал своими руками (Тим стоял рядом и наблюдал, а если было нужно, то и помогал тоже). Медленно и торжественно лошадь подошла к ступенькам крыльца. Остановилась, кивая головой и пофыркивая. Большой Келлс хоть и стоял на крыльце, но ему все равно пришлось поднять голову, чтобы взглянуть в лицо незваному гостю. Шляпу Келлс с силой прижимал к груди. Его редеющие черные волосы (среди которых появились первые седые пряди — ведь Келлсу было уже под сорок, а значит, старость уже дышала в затылок) разметались на ветру. Позади него в дверях стояли Нелл с Тимом. Нелл крепко обняла мальчика за плечи, будто боясь (материнская интуиция, наверное), что сборщик может его похитить.
Некоторое время стояла тишина, за исключением хлопающего на ветру плаща гостя и завывающего под крышей ветра. Затем сборщик податей наклонился вперед и вперился в Келлса своими темными немигающими глазами. Тим отметил его губы, такие красные, что они казались накрашенными, как у женщины. Из недр плаща он достал не книгу, а огромный свиток пергамента. Развернув, сборщик поизучал его, а потом сложил и вернул обратно в тот внутренний карман, из которого достал. Взгляд его снова упал на Келлса — тот вздрогнул и уставился себе под ноги.
— Келлс, правильно? — от этого грубого и хриплого голоса Тим покрылся гусиной кожей. Сборщика он видел и раньше, но только издали: папа всегда ухитрялся отправлять мальчика подальше от дома, когда сборщик наносил свой ежегодный визит. И теперь Тим понимал, почему. Подумал, что страшные сны этой ночью ему обеспечены.
— Келлс, ага, — ответил тот нарочито бодрым, но дрожащим голосом, — добро пожаловать, сай. Долгих дней…
— Да-да, приятных ночей и все такое, — прервал его сборщик взмахом руки. Его темные глаза устремились куда-то за спину Келлсу. — И… Росс, так? Теперь, говорят, только двое вместо трех, потому как с Большим Россом случилось несчастье, — голос был размеренным, чуть ли не монотонным. «Как будто глухой пытается спеть колыбельную», — подумал Тим.
— Да, все так и есть, — ответил Келлс, и Тим услышал, как он громко сглотнул. — Мы с Россом были в лесу, понимаете, на одном из наших маленьких участков у Железной тропы — их у нас четыре или пять, все помечены нашими именами — и так там все и осталось, потому что в моей душе он все еще мой напарник и всегда таким останется, — залепетал Келлс, — так вот, как-то так случилось, что мы разделились, а потом я услышал шипение. Шипение это ни с чем не спутаешь, такое больше никто не издает, кроме драконьей самки, когда та готовится к….
— Цыц, — сказал сборщик, — когда я хочу послушать историю, я хочу, чтобы она начиналась с «Однажды…»
Келлс уж было залепетал что-то еще (может, хотел попросить прощения), но передумал. Сборщик оперся рукой о выступ седла и смотрел на него:
— Я так понимаю, сай Келлс, что свой дом ты продал Руперту Андерсону.
— Ага, и он меня облапошил, но я…
— Налога с тебя девять кусков серебра или один кусок родита, которого, как я знаю, в этих местах не водится, но я все равно обязан тебе сказать, ибо так написано в Соглашении. Один кусок за сделку и восемь — за дом, у которого ты теперь отсиживаешь зад на закате и в котором ночью разминаешь свою сарделину.
— Девять? — Большой Келлс задохнулся. — Девять? Это же…
— Что? — спросил сборщик своим грубым, монотонным голосом, — и поосторожней с ответом, Берн Келлс, сын Матиаса, внук Хромого Питера. Поосторожней, потому что хоть шея у тебя толстая, думаю, мы ее растянем, если понадобится. Ты уж поверь.
Келлс побледнел, хотя до сборщика ему все равно было далеко.
— Я лишь хотел сказать, что все честно и справедливо. Уже несу.
Он зашел в дом и вернулся с кошелем из оленьей кожи. Это был тот самый кошель, над которым, еще в Полную Землю, плакала мама. Кошель Большого Росса. В те дни жизнь казалась светлее, хоть Большого Росса уже и не было в живых. Келлс отдал кошель Нелл, подставил руки и приказал отсчитывать ему драгоценные куски серебра.
Все это время гость молча взирал на них со своей черной лошади, но когда Келлс собрался спуститься с крыльца, чтобы передать ему налог (то есть почти все, что у них было — даже скромный заработок Тима пошел в общий котел), сборщик покачал головой.
— Стой на месте. Я хочу, чтобы мальчик принес его мне, ибо он красив, а в лице его я вижу черты его отца. Вижу отчетливо, да.
Тим взял две пригоршни серебряников (таких тяжелых!) из рук Большого Келлса, который прошептал ему на ухо: «Поосторожней с ними, бестолочь, не урони».
Тим спустился с крыльца, будто во сне. Поднял сложенные лодочкой руки, но прежде, чем он успел понять, что произошло, сборщик схватил его за запястья и затащил на лошадь. Тим увидел, что лука седла украшена вязью серебряных рун: луны, звезды, кометы, чаши, из которых изливался холодный огонь. В то же время Тим понял, что каким-то чудесный образом сборщик успел забрать серебряники, но, хоть убей, не помнил, когда это случилось.
Нелл вскрикнула и ринулась вперед.
— Поймай ее и держи! — голос сборщика оглушительно прогремел над самым ухом у мальчика.
Келлс схватил жену за плечи и грубо оттащил. Она споткнулась и упала на доски крыльца, вокруг щиколоток разметались юбки.
— Мама! — закричал Тим. Он попытался спрыгнуть с седла, но сборщик с легкостью его удержал. Пахло от него жареным на костре мясом и застарелым холодным потом.
— Сиди спокойно, юный Тим Росс, она же совсем не пострадала. Вон, смотри, как ловко она поднимается, — потом обратился к Нелл, которая и вправду уже успела подняться на ноги: — Не волнуйся, сай, я всего лишь перекинусь с ним парой слов. Разве смогу я навредить будущему налогоплательщику?
— Если навредишь, я убью тебя, дьявольское отродье, — ответила она.
Келлс поднес ей к лицу кулак:
— Заткни пасть, женщина! — но Нелл не отпрянула. Видела она сейчас только Тима, сидящего на черной лошади перед сборщиком, который сплел руки на груди ее сына.
А сборщик лишь улыбался, глядя на них: один уже занес кулак для удара, у второй текли слезы по щекам.
— Нелл и Келлс! — провозгласил он. — Какая счастливая пара!
Коленями заставив лошадь развернуться, он медленно прошествовал к воротам. Тим чувствовал крепко обхватившие его руки, а щеку ему обдавало зловонное дыхание сборщика. Уже в воротах, тот коленями заставил лошадь остановиться:
— Ну что, юный Тим, как тебе нравится твой новый отчим? Говори правду, но говори тихо. Это наш разговор и только наш — тем двоим до него дела нет, — в ухе Тима все еще звенело, но шепот он услышал отчетливо.
Тим не хотел поворачиваться, не хотел, чтобы бледное лицо сборщика приблизилось еще больше, но у него был секрет, который пожирал его изнутри. Так что он провернулся и прошептал на ухо сборщику податей:
— Когда он напивается, то бьет мою маму.
— Правда? Что ж, меня это не удивляет. Разве отец его не бил его мать? А то, что мы видим детьми, остается с нами на всю жизнь.
Взметнулась рука в перчатке, и оба они оказались под полой тяжелого черного плаща словно под одеялом. Тим почувствовал как другая рука засовывает что-то твердое и маленькое в карман его штанов:
— Я кое-что тебе дарю, юный Тим. Это ключ. И знаешь ли ты, что делает его особенным?
Тим покачал головой.
— Это волшебный ключ. Он открывает все, что угодно, но только один раз. После этого, он бесполезен, как мусор, так что будь осторожен, используя его! — он засмеялся так, как будто это была самая смешная шутка, которую он когда-либо слышал. От его дыхания Тима замутило.
— Мне… — он сглотнул, — мне нечего отпирать. В Листве нет замков, кроме как в кабаке да в тюрьме.
— О, я думаю, тебе известен еще один, разве нет?
Тим поглядел в пугающе веселые глаза сборщика и ничего не сказал. Тем не менее, тот кивнул, словно бы получив ответ.
— Что ты там говоришь моему сыну?! — закричала с крыльца Нелл. — Не заливай его уши ядом, дьявол!
— Не обращай на нее внимания, юный Тим, скоро она сама все узнает. Знать будет, да не увидит, — сборщик ухмыльнулся. Зубы у него было очень большими и очень белыми. — Ну так что, отгадал загадку? Нет? Ничего, отгадаешь со временем.
— Иногда он открывает его, — пробормотал Тим будто бы во сне, — достает точильный камень, чтоб топор поточить. Потом снова запирает. По вечерам он сидит на нем, как на стуле, и курит.
Сборщик податей даже не спросил, о чем это он:
— И он его поглаживает каждый раз, когда проходит мимо, правильно? Как хозяин поглаживает свою старую, но любимую собаку. Ведь так, юный Тим?
Все это было правдой, но Тим ничего не сказал. Да и не нужно было ничего говорить: Тим чувствовал, что нет такого секрета, который можно было бы скрыть от разума, таящегося за этим бледным лицом.
«Он играет со мной, — думал Тим, — я же для него всего лишь забава в этот унылый день, в этой унылой деревеньке, которую он скоро оставит позади. Только вот свои игрушки он любит ломать. Стоит только взглянуть на его улыбку, чтобы понять это».
— Я проеду пару колес по Железной тропе и разобью лагерь, — сказал сборщик своим хриплым, без интонаций, голосом, — целый день в седле, да и утомился я от всей той болтовни, которой мне пришлось сегодня наслушаться. В лесу полно вуртов, вервелов и змей, но зато они не болтают.
«Ты никогда не устаешь, — подумал Тим, — нет, только не ты».
— Приходи ко мне в гости, если хочешь, — на этот раз сборщик не ухмыльнулся, а хихикнул, как девчонка-проказница, — и если духу хватит, конечно. Но приходи ночью, потому что твой, хе-хе, покорный слуга любит поспать днем, когда ему выдается свободная минутка. Или оставайся здесь, если кишка тонка. Мне-то что? Пшла!
Последнее относилось к лошади, которая медленно вернулась к крыльцу. Нелл все еще стояла, заламывая руки, а Большой Келлс гневно смотрел на нее. Руки сборщика снова сомкнулись, как наручники, на тонких запястьях Тима и подняли его. Мгновение спустя он уже стоял на земле и смотрел на бледное, с красными улыбающимися губами, лицо. Ключ жег его карман. Где-то в вышине над домом послышался раскат грома. Пошел дождь.
— Баронство благодарит вас, — сказал сборщик податей, приложив палец к своей широкополой шляпе. Потом развернул лошадь и ускакал в дождь. Когда плащ сборщика на мгновение приподнялся на ветру, Тим успел увидеть нечто очень странное: к ганна его была привязана какая-то большая металлическая штуковина, похожая на таз для умывания.
Большой Келлс сбежал с крыльца, ухватил Тима за плечи и снова принялся его трясти. Его редеющие волосы промокли под дождем и облепили щеки, с бороды текла вода. В тот день, когда они с Нелл ступили в круг из шелковой веревки, борода эта была черной, а теперь в ней появилась заметная проседь.
— Что он тебе говорил? Про меня, небось? Чего он тебе набрехал? Отвечай!
Тим не мог отвечать. Голова его так болталась взад-вперед, что зубы громко клацали.
Нелл поспешно сбежала по ступеням:
— Перестань! Пусти его! Ты же обещал, что никогда…
— Не лезь в то, что тебя не касается, женщина! — сказал он и ткнул ее кулаком. Мама Тима упала в грязь, где проливной дождь заполнял следы, оставленные копытами лошади сборщика податей.
— Скотина! — завопил Тим. — Не смей бить мою маму! Никогда!!!
Когда Келлс тем же манером ткнул кулаком и его, он не сразу почувствовал боль, но перед глазами у него все озарилось белым светом. Когда вспышка померкла, он обнаружил, что лежит в грязи рядом с матерью. Он был оглушен, в ушах звенело, а ключ по-прежнему жег его, как горячий уголек.
— Нис вас обоих побери, — бросил Келлс и зашагал прочь под дождем. Выйдя за ворота, он повернул направо, в сторону маленькой главной улочки Листвы. К Гитти отправился — в этом у Тима сомнений не было. Келлс не прикасался к выпивке всю Широкую Землю — по крайней мере, насколько Тиму было известно, — но в эту ночь он не удержится. Тим видел по печальному лицу матери — мокрые волосы липли к краснеющей на глазах, забрызганной грязью щеке, — что и она это знала.
Тим обнял мать за талию, а она его — за плечи. Они медленно поднялись по ступеням в дом.
Она не столько уселась на свой стул у кухонного стола, сколько рухнула на него. Тим налил воды из кувшина в таз, смочил полотенце и осторожно приложил к ее щеке, начинавшей раздуваться. Немного подержав полотенце у щеки, мать молча протянула его Тиму. Чтобы ее не огорчать, он взял его и тоже приложил к лицу. Оно приятно холодило пульсирующую жаром щеку.
— Хорошенькие дела, а? — спросила она, силясь улыбнуться. — Жену побил, пасынка отколотил и отправился в кабак.
Тим не придумал, что на это ответить, и промолчал.
Нелл подперла голову ладонью и уставилась на стол.
— Я много чего не так в жизни делала, — проговорила она. — А тогда, я испугалась до полусмерти, но нет мне оправдания. Знаешь, Тим, лучше нам, пожалуй, было оставаться одним, без него, как бы туго не пришлось.
И уехать отсюда? От их участка? Разве мало того, что отцовский топор и счастливая монетка пропали? Но в одном она была права: они попали в переплет.
«Но у меня есть ключ», — подумал Тим, и его рука скользнула в карман, чтобы снова его ощупать.
— Куда он ушел? — спросила Нелл. Тим знал, что она говорит не о Берне Келлсе.
«На колесо-другое по Железной тропе. Там он будет меня ждать» — подумал Тим, но вслух сказал:
— Не знаю, мама, — насколько он помнил, он солгал ей впервые в жизни.
— Зато уж куда Берн пошел — это мы знаем, верно? — она засмеялась и поморщилась от боли. — Он обещал Милли Рэдхаус покончить с выпивкой, и мне обещал, но человек он слабый… Или… Может, во мне дело? Как ты думаешь, может, это я его довела?
— Нет, мама, — но Тим не был уверен, что это не так. Не в том смысле, который она вкладывала в эти слова, — пилежкой, беспорядком в доме, отказом в том, чем мужчины и женщины занимаются в постели в темноте, — но как-то по-другому. Здесь таилась загадка, и, может быть, ключ в его кармане мог помочь ее раскрыть. Чтобы удержаться и не потрогать его еще раз, он встал и пошел в кладовую. — Чего бы ты сейчас съела? Яичницу? Я могу поджарить.
Она слабо улыбнулась:
— Спасибо, сынок, я не голодная. Пойду прилягу, — она поднялась, не вполне твердо держась на ногах.
Тим помог ей дойти до спальни. Там он притворялся, что разглядывает за окном что-то страшно интересное, пока она переодевалась из перепачканного грязью платья в ночную рубашку. Когда Тим обернулся, она уже лежала в постели. Мать похлопала рукой по кровати рядом с собой, как делала, когда он был малышом. В те дни в кровати рядом с ней, бывало, лежал отец в длинных кальсонах лесоруба и покуривал самокрутку.
— Я не могу его выгнать, — сказала она. — Могла бы — выгнала бы, но ведь мы повязаны брачной петлей, и дом этот скорее его, чем мой. Закон бывает жесток к женщине. Раньше мне не приходилось про это думать, а вот теперь… Взгляд ее потух, стал далеким. Скоро она заснет, и это, наверно, к лучшему.
н поцеловал ее в щеку, на которой не было синяка, и хотел было подняться, но она остановила его:
— Что тебе сказал сборщик податей?
— Спросил, как мне мой новый отчим. Не помню, что я ему ответил. Я напугался.
— И я напугалась, когда он накрыл тебя своим плащом. Думала, он ускачет вместе с тобой, как Красный Король в старой сказке, — она прикрыла глаза, потом снова открыла — медленно-медленно. Что-то такое было в этих глазах — быть может, ужас? — Я помню, как он приезжал к моему папе, когда я сама была малышкой, только-только из пеленок. Черный конь, черные перчатки и плащ, седло с серебряными сигулами. Его белое лицо мне потом снилось в страшных снах — такое длинное… И знаешь что, Тим?
Он медленно покачал головой.
— К седлу у него привязана все та же серебряная чаша, потому что я и в тот раз ее видела. Двадцать лет минуло с тех пор — да, двадцать лет с хвостом и кисточкой — а он все такой же Не постарел ни на единый день!
Она снова закрыла глаза и больше уже не открывала, и Тим крадучись вышел из комнаты.
Убедившись, что мать заснула, Тим прошел через прихожую туда, где стоял, накрытый одеялом, сундук Большого Келлса — у самой двери в сени. Когда он сказал сборщику податей, что знает в Листве всего два замка, тот ответил: «Думается мне, ты знаешь еще один».
Он убрал одеяло, и его взгляду открылся сундук отчима. Сундук, который тот иногда поглаживал, как любимую собаку; на котором часто сидел вечерами, попыхивая трубкой и пуская дым в приоткрытую заднюю дверь.
Тим поспешил обратно в переднюю — в носках, чтобы не разбудить маму, — и выглянул в окно. Двор был пуст, и на мокрой от дождя дороге не видно было никаких признаков Большого Келлса. Тим ничего другого и не ждал. Келлс наверняка был у Гитти — старался влить в себя как можно больше выпивки, прежде чем свалится без памяти.
«Надеюсь, что ему всыпят как надо, дадут вдоволь его же снадобья. Я бы сам это сделал, будь я постарше».
Он вернулся к сундуку, по-прежнему в носках, встал перед ним на колени и вынул ключ из кармана. Это был маленький кусочек серебра размером в пол-монетки, до странности теплый, словно бы живой. Скважина в медной опояске сундука была намного больше его. «Ключ, который он мне дал, ни за что его не откроет», — подумал Тим. Потом он вспомнил слова сборщика податей: «Этот ключ — волшебный. Он откроет что угодно, но только один раз».
Тим вставил ключ в замок, и тот легко скользнул в скважину, словно бы для нее его и сделали. Когда Тим надавил, ключ так же легко повернулся, но в то же мгновение теплота ушла из него. Теперь в руке мальчика был просто холодный, мертвый металл.
— После этого толку от него будет не больше, чем от мусора, — прошептал Тим и обернулся, наполовину уверенный, что увидит за спиной Большого Келлса с мрачной миной и сжатыми кулаками. Сзади никого не было, так что он расстегнул ремни и откинул крышку. От скрипа петель он дернулся и снова оглянулся. Сердце у него стучало как бешеное, и хотя в этот дождливый вечер было отнюдь не жарко, Тим чувствовал выступившую на лбу испарину.
Сверху оказались рубахи и штаны, набросанные как попало, многие — изношенные до предела. Тим подумал (с горькой неприязнью, какой ему прежде не случалось испытывать): «Ну конечно — мама постирает их, и заштопает, и аккуратненько сложит, когда он ей прикажет. Интересно, чем он ее отблагодарит — ударит по плечу, по шее, по лицу?»
Он вытащил одежду и обнаружил под ней то, что придавало сундуку тяжесть. Отец Келлса был плотник, и здесь хранился его инструмент. Тиму не надо было спрашивать взрослых, чтобы догадаться, что стоит все это немало, потому что инструменты были из кованого металла. «Он бы мог их продать, чтобы заплатить налог. Он ведь их в руки не берет; небось, и не знает, с какой стороны за них взяться. Так продал бы тому, кто знает, — хоть бы и Хаггерти Гвоздю, — уплатил бы налог, и еще осталось бы».
Для такого поведения было свое название, и Тим его знал, благодаря вдове Смак. Скупость — вот как это называется.
Он попытался вытащить ящик с инструментами, но не смог. Тот был слишком тяжел для него. Тим выложил молотки, отвертки и шлифовальный брусок на одежду и вытащил опустевший ящик. Под ним оказалось пять головок от топора, при виде которых Большой Росс крякнул бы в изумлении и отвращении. Драгоценная сталь была изъедена ржой, и Тиму не надо было пробовать лезвия пальцем, чтобы убедиться, что они затупились. Муж Нелл изредка точил топор, которым сейчас пользовался, но к запасным он явно давно не прикасался. К тому времени, как они ему понадобятся, скорее всего, они уже никуда не будут годиться.
В углу сундука обнаружился мешочек из оленьей шкуры и что-то завернутое в тонкую замшу. Тим развернул сверток и обнаружил портрет женщины с милой улыбкой. Густые темные волосы спадали ей на плечи. Тим не помнил Миллисент Келлс — ему было всего-то года три-четыре, когда она ушла на пустошь, куда все мы со временем прибудем, — но он знал, что это она.
Он снова завернул портрет, положил на место и взялся за мешочек. В нем прощупывался только один предмет — маленький, но довольно тяжелый. Тим распустил завязки и перевернул мешочек. Новый удар грома заставил его дернуться от неожиданности, и предмет, скрывавшийся на самом дне сундука Келлса, выпал на ладонь Тима.
Это была счастливая монета его отца.
Тим сложил все обратно в сундук, кроме вещи, принадлежавшей его отцу: вернул на место инструменты, сверху навалил Келлсову одежду, закрыл сундук и затянул ремни. Все прошло хорошо, но когда Тим вставил ключ в замок сундука, тот лишь свободно провернулся, не задев механизма.
Бесполезен, как мусор.
Оставив попытки запереть сундук, Тим вновь накинул на него старое одеяло и долго с ним возился, пока, наконец, ему не показалось, что оно лежит точь в точь, как раньше. Тим часто видел, как отчим поглаживает сундук и сидит на нем, но открывал его он редко и то лишь для того, чтобы достать точильный камень. Так что хотя его маленькое преступление могло еще долго оставаться незамеченным, Тим понимал, что это не навсегда. Когда-нибудь настанет день — может быть аж в следующем месяце, но скорее всего, на следующей неделе (или даже завтра!), когда Большой Келлс решит достать свой точильный камень или вспомнит, что у него есть еще одежда кроме той, которую он когда-то принес с собой в сумке. А увидев, что сундук не заперт, он тотчас же кинется за мешочком из оленьей кожи и поймет, что монеты в нем уже нет. И что тогда? Тогда жене и пасынку крепко влетит. Очень крепко.
Тим боялся этого, но чем больше он смотрел на знакомую красновато-золотую монету с продетой сквозь нее серебряной цепочкой, тем больше злился. Злился по-настоящему, впервые за свою жизнь. Это была не бессильная мальчишечья злоба, но ярость мужчины.
Тим уже спрашивал у старика Дестри про драконов и про то, что они могут сделать человеку. Было ли папе больно? Остались ли от него какие-нибудь… части? Фермер понимал, что у мальчика горе. Он мягко положил руку ему на плечи и сказал: «Нет и нет. Драконий огонь — самый горячий в мире, даже горячее, чем жидкий камень, который вытекает из щелей в земле далеко к югу отсюда. Так говорится во всех историях. Человек, который попадает под залп драконьего огня, в одну секунду превращается в пепел. Одежда, обувь, пряжка на ремне — все. Так что если ты боишься, что твой папа страдал — выкинь это из головы. Для него все кончилось в один миг».
«Одежда, обувь, пряжка на ремне — все». Вот только монета папина даже не испачкалась, и все звенья на серебряной цепочке были целехоньки. А ведь он не снимал ее даже когда шел спать. Так что же приключилось с Большим Джеком Россом? И как монета оказалась у Келлса в сундуке? Тиму в голову пришла ужасная мысль и он, кажется, знал кто может сказать, правильная она или нет. Но для этого требовалось собраться с духом.
«Приходи ночью, потому что твой, хе-хе, покорный слуга любит поспать днем, когда ему выдается свободная минутка».
А ночь уже наступала.
Мама все еще спала. Тим оставил подле нее свою грифельную доску, на которой написал: «ЗА МЕНЯ НЕ ВОЛНУЙСЯ. СКОРО ВЕРНУСЬ».
Конечно, ни один мальчик на свете не в состоянии понять, насколько бесполезно обращать к матери такую просьбу.
Тим не хотел связываться с мулами Келлса — уж очень они были норовистые. А та пара, которую его отец растил с самого рождения, была совсем другая. Мисти и Битси были «молли» — невыхолощенные мулицы, которые могли бы иметь потомство, но Росс держал их не ради этого, а за покладистый нрав. «И думать об этом забудь, — сказал он Тиму, когда тот достаточно подрос, чтобы задаться этим вопросом. — Таким животинам, как Мисти с Битси, размножаться ни к чему. У них почти никогда не бывает нормального потомства».
Тим выбрал Битси, которая всегда была его любимицей. Провел ее до конца дорожки за уздечку, а там уселся верхом. Его ноги, которые едва доставали до середины Битсиных боков, когда отец впервые усадил его к ней на спину, теперь болтались почти у самой земли.
Поначалу Битси топала, грустно опустив уши, но когда гром прекратился, а дождь поутих, она приободрилась. Она хоть и не привыкла быть на открытом воздухе ночью, но слишком уж много времени они с Битси проводили в загоне с тех пор, как Большого Росса не стало. Поэтому, Битси, казалось, нравилось…
«А может, он не погиб».
Мысль эта пулей ворвалась в голову мальчику и на некоторое время ослепила его надеждой. Может быть, Большой Росс все еще жив и бродит где-то по Бескрайнему лесу…
«Ага, а луна из зеленого сыра сделана, как любила говорить мама, когда я был маленьким».
Погиб. Сердце мальчика знало это, как знало бы, если бы Большой Росс был все еще жив. «Мамино сердце тоже бы знало, и она никогда не вышла бы замуж за этого… этого…»
— Этого ублюдка.
Битси дернула ушами. Сейчас они проезжали мимо дома вдовы Смак, который стоял в конце главной улицы, и здесь запахи леса уже чувствовались сильнее: терпкий, но мягкий аромат цветуниц, а поверх него — тяжелый запах железный деревьев. Конечно, идти по тропе ночью, не имея даже топора для защиты — сущее безумие. Тим это понимал, но все равно двигался вперед.
— Этого драчливого ублюдка.
Голос получился таким низким, что походил на рык.
Битси знала путь и не сбавила ход, когда деревенская дорога сузилась у края цветуничных рощ. Не колебалась ни секунды и тогда, когда она сузилась еще больше на пороге железных зарослей. Когда Тим понял, что они и в самом деле в Бескрайнем лесу, он притормозил мула. Порылся в рюкзаке и достал газовую лампу, которую стащил из сарая. В жестяном основании лампы топлива хватало, и Тим подумал, что его хватит на час, а то и на два, если тратить бережно.
Он зажег спичку о ноготь (этот трюк показал ему папа), повернул вентиль в том месте, где от основания лампы отходила длинная, узкая шейка и поднес спичку к отверстию. Лампа загорелась бело-голубым светом. Тим поднял ее и ошеломленно раскрыл рот.
Несколько раз отец брал его с собой в эту часть Леса, но только днем, и поэтому то, что он увидел, показалось таким страшным, что заставило Тима подумать о возвращении. Так близко к деревне самые лучшие стволы уже были спилены, но те, что остались, зловеще нависали над мальчиком и его маленьким мулом. Высокие, стройные и мрачные, как старейшины Манни на похоронах (Тим видел картинку в одной из книг вдовы Смак), деревья терялись где-то в вышине, там, куда не доставал жалкий свет лампы мальчика. Первые футов сорок стволы деревьев были абсолютно гладкими, а растущие дальше ветви тянулись ввысь и переплетаясь, набрасывали на узкую тропу паутину теней. Снизу стволы казались широкими черными колоннами. При желании, между ними можно было найти проход, но было это сродни желанию камнем перерезать себе горло: тот глупец, который попытается выйти за пределы Железной тропы, очень быстро затеряется в этом лабиринте и умрет от голода, так и не найдя выхода (если, конечно, его самого до этого никто не съест). Как бы в подтверждение, где-то во тьме какая-то тварь издала звук, похожий на хриплое хихиканье.
Тим спросил себя, что он здесь делает, когда в домике, где он вырос, его ждет теплая постель с чистыми простынями. Потом он коснулся отцовской счастливой монетки (теперь она висела на его шее), и его решимость окрепла. Битси оглянулась, словно спрашивая: «Ну? Куда теперь? Вперед или назад? Вообще-то хозяин у нас ты».
Тим сомневался, что у него хватит храбрости загасить лампу, пока она сама не прогорит и не оставит его в темноте. Хотя он уже не видел железных деревьев, но чувствовал, как они обступают его со всех сторон.
И все-таки — вперед.
Он сжал коленями бока Битси, прищелкнул языком, и мулица пошла. По ее ровному аллюру он догадался, что она держится правой колеи, а по ее спокойствию — что она не чует опасности. По крайней мере, пока. Но, собственно, что могут мулы знать об опасности? Предполагается, что он ее от всего защитит. Он ведь, в конце концов, хозяин.
«Ох, Битси, — подумал он. — Знала бы ты…»
Далеко ли он заехал? Много ли еще оставалось? Сколько он, в конце концов, проедет, прежде чем откажется от безумной затеи? Его матери больше некого любить в этом мире, не на кого надеяться, кроме него, — так сколько же он еще проедет?
Казалось, что с тех пор, как он оставил позади аромат цветуниц, они с Битси проскакали уже колес десять, а то и больше, но он знал, что это не так. Так же, как знал, что шорох в высоких ветвях — это ветер Широкой Земли, а не какой-нибудь зверь, крадущийся позади и причмокивающий в предвкушении вечерней трапезы. Он прекрасно это знал, но почему же шум ветра казался так похожим на дыхание?
«Сосчитаю до ста и разверну Битси», — пообещал он себе, но когда счет дошел до ста, а в непроглядной темноте по-прежнему не было никого, кроме него самого и его храброй маленькой «молли» («и того зверя, который крадется за нами и подходит все ближе», — с готовностью добавил предательский голос в мозгу), он решил досчитать до двухсот. На ста восьмидесяти семи Тим услышал хруст ветки. Он зажег лампу и развернулся кругом, высоко подняв ее в руке. Мрачные тени сперва будто бы отступили, а потом прыгнули вперед, чтобы вцепиться в него. И не попятился ли кто-то от света? Не видел ли он блеск красных глаз?
Нет, конечно, но…
Тим со свистом выпустил воздух сквозь зубы, прикрутил фитиль у лампы и щелкнул языком. Ему пришлось проделать это дважды. Битси, до того вполне безмятежная, теперь явно не рвалась вперед. Но, будучи добрым и смирным животным, она все же послушалась команды и затрусила дальше. Тим снова принялся считать и вскоре добрался до двухсот.
«Я сосчитаю задом наперед до нуля, и если не увижу его, то правда поверну назад».
Он досчитал до девятнадцати, когда увидел красно-оранжевый отблеск впереди по левой стороне. Это был свет костра, и у Тима не было сомнений в том, кто его разжег.
«Зверь, который на меня охотится, вовсе не крался сзади, — подумал он. — Он ждет впереди. Может, этот свет и от костра, но он же — и глаз, который я видел. Красный глаз. Надо возвращаться, пока еще можно».
Потом он коснулся счастливой монетки, висящей у него на груди, и прибавил ходу.
Он снова зажег лампу и поднял ее. От главной тропы отходило много коротких тропок, которые называли обрубками. Впереди, прибитая в скромной березке, висела дощечка, указывающая на одну из таких тропок. «КОСИНГТОН-МАРЧЛИ» — вывели на ней черной краской. Тим знал эти имена: Питер Косингтон (на долю которого в тот год выпала своя доля несчастий) и Эрнест Марчли были лесорубами, которые частенько приходили с семьями к Россам на ужин, а Россы в свою очередь много раз гостили у них.
«Хорошие они парни, но далеко в Лес зайти не решатся, — говорил Большой Росс сыну после одного из таких визитов, — да, сразу за цветуницами осталось еще немало железных деревьев, но настоящее сокровище — самая плотная, безупречная древесина — скрывается глубоко, ближе к концу тропы, на краю Фагонарда».
«Получается, я прошел всего одно-два колеса, но ведь в темноте все так меняется…»
Тим завернул Битси на обрубок Косингтон-Марчли и минутой позже выехал на поляну, где у бодро потрескивающего костра на бревне сидел сборщик податей:
— О, да это же юный Тим, — сказал он. — А у тебя есть яйца, пусть даже волосы на них вырастут только через год, а то и через три. Присядь-ка, поешь похлебки.
Тим сомневался, что ему хочется попробовать то, что этот странный тип приготовил себе на ужин, но своей еды у него не было, а запах, который исходил от висящего над огнем котелка, был довольно соблазнительным.
— Да не бойся ты, не отравлю, — прочитал сборщик мысли мальчика с пугающей точностью.
— Я и не боюсь, — ответил Тим… но теперь, после упоминания яда, он уже ни в чем не был уверен. Тем не менее, Тим разрешил сборщику положить в жестяную тарелку хорошую порцию и взял предложенную ему ложку, хоть и побитую, но чистую.
В еде не оказалось ничего волшебного: говядина, картошка, морковка и лук плавали во вкусной подливке. Тим сел на корточки и начал есть, наблюдая за Битси, которая опасливо подошла к черной лошади хозяина. Та лишь слегка притронулась к носу скромной мулицы и отвернулась (довольно презрительно, подумал Тим), переключив свое внимание на овес, который рассыпал для нее сборщик, предварительно отчистив землю от опилок. Опилки, понятное дело, оставили после себя саи Косингтон и Марчли.
Пока Тим ел, сборщик податей не пытался с ним заговорить — только раз за разом бил землю каблуком, проделав уже небольшую ямку. Возле нее стояла та самая чаша, которую раньше Тим видел привязанной к ганна чужака. Трудно было поверить, что мама оказалась права и чаша действительно сделана из серебра — ведь она бы стоила целое состояние — но выглядела она и вправду серебряной. Сколько же кусков серебра пришлось бы расплавить, чтобы сделать такую?
Каблук сборщика наткнулся на корень. Достав из-под плаща нож размером с предплечье мальчика, тот одним махом перерубил его. Каблук застучал снова: тук-тук-тук.
— Зачем вы копаете? — спросил Тим.
Сборщик на мгновение приподнял голову и наградил мальчика тонкой улыбкой:
— Может, и узнаешь. А может, и нет. Думаю, узнаешь. Закончил с едой?
— Ага, и говорю вам спасибо, — Тим три раза похлопал себя по горлу. — Было вкусно.
— Хорошо. Стряпня — не поцелуи, остается надолго. Так говорят Манни. Я смотрю, тебе нравится моя чаша. Красивая, правда? И очень древняя. Еще из Гарлана. В Гарлане действительно жили драконы, а целые их огневья, я уверен, до сих пор живут в глубине Бескрайнего леса. Ну вот, юный Тим, ты и узнал кое-что новое: у львов — прайды, у ворон — смертья, у ушастиков — трокты, у драконов — огневья.
— Огневье драконов, — проговорил Тим, словно пробуя слова на вкус. И тут до него дошел весь смысл сказанного сборщиком. — Если драконы живут только в глубине Бескрайнего леса…
Но не успел он закончить свою мысль, как сборщик податей прервал его:
— Так-так-так-так-так. Оставь свои мысли на потом. А пока что возьми чашу и принеси мне воды. Воду найдешь на краю поляны. И возьми лампу, потому что свет костра туда не достанет, а на одном из деревьев расположился страхозуб. Он хоть и распух — нашел недавно, чем поживиться — но поверь, тебе не хочется набирать воду прямо под ним, — он снова улыбнулся. Жестоко улыбнулся, подумал Тим, но чему тут удивляться? — Хотя, конечно, мальчик, у которого хватило смелости зайти в Бескрайний лес с одним только папиным мулом, может поступать, как хочет.
Чаша и вправду оказалась серебряной — слишком уж она была тяжелой. Тим неуклюже засунул ее под мышку, взяв в свободную руку лампу. Приближаясь к дальнему краю поляны, Тим почувствовал какой-то мерзкий запах и услышал чавкающий звук, будто множество маленьких ртов чавкали одновременно. Остановился.
— Не надо бы вам пить эту воду, сай. Она тухлая.
— Не рассказывай мне, что надо, а что не надо, юный Тим. Наполни чашу, и все. И про страхозуба не забывай, очень тебя прошу.
Мальчик опустился на колени, поставил чашу перед собой и посмотрел на лениво текущий ручеек. Вода кишела жирными белыми жуками. Глаза на стебельках торчали из слишком больших для их размера голов. Они смахивали на водяные личинки и, похоже, воевали друг с другом. Понаблюдав за ними немного, Тим увидел, что жуки поедают друг друга. Похлебке явно разонравилось у него в животе.
Сверху раздалось шуршание, будто кто-то провел рукой по длинному куску наждачной бумаги. Он поднял лампу повыше. С нижней ветки железного дерева слева от него свисала кольцами огромная красноватая змея. Ее заостренная голова, размером побольше, чем самая большая мамина кастрюля, была повернута к Тиму. Янтарные глаза с вертикальными черными зрачками сонно созерцали его. Из пасти появилась раздвоенная ленточка языка, потрепетала в воздухе и втянулась обратно с влажным хлюпаньем.
Тим постарался как можно быстрей набрать в чашу вонючей воды, но поскольку он смотрел в основном на нависшую над ним тварь, то подцепил несколько жуков, которые немедленно принялись кусать его за руки. Он стряхнул их, приглушенно вскрикнув от боли и отвращения, и понес чашу назад к костру. Он шел медленно и осторожно, чтобы не пролить на себя ни капли гнилой воды, кишевшей жизнью.
— Если вы хотите ее пить или мыться ей…
Сборщик податей смотрел на него, склонив голову набок, и ждал продолжения, но Тим не смог ничего сказать. Он поставил чашу рядом со сборщиком, который, похоже, закончил копать свою бесполезную яму.
— Не пить и не мыться, хотя если захотим — можем сделать и то, и другое.
— Вы шутите, сай! Она же грязная!
— Весь мир грязный, юный Тим, но мы же как-то с этим справляемся, а? Дышим его воздухом, едим его пищу, делаем его дела. Да. Делаем. Ладно, неважно. Сядь на корточки.
Сборщик указал ему место, а сам принялся рыться в своих ганна. Тим смотрел, как жуки пожирают друг друга, не в силах оторваться от отвратительного зрелища. Интересно, они так и будут продолжать, пока не останется один, самый сильный?
— А, вот ты где! — его гостеприимный хозяин извлек стальной прут с белым набалдашником, похожим на слоновую кость, и присел на корточки лицом к нему по другую сторону кипящей жизнью чаши.
Тим уставился на стальной прут в руке, одетой в перчатку.
— Это волшебная палочка?
Сборщик податей словно бы призадумался:
— Пожалуй, да. Хотя она начала свою жизнь в качестве рычага переключения передач в «Додже-Дарт». Это машина эконом-класса в Америке, юный Тим.
— Что такое Америка?
— Королевство идиотов, любящих игрушки. К нашей беседе оно отношения не имеет. Но знай и расскажи своим детям, если судьба тебя ими накажет: в правильных руках любой предмет может стать волшебным. А теперь смотри!
Сборщик налогов отбросил плащ назад, чтобы освободить руки, и провел волшебной палочкой над чашей с грязной, мутной водой. На глазах у изумленного Тима жуки замерли… всплыли на поверхность… исчезли. Сборщик провел палочкой еще раз, и муть тоже исчезла. Теперь вода казалась пригодной для питья. Тим увидел в ней свое собственное изумленное лицо.
— О Боги! Как?..
— Тихо, глупый мальчишка! Если ты хоть чуть-чуть потревожишь воду, то ничего не увидишь!
Сборщик податей провел над водой своей самодельной волшебной палочкой в третий раз, и отражение Тима исчезло так же, как исчезли до этого жуки и муть. Вместо него Тим увидел дрожащий образ своего домика. Увидел маму и Берна Келлса. Вот Келлс на неверных ногах входит в кухню из прихожей, где стоит его сундук.
Нелл стоит между плитой и столом. На ней все та же ночная рубашка, в которой Тим видел ее в последний раз. Глаза Келлса опухшие и воспаленные. Волосы прилипли ко лбу. Тим знал, что если бы он сам находился в кухне в эту минуту, то без сомнения бы почувствовал запах джакару, туманом окружающий Келлса. Он открыл рот, и по губам его Тим прочитал: «Как ты открыла мой сундук?»