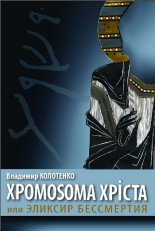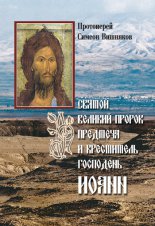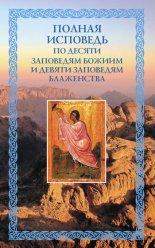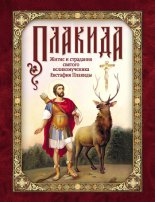Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы Шумарина Марина

Введение
Фиксация внимания на фактах языка и речи, их оценка и осмысление – важная функция сознания, как индивидуального, так и коллективного: каждому носителю языка в той или иной мере свойственна метаязыковая рефлексия.
В соответствии с лингвистической традицией термином «метаязыковая рефлексия» в данной работе обозначаются два взаимосвязанных явления. Во-первых, имеются в виду операции метаязыкового сознания — интерпретации какого-либо факта языка или речи. Содержанием такой операции является формирование метаязыкового суждения, присвоение лингвистическому объекту признака или оценки. Во-вторых, этим термином обозначается словесное оформление подобных суждений в виде метаязыковых контекстов.
Метаязыковые контексты (или, по-другому, рефлексивы), которые являются объектом наблюдения в работе, – это высказывания или группы высказываний, в контексте которых факт языка или речи получает метаязыковую оценку. Понятия «метаязыковое суждение» (с одной стороны) и «метаязыковой контекст», «рефлексив» (с другой стороны) соотносятся как означаемое и означающее, план содержания и план выражения. Метаязыковое суждение является значением (содержанием) метаязыкового комментария и может носить как вербализованный, так и имплицитный характер; ср.:
(1) Особые деньги стояли на комоде в коробке из-под чая, так и назывались «чаевые» (И. Грекова. Маленький Гарусов); (2) Фаддеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где «крутит», и когда корабль в эдакую «кручу» попадает, так сейчас вверх килем повернется (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
В художественных текстах содержатся многочисленные суждения о фактах языка / речи, которые могут быть выделены как особый объект исследования. Такие суждения рассматриваются в книге в двух аспектах. Во-первых, они интерпретируются как показатели метаязыковых представлений рядовых носителей языка (нелингвистов). Реализация данного аспекта продолжает традицию изучения того специфического объекта, который в различных языковедческих трудах получил названия «наивная лингвистика», «народная лингвистика», «стихийная лингвистика», «обыденная лингвистика», «бытовая философия языка». Во-вторых, рефлексивы анализируются при помощи традиционного инструментария стилистики и лингвопоэтики – как элементы эстетически организованного текста.
В фокус внимания носителя языка могут попадать разнообразные явления языка и речи. В подавляющем большинстве исследований, посвященных рефлексии нелингвистов о языке, рассматриваются комментарии к отдельным словам и выражениям, однако говорящий может обращать внимание на явления грамматики и фонетики, стилистики и словообразования и т. п. Исследователи указывают на факты речевой рефлексии, которая «проявляется в постоянном внимании… к речевому поведению, к соблюдению норм общения, в том числе и этических» [Николина 2006 б: 68]. Как разновидности речевой рефлексии называют «риторическую и жанровую, объектом которых соответственно будут риторические средства и жанры» [Шмелёва 1999: 108]. В данной книге в качестве примеров метаязыковой рефлексии будут рассматриваться все случаи интерпретации явлений, соотносимых с объектами современной лингвистической науки (единицы языка, речевые произведения, процесс речевого общения и т. д.).
Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена по меньшей мере тремя обстоятельствами. Во-первых, современная лингвистика испытывает острый интерес к вопросам содержания и функционирования обыденного метаязыкового сознания, которое, с одной стороны, традиционно противопоставляется научному лингвистическому знанию, а с другой, – выступает как часть общественного сознания и становится все более активной и влиятельной силой в обществе.
Во-вторых, требует дальнейшего рассмотрения вопрос о средствах метаязыковой функции. Регулярность этой функции приводит к формированию в языкеметаязыка – системы средств, при помощи которых эта функция реализуется. В разных видах текстов, в разных условиях коммуникации эти средства варьируются; безусловно, актуальным является описание метапоказателей, используемых в художественных текстах.
И в-третьих, заявленная тема актуальна в контексте современных тенденций лингвопоэтики, которая рассматривает метаязыковую рефлексию в художественном тексте как инструмент экспрессии, область художественного эксперимента.
Материалом для наблюдения послужили произведения художественной прозы XIX, XX и первого десятилетия XXI вв. (указатель процитированных текстов приводится в приложении). К анализу привлекались произведения разных жанров: классическая проза, драматургия, детская литература, приключенческий и детективный роман, фантастика, любовный роман, юмористическая проза и т. д., а также произведения синкретичных жанров: эссе, литературные письма, литературные очерки, литературные дневники и воспоминания и т. п. (Как показывают наблюдения, в текстах синкретичных жанров метаязыковая рефлексия по своим формам и функциям не отличается от рефлексии в собственно художественных текстах.). При изучении отдельных вопросов использовались выборки примеров из Национального корпуса русского языка[1].
Автор монографии выражает признательность коллегам, чей доброжелательный интерес, острые вопросы, ценные замечания, советы и практическая помощь помогли осуществить данное исследование: проф. Н. А. Николиной, д-ру филол. наук Е. В. Огольцевой, проф. А. Д. Шмелёву, д-ру филол. наук Н. Е. Петровой, проф. В. П. Аникину, проф. Д. Н. Голеву, проф. А. М. Плотниковой, преподавателям и докторантам кафедры русского языка Московского педагогического государственного университета.
Глава I
Метаязыковая рефлексия как объект лингвистического изучения
Язык играет огромную роль в нашей жизни. Вероятно, именно потому, что мы так с ним свыклись, мы редко обращаем на него внимание, принимая его, подобно дыханию или ходьбе, за нечто само собой разумеющееся.
Л. Блумфилд
Языковое существование – процесс не только интуитивно-бессознательный. Интуитивное движение языкового опыта неотделимо от языковой рефлексии; говорящий всё время что-то «узнаёт» о языке, все время что-то в нем постигает, находит или придумывает.
Б. М. Гаспаров
1.1. Из истории лингвистического изучения метаязыковой рефлексии
Задачи современного языкознания актуализировали целый ряд проблем, которые были поставлены, прокомментированы и в значительной степени изучены языковедами прошлого. В частности, для современных исследований по проблемам метаязыковой рефлексии рядового носителя языка имеют методологическое значение идеи, высказанные классиками отечественной лингвистики. Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ указывал на существование «лингвистического, или языковедного мышления», которое возникает на основе «образования ассоциаций и сцепления понятий, относящихся к научному мышлению о предметах из области речи человеческой и из области науки, называемой языковедением» [Бодуэн де Куртенэ 2004: 4]. При этом «языковедное» мышление не является монополией ученого, существует и особое – народное – знание о языке: «…чутье языка народом не выдумка, не субъективный обман, а категория (функция) действительная, положительная, которую можно определить по ее свойствам и действиям, подтвердить объективно, доказать фактами» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 50]. А. А. Потебня в учении о «поэтическом» и «мифическом» мышлении закладывает современное понимание мифа как «технологии» обыденного сознания, в том числе метаязыкового [см., напр.: Потебня 1989: 236–253].
Возникновение интереса к метаязыковым аспектам лингвистики связывают с именем Р. О. Якобсона, который выделяет в системе функций языка – наряду с коммуникативной (референтивной), апеллятивной, поэтической, экспрессивной, фатической – метаязыковую функцию [Якобсон 1975]. Р. О. Якобсон перечисляет наиболее существенные признаки метаязыковой функции. Во-первых, предметом обсуждения при ее реализации является код сообщения; во-вторых, указывается основная форма воплощения метаязыковой функции – толкования. В другой своей работе ученый определяет метаязыковую рефлексию как «осознание речевых компонентов и их отношений» [Якобсон 1978: 163], расширяя таким образом значение термина «толкование». В-третьих, автор говорит о существовании м е т а-языка, то есть языка, «на котором говорят о языке» и который «играет важную роль и в нашем повседневном языке» [Якобсон 1975: 201]. Наконец, Р. О. Якобсон называет причину использования «метаязыка» в конкретных условиях общения: «если говорящему или слушающему необходимо проверить, пользуются ли они одним и тем же кодом». Таким образом, по мысли ученого, метаязыковые комментарии выполняют координирующую функцию, способствуют оптимизации речевого общения.
В рамках исследуемой темы целесообразно также обратить внимание на возможность точек пересечения выделяемых Р. О. Якобсоном метаязыковой функции и поэтической; последняя определяется как «направленность… на сообщение как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого». И хотя автор особо обращает внимание на то, что «поэзия и метаязык диаметрально противоположны друг другу» [см.: Якобсон 1975: 202–204], можно представить себе некоторые условия, при которых метаязыковая и поэтическая функция совпадут: если код сообщения станет предметом эстетической интерпретации.
В работах отечественных лингвистов первой половины ХХ в. находим многочисленные замечания о рефлексии рядовых носителей языка над собственной речью [см.: Якубинский 1923: 144; Винокур 1929: 83–84; Волошинов 1930: 84, 134; Пешковский 1959: 61; Щерба 1960: 309; Поливанов 1968: 75]. Л. В. Щерба одним из первых обратил внимание на метаязыковой комментарий наивного носителя и использовал его как аргумент в описании языковых изменений, апеллируя к тому, «как чувствуют и думают говорящие» [Щерба 1915: 94].
Внимание лингвистов к рядовому носителю языка активизируется в 1960-е годы в связи с изучением языковых изменений и осмыслением проблем культуры речи [Виноградов 1964: 9; Панов 1966: 155 и др.]. В рамках масштабного проекта «Русский язык и советское общество» (1958–1968), целью которого было «определить… отдельные «точки роста» языка, найти наиболее показательные для языковой эволюции модели» [Русский язык 1962: 3], исследовались и метаязыковые оценки рядовых носителей языка [Русский язык 1968, I: 7].
Целый ряд замечаний, связанных с активным отношением говорящего к языку, обнаруживается в работах зарубежных лингвистов, переведенных на русский язык в 1960-е годы [см., например: Косериу 1963: 177–178; Матезиус 1967 а: 388 и др.].
В отечественном языкознании явление метаязыковой рефлексии исследовалось на различном речевом материале. Наиболее планомерно и систематически суждения рядовых носителей о языке изучались и изучаются в диалектологии, поскольку одним из полевых методов сбора материала является стимулирование высказываний информантов об особенностях говора[2] [см.: Ухмылина 1967; Кирпикова 1972; Лыжова 1976; Дьякова, Хитрова 1980; Блинова 1984; 2008; 2009 и др.; Блинова, Ростова 1985; Лукьянова 1986; Никитина 1989; 1993; 2000; Лённгрен 1994; Лютикова 1999, Ростова 1983; 2000; 2009; Пурицкая 2009; Иванцова 2009; Крючкова 2002; 2007; 2008 и др.].
Необходимость разработки проблем, связанных с культурой речи, обусловила обращение Б. С. Шварцкопфа к информантам другого типа – к носителям литературного языка [Шварцкопф 1970; 1971; 1988; 1996; см. также: Костомаров, Шварцкопф 1966]. Материалом для наблюдения стали суждения о языке образованных членов общества (писатели, журналисты, критики, ученые), письменно зафиксированные в публицистической (преимущественно) и художественной речи.
Исследователи используют данные обыденной метаязыковой рефлексии при изучении активных процессов в лексике и словообразовании [Земская 2005: 12], психолингвистики, психосемантики [Доценко 1984; Сахарный 1970; 1992 и др.], онтолингвистики [Гвоздев 1999; Цейтлин 2000; Гридина 2002; Гарганеева 2008; 2009 и др.], социолингвистики [Вахтин, Головко 2004: 87], различных аспектов языковой личности [Караулов 2007: 259]. Стремительно развивающаяся сегодня генристика (теория речевых жанров) обращается к фактам рефлексии жанра носителем языка, в том числе – в художественном тексте [Вежбицка 1997; Шмелёва 1997; Гольдин 1997; Федосюк 1997; 1998 б].
Серьезный импульс к изучению метаязыкового аспекта языка и речи дала статья Анны Вежбицкой «Метатекст в тексте», опубликованная на русском языке в 1978 году. Автор обращает внимание на то, что «высказывание о предмете может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании» [Вежбицка 1978: 404], которые можно было бы «просто вырезать и их запись поместить отдельно, «на ленте с метатекстом» [Там же: 405].
Метатекстовые элементы в тексте – это проявление особого рода метаязыковой рефлексии, направленной на собственное произведение говорящего, в которое эти метатекстовые элементы «вплетены»[3]. А. Вежбицкая анализирует семантические и структурные типы метатекстовых элементов, определяет их функции в тексте. Работа А. Вежбицкой актуализирует намеченную Р. О. Якобсоном проблему метаязыка – системы формальных средств метаязыковой функции языка.
В языкознании второй половины ХХ века становится предметом изучения так называемая «наивная лингвистика»[4] (в западноевропейской и американской лингвистике – «folk linguistics)), «Volklinguistik», «Laienlinguistik», «linguistique populaire» [см. обзоры: Ромашко 1987; Дебренн 2009 а; 2009 б]), под которой понимаются «спонтанные представления о языке и речевой деятельности, сложившиеся в обыденном сознании человека» [Арутюнова 2000 а: 7].
Первоначально под именем «наивной» лингвистики рассматривались те представления о языке, которые не осознаются говорящими и закреплены в семантике языковых единиц; ср.: «Естественная лингвистика – это нерефлектирующая рефлексия говорящих, спонтанные представления о языке и речевой деятельности, сложившиеся в обыденном сознании человека и зафиксированные в значении металингвистических терминов, таких как язык, речь, слово, смысл, значение, говорить, молчать и др.» [Арутюнова 2000 а: 7; см. также: Язык о языке 2000]. Выражение «нерефлектирующая рефлексия» указывает на то, что использование метаязыковых терминов не требует от говорящего выведения информации в «светлое поле» сознания. Сознательная рефлексия уже состоялась на этапе формирования этих терминов, когда языковой коллектив осуществил категоризацию языковой действительности (как фрагмента мира), осмыслил и принял содержание слова, придал рефлексии «свёрнутый», «конвенционализированный» [Рябцева 2005: 535] характер. В современных лингвистических работах «наивная» (обыденная) лингвистика понимается широко: в ее состав включаются как метаязыковые представления, закрепленные в семантике (и в традициях употребления) языковых единиц, так и осознаваемые, вербализуемые в дискурсе метаязыковые знания, мнения, оценки и т. п. [ср.: Булыгина, Шмелёв 2000].
В конце ХХ века интерес к «стихийной» лингвистике активизируется, что вызвано, с одной стороны, антропоцентрическим поворотом в лингвистике, а с другой, – богатством эмпирического материала, к которому языковеды получили доступ в новых условиях. Метаязыковая рефлексия рядовых носителей языка исследуется на материале текстов СМИ [Вепрева 2005; Васильев 2003; Кормилицына 2000 а; 2006; Батюкова 2009 и др.]. С развитием электронных информационно-коммуникационных технологий в поле зрения исследователей попадают не только соответствующие языковые процессы, но и связанный с этими обстоятельствами факт активизации обыденной метаязыковой рефлексии [см.: Резанова, Мишанкина 2006; Сидорова 2006; 2007 а; Нещименко 2008; Резанова 2008; 2009 б; Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009; Мечковская 2006; 2009: 488–494]. Причина активизации метаязыковой рефлексии в Интернете – необходимость критического осмысления и коррекции привычных «технологий» общения.
«Рефлексия наивных говорящих» (М. Ю. Сидорова) в Сети часто носит активный, творческий характер: они не только осмысливают язык, носителем которого являются, но и творят новую языковую действительность: конструируют новые языки [см., напр.: Сидорова, Стрельникова, Шувалова 2009: 410–419], играют с родным языком [Дедова 2007 и др.], а также декларируют своё «языковое существование» [Соколовский 2008].
В течение последнего десятилетия обращение языковедов к актуальным областям современной российской речесферы позволило сделать интересные наблюдения и выводы относительно метаязыковой рефлексии субъектов политического [Шейгал 2004] и юридического [Лебедева 2000; 2009 а] дискурса, жителей современного города [Шарифуллин 2000; Карабулатова 2008] и др. Материал для изучения обыденного метаязыкового сознания дают обращения рядовых говорящих в различные справочные службы [Геккина 2006]. «Впереди, – считают специалисты, – открытие новых источников, например, текстов естественной письменной речи (конспектов, рефератов, работ на ЕГЭ, материалов дискуссии об орфографии и мн. др.)» [Голев 2008 а: 11].
Ученые обращаются для наблюдения над метаязыковой рефлексией и к традиционному объекту исследования – к художественным текстам [Кожевникова, Николина 1994; Кожевникова 1998 а; 1999; 2006; Зубова 1997; 2000; 2003; 2010 и др.; Николина 1986; 1996; 1997; 2004 а; 2004 б; 2005 б; 2006 в; 2009 б и др.; Ляпон 1989; 1998; 2001; 2006 и др.; Черняк В. Д. 2006; 2007; Санджи-Гаряева 1999; Фатеева 2000; Смирнова 2008; Судаков 2010; Попкова 2006; Батюкова 2009 и др.] и фольклорным произведениям [Рождественский 1978; 1979; Сперанская 1999; Шмелёва, Шмелёв 1999; 2000 и др.; Радзиховская 1999; Седов 2007; Шумарина 2010 б и некот. др.].
Новый этап в изучении метаязыковой рефлексии связан с оформлением особого научного направления, в центре внимания которого находится обыденное метаязыковое сознание как самостоятельный объект. Рядом ученых (А. Н. Ростова, Н. Д. Голев и др.) были предприняты действия по объединению и координации усилий языковедов, изучающих различные аспекты обыденного метаязыкового сознания: В октябре 2007 г в Кемеровском государственном университете прошла научная конференция «Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика» по материалам которой выпущен сборник статей [Обыденное… 2008]. В 2009 г. выходят из печати две части коллективной монографии «Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты» [Обыденное… 2009, I; 2009, II], к участию в которой Н. Д. Голев (научный редактор монографии и руководитель проекта) привлек ученых из разных регионов России[5]. Издание монографии, как отмечается в предисловии к I выпуску, является частью общего плана, нацеленного на концептуальное оформление целого направления в отечественной науке (на наш взгляд, оно может быть обозначено как теорияо быденной лингвистики). Материалы сборника статей и монографий обобщают разрозненные до этого момента представления учёных о феномене обыденного метаязыкового сознания, подводят итоги и намечают дальнейшие перспективы исследования.
Под метаязыковым сознанием авторы статей и монографии понимают «проявление гносеологической функции языкового сознания (и – опосредованно – самого языка)» [Голев 2009 а: 10]. Обыденное метаязыковое сознание как объект внимания языковедов «представляет собой своеобразный узел системных связей, объединяющих, с одной стороны, язык и сознание, с другой – обыденное языковое сознание и лингвистику как науку, а с третьей – ментально-языковую сферу с другими сферами социальной жизни человека, сопряженными с языковой деятельностью: обучением языку., культурно-речевой политикой, языковым строительством, специальным использованием языка в различных сферах профессиональной деятельности и т. п.» [Обыденное. 2009, I: 5–6]. Кроме того, проблематика, связанная с обыденным метаязыковым сознанием, оказывается важной для решения некоторых крупных теоретических задач: «без выделения метаязыкового сознания и изучения его места и роли в языковом сознании и в сфере обыденной гносеологии – да и вообще в когнитивной лингвистике – трудно рассчитывать на построение полной модели языкового сознания» [Там же: 6].
Авторы сборника и монографии представили различные подходы к интерпретации феномена «народной» лингвистики, разные уровни его осмысления и «разметили поле» проблематики новой научной дисциплины. Содержание указанных изданий дает представление о специфике научного направления, которое проявляется в специфической проблематике, привлекаемом эмпирическом материале и методах исследования [см.: Шумарина 2010 в].
Анализ материалов сборника и монографии позволяет сделать вывод о формирующейся (и сложившейся в общих чертах) отрасли лингвистической науки, которую можно назвать теорией обыденной лингвистики. Внимание этой науки направлено на метаязыковую деятельность рядового носителя языка. Теория обыденной лингвистики и металингвистика, понимаемая в данном контексте как наука о научной лингвистике[6], вместе образуют область знания, которая пока не получила названия и которую можно условно обозначить как «общая металингвистика».
1.2. Основные направления изучения метаязыковой рефлексии в современной лингвистике
Анализ литературы показывает, что сегодня в языкознании сложилась основная проблематика изучения метаязыковой рефлексии. Так, А. Н. Ростова очерчивает три круга проблем, нуждающихся в исследовании: 1) моделирование языка – объекта на основе высказываний носителей языка, 2) изучение закономерностей метаречевой деятельности, 3) описание средств экспликации метаязыковых знаний [Ростова 2000: 76–78]. Перечислим основные вопросы и охарактеризуем результаты исследования.
I. Сущность феномена метаязыковой рефлексии. Исследователи пытаются осмыслить феномен метаязыковой рефлексии, определить его сущность, причины возникновения и условия протекания. Большинство ученых делает акцент на двух моментах: 1) стимулом к возникновению рефлексии является переживаемая коммуникативная неудача или предвидение возможной неудачи [Матезиус 1967 б: 445; Хлебда 1998: 63, 65; Булыгина, Шмелёв 1999: 160; Вепрева 2005: 101–115]; 2) в процессе рефлексии языковая личность выступает одновременно в двух ролях: как говорящий, автор речи и как критик собственного речевого поведения [напр.: Трунов 2004: 81].
А. Н. Ростова выделила шесть «причин-стимулов», которые приводят к сбою автоматизма речевой деятельности: 1) наличие лакун в языковом коде говорящего; 2) оценка собственных речевых тактик; 3) ситуация речевых неудач и нарушения языковых норм; 4) нарушение норм речевого этикета; 5) непонимание из-за разных представлений о референтной ситуации; 6) прогнозирование говорящим ситуации непонимания с учетом различий в языковом коде собеседников [Ростова 2000: 72–73].
Н. Д. Голев называет пять аспектов речевой деятельности, которые требуют «включения» метаязыкового сознания, и располагает их в порядке возрастания потребности в рефлексии: 1) планирование речи (иллокуция); 2) контроль за реализацией плана выражения (локуцией); 3) интерпретация речевых произведений получателем; 4) овладение языком; 5) некоторые специальные виды деятельности (работа учителя, писателя, журналиста, редактора) [Голев 2009 а: 15–18].
В. Б. Кашкин обращает внимание на активизацию метаязыковой рефлексии в условиях «языкового контраста», в частности – при межкультурной коммуникации [Кашкин 2002; 2008].
По наблюдениям И. Т. Вепревой, метаязыковая рефлексия возникает как ответ на коммуникативное или концептуальное напряжение (которое можно понимать как некое предвидение возможной коммуникативной опасности), а рефлексив «выступает как опережающая реакция говорящего», «как метацензоры» [Вепрева 2005: 103–104].
На вопрос, насколько регулярна метаязыковая деятельность в коммуникативной практике личности, ученые дают разные ответы. В эпиграф к I главе вынесены суждения Л. Блумфилда [Блумфилд 1986: 17], который считает, что рефлексия не является непременным атрибутом речевой деятельности, и Б. М. Гаспарова, полагающего, что метаязыковая рефлексия сопровождает все «языковое существование» личности [Гаспаров 1996: 18].
М. М. Бахтин указывал, что «отбор всех языковых средств производится под большим или меньшим влиянием адресата и его предвосхищаемого ответа» [Бахтин 1979 б: 280], в то же время «выбор – это спор говорящего с самим собой, это внутренний диалог, в сжатом виде представленный комментарием к собственным словам» [Чернейко 1990: 80], а это значит, что автор речевого высказывания должен в той или иной степени осознавать содержание и оформление речи.
Наблюдения над речевой практикой показывают, что метаязыковая рефлексия отнюдь не редкое явление: действительно, «в норме» комментарий к речи не нужен, однако «норма» (идеальная коммуникация без «осложнений») в реальных условиях трудно достижима. Более того, в типовую модель коммуникации [см.: Shannon 1948; Shannon, Weaver 1969] «шумы» (или «помехи») заложены как обязательный элемент; характерная для речи избыточность как раз и призвана компенсировать потери информации вследствие различных «шумов». Поэтому метаязыковая рефлексия постоянно сопровождает всякую реальную речевую деятельность.
Помимо непосредственных причин возникновения метаязыковой рефлексии, исследователи обсуждают факторы активности метаязыковой деятельности. Так, в целом ряде работ возможность рефлексии прямо связывается со степенью личной и общественной свободы. В. Хлебда соотносит метаязыковую рефлексию не только с внешними стимулами (необходимость коррекции речи), но и с уровнем интеллектуального и духовного развития личности [Хлебда 1998: 63]. А. А. Пихурова считает, что «в 40—50-е годы, при жизни Сталина, языковая рефлексия практически не проявлялась» и только «в конце 50-х – 60-е годы внутри советской культуры появляется диссидентская литература, содержащая богатый материал языковой рефлексии» [Пихурова 2005: 142]. Н. А. Батюкова пишет: «В эпоху соцреализма внимание авторов переключается с формы художественных произведений на их содержание, поэтому языковая рефлексия ослабевает. В «лагерной» прозе 1960—80-х гг., например, в романах А. Н. Рыбакова «Дети Арбата» и В. Д. Дудинцева «Белые одежды», метаязыковые комментарии отсутствуют» [Батюкова 2009: 15][7]. Э. Л. Трикоз в диссертации, посвященной метаязыковому сознанию образованного носителя языка второй половины XIX в., замечает: «Активное использование средств метаязыковой рефлексии связано с раскрепощением говорящего в своей речевой деятельности, что обусловлено определенными общественно-политическими, социальными и культурными переменами» [Трикоз 2010 б: 54].
Видимо, правы исследователи, которые говорят о высокой активности метаязыковой рефлексии в дискурсе современных СМИ и связывают эту активность с усилением личностного начала в публичной речи, что, в свою очередь, обусловлено либерализацией общественной жизни [Вепрева 2005; Кормилицына 2000 б]. Однако не следует воспринимать данный тезис как бесспорный для всех случаев[8] Во-первых, метаязыковые комментарии в текстах были регулярны и в советский период, и не только в произведениях художественной литературы, но и в прессе (см. многочисленные примеры в работах Б. С. Шварцкопфа)[9]. А во-вторых, далеко не все метаязыковые комментарии, которые продуцирует говорящий, обязательно суть знаки свободомыслия. К метаязыковым рассуждениям часто склонны люди, стоящие на консервативных, охранительных позициях в социальной жизни[10] и / или проповедующие пуристские взгляды по отношению к развитию языка – их комментарии трудно назвать «поиском выхода за рамки заданного». Вместе с тем, носитель языка, придерживающийся прогрессивных взглядов, может не иметь личной склонности к метаязыковому комментированию. Так, в текстах «консерватора» М. Загоскина метаязыковые комментарии более часты и подробны, чем, например, в произведениях А. Пушкина. Многие специалисты указывают на существование склонности, предрасположенности к метаязыковой рефлексии, которая свойственна разным личностям в большей или меньшей степени [напр.: Ляпон 1992: 76; Гаспаров 1996: 18; Ростова 2000: 67 и др.]. Наблюдения показывают, что метаязыковая рефлексия в той же мере свойственна консерваторам, в какой и либералам, она характерна для свободно мыслящей личности и для индивида, скованного социальными условностями и взвешивающего каждое слово.
В понимании природы рефлексии важную роль играет установление соотношения сознательного и бессознательного в метаязыковой деятельности. Если для одних специалистов рефлексия есть «документ бдительности нашего сознания вообще, активности ума» [Хлебда 1998: 65], то другие считают, что даже автоматическая речевая деятельность «предполагает активное отношение к средствам языка, как бы механически ни совершался этот отбор средств на практике» [Винокур 1929: 86]. Видимо, языковое сознание способно к различным видам контроля: полностью сознательному, который может выражаться в вербальных формах, и к подсознательному. Р. О. Якобсон считал, что «активная роль метаязыковой функции… остается в силе на всю нашу жизнь, сохраняя за всей нашей речевой деятельностью неустанные колебания между бессознательностью и сознанием» [Якобсон 1978: 163–164]. О протекании рефлексии на бессознательном уровне пишет целый ряд исследователей [Божович 1988: 73; Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000: 81; Рябцева 2005: 535; Голев 2009 а: 12; Шмелёв 2009; Ким И. Е. 2009 и др.].
II. Объекты рефлексии и виды метаязыковых оценок. Исследователи отмечают, что объектом обыденной рефлексии «может быть как целое высказывание, так и отдельное слово или словосочетание, т. е. сам знак» [Чернейко 1990: 74].
А. Вежбицкая, рассматривая виды метатекста, называет два объекта, на которые направлены метатекстовые оценки: а) сам акт речи и б) текст и его фрагменты [Вежбицка 1978: 406–411].
Большинство исследователей анализирует комментарии к словам и выражениям [Шварцкопф 1970; Вепрева 2005; Булыгина, Шмелёв 1999 и др.]. В фокус внимания говорящего нередко попадают орфоэпические варианты, отдельные грамматические формы и конструкции, а также «стиль высказывания» [Шварцкопф 1970]. Исследователи определяют признаки языковых единиц, которые чаще всего стимулируют рефлексию [напр.: Николина 1986; Вепрева 2005; Черняк 2006; 2009 и др.]. Комментарием снабжаются, прежде всего, агнонимы – слова, лексическое значение которых неизвестно говорящему [Морковкин, Морковкина 1997]. К агнонимам относятся новые и устаревшие единицы, слова ограниченного употребления, а также единицы, значение которых нуждается в специальном обсуждении, поскольку разные носители языка могут вкладывать в одно и то же слово разное содержание.
В целом ряде работ авторы расширяют материал исследования, включая в него примеры речевой рефлексии [Николина 2005 б; 2006 в], в том числе жанровой [Шмелёва 1997; Николина 2004 б]; специалисты по психолингвистике рассматривают тексты, в которых объектом метаязыковой рефлексии являются закономерности речевой деятельности [Радзиховская 1999; Седов 2007]. Э. В. Колесникова обращает внимание на существование «наивной риторики» как одного из аспектов «наивной лингвистики» [Колесникова 2002: 124]. Особым объектом речевой рефлексии выступает специфика художественной речи и особенности творческой речевой деятельности писателей и поэтов [Григорьев 1982; 1983; Цивьян 1995; 2004; Гин 1996; 2006; Черняков 2007; 2009 а; 2009 б; Штайн 2007; Штайн, Петренко 2006; Пиванова 2008; Шумарина 2008 б и др.].
Б. С. Шварцкопф указывает на необходимость «отличать оценку речевых явлений от оценок реалий и понятий», поскольку высказывание может содержать оценку не языковой единицы, а ее означаемого, например: Много в тундре хороших слов. Хорошее слово – «олень»: мчится быстрее ветра. Хорошее слово – «печь»: согревает. Но самое лучшее слово – «друг»: друг не бросит в беде…» [Шварцкопф 1970: 278]. Подробный разбор данного вопроса находим в статьях Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелёва [Булыгина, Шмелёв 1998; 1999; 2000], которые отмечают: иногда «анализ метаязыковых высказываний носителей языка затрудняется тем, что в таких высказываниях суждения о языке не всегда четко отграничиваются от суждений о внеязыковой действительности» [Булыгина, Шмелёв 1999: 150]. Авторы приводят примеры высказываний о внеязыковой действительности, которые оказываются метаязыковыми суждениями, и примеры суждений «о мире», которые маскируются под метаязыковые высказывания. Авторами предлагаются критерии разграничения высказываний «о языке» и высказываний «о мире»: «Мы можем с уверенностью утверждать, что имеем дело с суждением «о языке», а не «о мире» в тех случаях, когда высказывание содержит указание на хронологические, пространственные, социологические и т. п. рамки употребления рассматриваемого выражения» [Там же: 152].
При этом Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв делают два замечания, которые представляются существенными в контексте нашего исследования. Во-первых, четкое разграничение суждений «о языке» и суждений «о мире» не только не всегда возможно, но и не нужно в тех случаях, когда «речь идет о культурно и общественно значимых словах и концептах» [Там же: 158–159]. И во-вторых, случаи, когда «обсуждение. наименования переплетается с описанием денотата», могут носить характер художественного приема и намеренно акцентироваться в литературном произведении [Там же]. Далее в работе мы подтвердим справедливость этих рассуждений.
Объекты рефлексии, на которые направлено внимание носителей языка, получают в рефлексивах разнообразные оценкии характеристики: «от простейших суждений о том, какое употребление является «правильным» и «неправильным»…, до сколь угодно сложных концептуальных построений» [Гаспаров 1996: 18]. Эти оценки являются значениями метаязыковых высказываний. Выявление содержательной типологии метаязыковых контекстов составляет одну из центральных задач изучения языкового сознания «наивного лингвиста». Различные классификации метаязыковых оценок, во-первых, зависят от специфики оцениваемых языковых объектов, а во-вторых, отвечают конкретным исследовательским задачам.
Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв отмечают, что к числу наиболее частотных метаязыковых высказываний относятся «многочисленные прескриптивные высказывания, отражающие представления говорящего о нормах литературного языка, о культуре речи, а также его личные языковые пристрастия» [Булыгина, Шмелёв 1999: 147]. Б. С. Шварцкопф выделил два основных типа метаязыковых оценочных высказываний: а) речевая критика и б) функционально-стилистическое комментирование [Шварцкопф 1970: 288–294].
Наиболее типичная и наиболее частотная метаязыковая характеристика, к которой прибегает говорящий, – это семантизация слова, установление его значения [см.: Николина 1986]. Особый интерес вызывает у исследователей описание рядовыми носителями языка оттенков значений, не зафиксированных словарями [см.: Шварцкопф 1970: 284; Булыгина, Шмелёв 1999: 150].
III. Вопрос о средствах метаязыка. А. Н. Ростова отмечает, что структурная организация метаязыковых высказываний представляет собой «скорее систему возможных предпочтений, чем строгих предписаний» [Ростова 2000: 60]. Тем не менее исследователи предпринимают попытки осуществить систематизацию метаязыковых высказываний по формальным признакам [Скат 1991; Шаймиев 1998; Золотова 2003; Воробьева 2006; Одекова 2007; 2008 а; 2008 б; 2009 б; Батюкова 2009 и мн. др.].
В целом ряде работ отмечалось, что метаязыковые оценки могут быть как эксплицитными, так и имплицитными [Скат 1991; Чернейко 1990; Колесникова 2002; Рябцева 2005; Резанова 2008; Голев 2009 а и др.]. Имплицитные оценки знака заключаются «уже в самом его выборе говорящим как наиболее эффективного для решения коммуникативных задач средства» [Чернейко 1990: 74].
Система эксплицитных средств метаязыка впервые была рассмотрена в рамках одного исследования А. Вежбицкой [Вежбицка 1978], объединившей на основе метатекстовой функции разнородные маркеры метатекста – метаоператоры, или метаорганизаторы высказывания, которые ранее изучались (и продолжают изучаться) в рамках различных лингвистических дисциплин и теорий: как явления синтаксиса простого и сложного предложения, структурные элементы текста и т. п. К метаорганизаторам высказывания относятся средства, характерные для письменной речи (вводные конструкции с семантикой оценки речи и логической последовательности; слова, позволяющие говорящему отмежеваться от содержания высказывания: как будто, вроде бы, почти, скорее, довольно и т. п.; конструкции с выделенной темой; выражения с семантикой «примечания»: кстати, между прочим и т. п.; анафорические местоимения и артикли; некоторые союзы, которые могут указывать на отношения между импликациями; перформативные глаголы; графические выделения) и для устной (интонация и мимика).
Линию, намеченную А. Вежбицкой, продолжает И. Т. Вепрева, которая предлагает перечень дискурсивных маркеров (метаоператоров), служащих формальными признаками метаязыковой рефлексии на слово: а) лексическая единица слово; б) глаголы и существительные, обозначающие речевые действия: речь, имя, говорить, называть и т. п.; в) глаголы подполя интеллектуальной деятельности; а также г) «глаголы подполей других видов деятельности, употребляющихся в переносном значении в сочетании с лексической единицей слово» [Вепрева 2005: 80].
Б. С. Шварцкопф, разграничив словесные (прямые) и графические (к ним относятся кавычки) способы выражения оценок, делит словесные способы на нестандартные («более или менее развернутые характеристики языковых средств и стиля выражения, оценки – «высказывания») и стандартные, под которыми понимаются «готовые формулы введения в текст»[11] [Шварцкопф 1970: 301] (чаще всего – вводные слова и предложения). По наблюдениям автора, кавычки оказываются функционально эквивалентными словесным способам выражения оценок.
Целый ряд исследователей указывает на особые средства экспликации метаязыковых оценок в устной речи [Шварцкопф 1970: 301; Вежбицка 1978: 412; Норман 1994 а: 40; Шаймиев 1998: 75; Трунов 2004; Иванцова 2009: 346–347 и др.].
С вопросом структурной организации метаязыкового высказывания тесно связан вопрос о границах метаязыкового контекста. И. Т. Вепрева отмечает: «…границы рефлексива не всегда могут быть определены четко. При условии, что рефлексив задает самостоятельную тему внутри текста, эксплицируя ее в метаоператоре, его начало легко вычленяется. Нижняя граница бывает размытой или прерванной, «растворяется» в структуре основного текста» [Вепрева 2005: 85; см. также: Ростова 2000: 64]. Поэтому рефлексив удобно представлять в виде структуры с ядром и периферией – комментирующей частью. Данное замечание существенно для нас, так как наличие «периферии» весьма характерно для метаязыковых контекстов в художественной прозе.
Говоря о формальных средствах метаязыковой функции, следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, средства метатекста не всегда возможно четко отделить от собственно текста, так как они могут носить характер полифункциональных. Во-вторых, формальные признаки, отмечаемые исследователями как безусловные показатели метаязыковой рефлексии (например, метаязыковые термины), далеко не всегда сигнализируют о метаязыковом содержании высказывания. Так, слово слово далеко не всегда указывает на то, что в тексте содержится метаязыковой комментарий; ср., например:
Он аккуратно сложил листок, на котором слово «кукольник» преломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний карман куртки и удовлетворенно улыбнулся: все хорошо (Д. Рубина. Синдром Петрушки).
Кроме того, метаязыковой комментарий может вообще не содержать каких-либо однозначных формальных маркеров, например, при использовании квазиавтонимных[12] имен:
– А что такое лактометр, знаешь? / – Я отвечал, что не знаю. /
– Это прибор, показывающий, много ли воды в молоке. Известно, – Николай Антоныч поднял палец, – что молочницы разбавляют молоко водой. Положите в такое разбавленное молоко лактометр, и вы увидите, сколько молока и сколько воды (В. Каверин. Два капитана).
Видимо, следует согласиться с тем, что в большинстве случаев при изучении рефлексивов «фактически невозможна машинная обработка корпуса с помощью поисковой системы – исследователю приходится прочитывать корпус от начала до конца.» [Колесникова 2002: 124].
IV. Функции метаязыковой рефлексии. Большинство исследователей метаязыковой рефлексии стремится выявить ее функции. Описанные в специальной литературе функции метаязыковых контекстов можно условно разделить на три группы – обозначим их как а) текстовые, б) дискурсивные и б) социальные.
Под текстовыми функциями понимается роль метаязыковых высказываний в организации текста; дискурсивные функции проявляются как соотнесение речи с конкретной коммуникативной ситуацией и регулирование процесса общения. Социальные функции связаны с тем влиянием, которое имеет метаязыковая деятельность на социальное взаимодействие людей и – шире – на состояние общества.
По наблюдениям А. Вежбицкой [Вежбицка 1978], метатекстовые выражения могут быть направлены либо непосредственно на текст (речевое произведение), либо «за пределы» текста, к акту речи. «Метатекстовые нити» как элемент текста «проясняют «семантический узор» основного текста, соединяют его различные элементы, усиливают, скрепляют» [Там же: 421]. С текстовыми функциями соотносятся метатекстовые элементы, которые, по А. Вежбицкой, а) выделяют тему высказывания (в конструкциях типа Что касается…); б) указывают на очередность и логическую последовательность частей текста и т. п. Выполняя дискурсивные функции, метаязыковые элементы соотносят речевое произведение с ситуацией, в которой оно создается, участвуют в организации самой этой ситуации, «проясняют» позицию говорящего, управляют деятельностью адресата и т. д. Так, А. Вежбицкая указывает, что элементы метатекста а) акцентируют внимание на самом факте речи (характерно для так называемых высказываний-метаплеоназмов); б) обозначают дистанцирование говорящего от содержания произносимого высказывания; в) дублируют на метатекстовом уровне действия, «которые фактически совершает говорящий самим произнесением остальной части текста» (напоминаю, повторяю, отвечаю, подчеркиваю[13] и т. п.).
В ряде случаев нелегко отделить текстовую роль языковых выражений от дискурсивной. Так, А. Вежбицкая среди элементов метатекста указывает выражения, которые выделяют наиболее важные в смысловом отношении фрагменты. Очевидно, что такие выражения выполняют как внутритекстовую функцию (организуют смысловое пространство текста), так и дискурсивную (управляют вниманием адресата).
В. А. Шаймиев, определяя функции метатекста как иллокутивные, ведет речь о двух разновидностях этих функций: ближайших и дальнейших [Шаймиев 1998: 72–75]. Ближайшие иллокутивные функции названы так потому, что «сферой их действия является сам текст; это внутритекстовые иллокутивные функции метатекста». К ближайшим функциям относятся номинативная («называние речевых шагов говорящего по развертыванию, порождению текста») и орудийная (метатекстовые «конструкции являются и своеобразными средствами речевых действий говорящего»: а именно, следующее, то есть, например и т. п.). Дальнейшие иллокутивные функции, по В. А. Шаймиеву, заключаются в том, что метатекст способствует формированию перцептивной рефлексии адресата речи, то есть проявляются на уровне дискурса.
Некоторые разновидности описываемой В. А. Шаймиевым номинативной (ближайшей, текстовой) функции могут, на наш взгляд, рассматриваться как синкретичные – обращенные и к тексту, и к коммуникативной ситуации, поскольку соответствующие метатекстовые элементы не только «выстраивают» текст, но и управляют перцепцией адресата. Это такие функции, как «изложение «плана действий»», «толкование значений определенных элементов текста», «характеристика особенностей оформления текста» и т. п. Функции метатекста, которые автор цитируемой статьи демонстрирует на примере научного текста, по-видимому, в какой-то степени универсальны.
Б. С. Шварцкопф, описывая роль оценочных высказываний, имеет в виду функции, которые мы определили как дискурсивные: а) облегчение понимания речи и б) «аргументация, защита употребления языкового средства в данном контексте» [Шварцкопф 1970: 293]. И. Т. Вепрева также говорит о функциях рефлексивов в дискурсе (что согласуется с заявленным в работе пониманием рефлексива как «единицы речевого взаимодействия адресанта и адресата» [Вепрева 2005: 10]), выделяя два типа: 1) коммуникативные рефлексивы, имеющие целью координировать взаимодействие коммуникантов, и 2) концептуальные рефлексивы, которые служат средством выражения мировоззренческих установок говорящего [Вепрева 2005: 103].
Исследователи метаязыковой рефлексии в художественном тексте соотносят функции метаязыковых высказываний с эстетическими задачами текста. Так, Н. А. Николина пишет о метаязыковых включениях в текст как о средстве взаимодействия автора с читателем: метаязыковые комментарии «сообщают читателю необходимые сведения, способствуют созданию у него добавочных ассоциаций, важных для автора, устанавливают общий для отправителя текста и его адресата код» [Николина 1986: 65]. Собственно эстетическая роль метаязыковых комментариев в художественном тексте заключается в том, что они служат средством а) характеристики персонажа, б) выражения авторской позиции, в) формулирования основного конфликта произведения [Николина 1986; 1996; 2006 в]. Как одна из частных отмечается функция рефлексии как средства комического [Николина 2006 б: 66; Пихурова 2006: 13–15]. Все эти функциии соотносятся с развертыванием художественного дискурса, и их можно отнести к дискурсивным.
Социальные функции метаязыковой рефлексии выходят за пределы конкретного дискурса, отдельной коммуникативной ситуации. По мнению ученых, метаязыковые высказывания влияют в первую очередь на развитие языка. Так, Б. С. Шварцкопф указывает, что «оценки речи. являются одним из средств воздействия на речь других, так как, выражая оценку речи, говорящий не только ставит факт речи в светлое поле сознания (и свое, и у слушающего), но – что имеет важное значение для культуры речи – навязывает данную оценку речи другим говорящим» [Шварцкопф 1970: 287]. Метаязыковые высказывания в текстах СМИ способствуют процессу узуализации слова в языке [Вепрева 2005: 132; см. также: Трикоз 2006; 2008; 2009 б и др.].
V. Изучение метаязыковой рефлексии в диахронии. Как отмечают специалисты, данный аспект остается сегодня «белым пятном» в общей картине представления об обыденном метаязыковом сознании [Обыденное., I: 482]. Действительно, работы, реализующие указанное направление, немногочисленны [напр.: Вавилова 2005; Селезнев 2005; Судаков 2006; Трикоз 2010 а; 2010 б]. В этом ряду заслуживает особого внимания статья Г. В. Судакова «Гиляровский как знаток русской речи (рефлексия писателя на речевые феномены своего времени)» [Судаков 2006], которая иллюстрирует основные принципы изучения метаязыковой личности с позиций историзма[14]: а) рассмотрение материала в контексте общественно-исторических явлений и тенденций языкового развития, б) описание языковой рефлексии как многофакторного процесса и одного из аспектов развития личности, в) систематизация результатов метаязыковой деятельности по исторически значимым параметрам. Методологическое значение для исследования метаязыкового сознания в исторической динамике имеют положения ряда работ Л. Г. Зубковой [Зубкова 2003; 2009 и др.], в которых развитие метаязыкового сознания (как обыденного, так и научного) связывается с развитием человеческого самосознания в целом.
VI. Методы изучения метаязыковой деятельности. Перед исследователем метаязыковой рефлексии встает также вопрос о выборе методов сбора и обработки эмпирического материала. При сборе свидетельств о деятельности метаязыкового сознания исследователи обращаются как к традиционному наблюдению над письменной и устной речью, так и к методам, стимулирующим метаязыковую деятельность носителей языка в специально созданных условиях. Это следующие процедуры: эксперимент, который позволяет выявить осознаваемые и неосознаваемые представления о языке и речи, анкетирование, интервьюирование и опросы, в том числе письменные, метод субъективных дефиниций [см.: Обыденное… 2008; 2009, I; 2009, II]. При изучении языковой и речевой рефлексии исследователи не только обращаются к эксплицированным суждениям, но и рассматривают речевое икогнитивное поведение носителя языка [Ляхтеэнмяки 1999; Шмелёв 2009; Ким И. Е. 2009; Судаков 2010].
В исследовательской практике используются следующие методы описания метаязыкового материала: а) интерпретационный анализ: комментирование и обобщение метаязыковых высказываний (к которым прибегают практически все исследователи); б) статистическая обработка эмпирических данных [Ким Л. Г. 2009; Орлова 2009 а; 2009 б и мн. др.]; в) семантический и семантико-когнитивный анализ метаязыковых контекстов [Степанов 1997; Демьянков 2000; 2001; Левонтина 2000 а; 2000 б; Стернин 2002; 2006; Тавдгиридзе 2005; Полиниченко 2004; 2007 а; Милованова 2005; Иомдин 2008; Шаманова 2008; Кондратьева 2008]; г) реконструкция невербализованных метаязыковых представлений, стереотипов [Голев 2008 б; 2009 в; Ким И. Е. 2009; Лебедева 2009 б; Шмелёв 2009 и др.]; д) лексикографическое описание «метапоказателей» и метаязыковых комментариев [Перфильева 2006; Николина, Шумарина 2009 а; 2010 а]; е) теоретико – лингвистический и лингвофилософский анализ метаязыковых аспектов языка, речи, личности [Гаспаров 1996; Шмелёва 1999; Зубкова 2003; 2009; Кашкин 1999; 2002; 2008; 2009; Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000; Рябцева 2005; Голев 2008 а; 2009 а; Лебедева 2009 б; Ростова 2008 и др.].
VII. Значимость исследования метаязыковой рефлексии.
Рассматривая метаязыковые высказывания, исследователи определяют теоретическую и практическую значимость такого изучения. Прежде всего, обращается внимание на то, что оценки, исходящие от рядовых носителей языка, могут обогатить научное знание: «Наивные языковедческие теории порой на удивление совпадают с теориями, возникающими в рамках профессиональной лингвистики, отличаясь от последних лишь тем, что изложены, так сказать, «простыми словами»» [Колесникова 2002: 121].
Лингвисты указывали на ценность метаязыковых суждений рядовых носителей языка для лексикографии [Щерба 1974: 280 и др.], социолингвистики, стилистики, культуры речи [Шварцкопф 1970: 287]. Исследователи склонны видеть в метаязыковых высказываниях своеобразный индикатор языковых изменений [Шварцкопф 1970; Вепрева 2005]. При этом, как отмечают специалисты, особо важно учитывать такие комментарии, «которые могли бы служить общественным мерилом значимости слова в языке, играли бы роль помет толкового словаря в сознании носителей языка» [Костомаров, Шварцкопф 1966: 27]. Пример такой оценки – «пометы» приводят Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв, говоря о соотношении значений слов мятеж и революция: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае зовут его иначе. В русских толковых словарях смысловой признак, связанный с «результатом», в значении слов мятеж, бунт, революция и даже путч не выделяется. Нет и стилистических помет типа неодобр.» [Булыгина, Шмелёв 1999: 150].
А. Вежбицкая также считает целесообразным анализ метатекста в аспекте стилистических исследований: «Представляется, что количественный и качественный «вклад» метатекста в текст является одним из существенных показателей стилистических различий» [Вежбицка 1978: 421].
В то же время ученые предостерегают от некорректной интерпретации «наивных» метаязыковых оценок. Так, Э. В. Колесникова подчеркивает, что рядовой носитель языка «может блестяще пользоваться языком, но не описывать (и тем более объяснять) язык с профессиональной точки зрения» [Колесникова 2002: 123; выделено автором]. Следовательно, нет оснований абсолютизировать данные, полученные при изучении рефлексии «наивного лингвиста».
В современных работах обобщающего характера формулируются наиболее актуальные задачи исследования метаязыковой рефлексии «наивных» говорящих. Перечислим те из них, которые имеют отношение к вопросам, рассмотренным в монографии. Так, В. Б. Кашкин перечисляет следующие насущные задачи: а) совершенствование терминосистемы, связанной с изучением обыденного метаязыкового сознания; б) описание различных видов метаязыковой деятельности (вербализованные и невербализованные, статические и динамические представления о языке; приемы «наивных пользователей»); в) создание типологической классификации наивных представлений о языке по разным параметрам; г) выявление соотношения научных понятий и бытовых представлений о языке; д) сопоставление обыденного представления о языке с представлениями из других сфер человеческого знания и познания; е) исследование статуса авторитета в языковой деятельности (авторитет учебника, словаря, носителя языка, эксперта и т. п.) [Кашкин 2008: 39–40].
Н. Д. Голев формулирует вопросы, которые нуждаются в ответах в первую очередь: а) каково соотношение обыденного метаязыкового и научного (лингвистического) сознания; какое место между этими понятиями занимают научно-популярная литература, псевдонаука, народная наука, любительская наука; б) в каком соотношении находятся понятия «обыденное метаязыковое сознание» и «наивная лингвистика»; в) какова специфика «наивной лингвистики» по сравнению с другими «наивными науками»; г) какие черты имеет народная лингвистика, каковы особенности языковой личности «наивный лингвист»; есть ли грань между научным графоманством и естественным стремлением обывателя самому разобраться в языке; имеет ли гносеологическую ценность наивная лингвистика; д) существуют ли в профессиональной лингвистике проявления «научной наивности»; е) каково содержание понятия «лингвистическая мифология» [Голев 2008 а: 10–11].
По свидетельству специалистов в области изучения «наивной» лингвистики есть вопросы, «не только не исследованные, но и редко отмечаемые»; к ним относится и вопрос о «бытовом метаязыке» [Обыденное… 2009, I: 481–483].
VIII. Упорядочение терминологии. Рост интереса к изучению различных аспектов непрофессиональной метаязыковой рефлексии, формирование целого ряда направлений и научных школ сопровождается стремительным обогащением терминологии соответствующей области знания. При этом стихийное развитие терминологии нередко демонстрирует «побочные эффекты», которые затрудняют взаимопонимание ученых. К таким «неудобствам» отнесем: а) наличие большого количества терминологических дублетов, которые функционируют как полные или частичные синонимы (например, «наивная лингвистика», «обыденная лингвистика», «естественная лингвистика» и т. п.); б) существование терминов, которые фактически являются омонимами («фолк-лингвистика», «метатекст»); в) использование одних и тех же терминов для обозначения объекта и изучающей его научной дисциплины («наивная лингвистика», «обыденная лингвистика» и т. п.); г) коннотированность и структурное значение[15] общеупотребительных единиц, на базе которых образуются термины («наивный», «народный», «естественный»[16]); д) затемненность внутренней формы термина, образованного с нарушением словообразовательной нормы (напр., «обыденная металингвистика»).
Выскажем здесь некоторые соображения относительно терминов, которые связаны с вопросами, освещаемыми в монографии. В первую очередь заслуживают внимания наименования, обозначающие область исследования и его объект.
Сегодня, при высокой активности изучения обыденной метаязыковой деятельности, остается открытым вопрос о терминологическом обозначении соответствующего научного направления. Становится очевидной необходимость и – с учётом достижений в данной области – возможность уточнения и разграничения понятий, которые интерпретируются в ряде работ как синонимы: «обыденная лингвистика», «бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «естественная лингвистика», «фолк-лингвистика» (folk linguistics), «наивная лингвистика», «лингвистика метаязыкового сознания», «обыденная лингвистическая гносеология», «народная гносеология» [Голев 2009 а: 39]. Н. Д. Голев в различных случаях использует термины «обыденная лингвистика», «обыденная металингвистика», «лингвистика метаязыкового сознания», но особо отмечает, что не настаивает на окончательной терминологизации этих обозначений [Голев 2009 б: 371].
Прежде всего, представляется необходимым дифференцировать термины, обозначающие исследуемый объект («обыденное метаязыковое сознание», «наивная лингвистика» и т. п.) и изучающую его дисциплину (например, используемое Н. Д. Голевым обозначение «лингвистика метаязыкового сознания» и под.). В настоящее время, как отмечалось выше, целый ряд терминов используется одновременно и как обозначение объекта, и как обозначение науки («бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «фолк-лингвистика»[17], «folk linguistics», «наивная лингвистика»). Здесь, видимо, действует традиция терминообразования на основе метонимического переноса, характерная для названий лингвистических наук (ср. термины «синтаксис», «грамматика», «словообразование», которые обозначают и соответствующие языковые феномены, и изучающие их языковедческие дисциплины), так что подобный перенос названия объекта на название науки является закономерным. Однако в ряде случаев такая многозначность термина неудобна, и металингвистическая практика стремится этого избегать (ср., например, появление наряду с термином «словообразование» обозначения «дериватология», а также употребление в лингвистическом дискурсе сочетаний типа «в синтаксической теории», «в грамматических исследованиях» вместо «в синтаксисе», «в грамматике»).
Сложность выработки терминологии обусловлена ещё и тем обстоятельством, что разграничивать приходится даже не уровни языка и метаязыка (что также сопряжено с некоторыми парадоксами сознания), а уровни метаязыка и «мета-мета-языка» (особого рода лингвистику и соответствующую ей металингвистику). Однако терминологическое разграничение в этом случае необходимо, на наш взгляд, и для того, чтобы избежать отождествления онтологического и гносеологического аспектов проблемы, уйти от смешения объекта изучения и знания о нём (Как раз подобное смешение характерно для обыденного сознания и чревато негативными последствиями в сфере практической деятельности [см.: Обыденное… 2009, I: 371–477].)
Таким образом, было бы логично закрепить: а) за объектом изучения обозначения «бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «народная лингвистика», «наивная лингвистика», «естественная лингвистика», «обыденная лингвистика», а также (несколько отличающийся по значению и связанный с изменением угла зрения на объект) термин «обыденное метаязыковое сознание» и б) за изучающей этот объект наукой – термины «лингвистика метаязыкового сознания», «гносеология обыденной лингвистики» или – рискнем предложить – «теория обыденной лингвистики», «теория обыденного метаязыкового сознания».
Обратим особое внимание на обозначения «обыденная металингвистика» (Н. Д. Голев, А. Н. Ростова) и «наивная металингвистика» (В. Б. Кашкин). Эти термины не кажутся безупречными, т. к. внутренняя форма словосочетаний указывает на то, что речь идёт об интерпретации лингвистики обыденным сознанием, а не о научном анализе самой обыденной лингвистики (здесь префикс «мета-» относится только к термину «лингвистика», а определение «обыденная» характеризует слово «металингвистика»).
Использование термина «обыденная металингвистика» может приводить к путанице и подмене понятий. Так, в одной из статей автор, высказав положение о том, что в центре внимания обыденной металингвистики «находятся факты осмысления языка обычными говорящими», далее продолжает: «Объектом металингвистики является обыденное метаязыковое сознание» [Кузнецова 2008]. Данное употребление иллюстрирует один из недостатков термина «обыденная металингвистика». Как правило, в терминологических субстантивно-адъективных словосочетаниях существительное обозначает родовое понятие, а прилагательное – видовое: простое предложение; гласная фонема; лексическое значение; именительный падеж и т. п. В лингвистическом контексте возможно употребление существительного-термина без уточняющего прилагательного (например, значение вместо лексическое значение), при этом корректность высказывания не нарушается, адресат воспринимает слово значение как кореферентное выражению лексическое значение. Однако термины «металингвистика», «металингвистическая функция», «металингвистический дискурс» соотносятся в современной лингвистике не с разговором о языке, а с разговором о лингвистике [см.: Куликова, Салмина 2002]. Таким образом, исключение из обозначения «обыденная металингвистика» уточняющего прилагательного «обыденная» ведет к некорректному употреблению термина «металингвистика».
Как нам кажется, термин «обыденная металингвистика» мог бы использоваться для обозначения другого феномена, который входит составной частью в обыденное метаязыковое сознание. Фактами обыденной металингвистики можно было бы признать различные суждения рядовых носителей языка о содержании лингвистической науки, о теоретической и практической деятельности языковедов – как, например, в следующих фрагментах из художественных текстов:
(1) Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуждая по справедливости, следовало бы убавить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их работа (А. Чехов. Из записной книжки старого педагога); (2) <…> какую бы фамилию я ни присвоил своему объекту, наши фантазеры тотчас <…> впадут в математические изыски, разлагая слово на гласные и согласные буквы, обращая особое внимание на порядок их шествия в слове, место в алфавите <…> и разъяснят, <…> что на сегодняшний день означает количество букв в указанном имени (П. Кожевников. Жрец).
Более логичным для обозначения лингвистической науки, исследующей метаязыковое сознание «естественного лингвиста», выглядел бы термин, в котором префикс «мета-» относился бы ко всему сочетанию «обыденная лингвистика» (мета- + {обыденная лингвистика}), что в русском языке, однако, невыполнимо. Возможно, обсуждаемая семантика адекватно воплотилась бы в наименованиях типа «теория обыденной лингвистики», или «теория обыденного метаязыкового сознания», или уже известном «лингвистика метаязыкового сознания».
Учитывая изложенные здесь соображения мы разграничиваем следующие термины и стоящие за ними понятия.
А. Под обыденной («естественной», «стихийной», «наивной») лингвистикой понимается совокупность (система) обыденных знаний, представлений, суждений о языке и соответствующих лингвистических «технологий». Субъектом обыденной лингвистики является «стихийный (наивный) лингвист» – то есть носитель языка, не занимающийся профессионально лингвистикой.
Б. Научно-лингвистическую деятельность, направленную на изучение феномена обыденной лингвистики, мы называем теорией обыденной лингвистики.
Совокупность сведений о языке / речи и способов их художественного переосмысления в текстах литературы и фольклора также представляет собой особого рода «лингвистику». Субъектом этой «лингвистики» является автор художественного текста или коллективный автор фольклорного произведения, творчески интерпретирующий метаязыковое знание в соответствии с эстетической задачей. Выбор терминологического обозначения для этой «лингвистики» и соответствующей ей «металингвистики» (то есть научного направления, изучающего метаязыковую рефлексию как элемент художественного текста) – одна из задач, которые ждут своего решения.
Далее уточним значение основных терминов, служащих для номинации «единиц метаязыкового функционирования языка» [Голев 2009 а: 35]. Учеными был предложен целый ряд обозначений[18], каждое из которых а) делает акцент на отдельных свойствах метаязыковых текстов и б) обозначает некоторую разновидность контекстов, служащих для экспликации метаязыкового сознания, и не затрагивает других разновидностей (что обусловлено задачами соответствующих исследований).
Термин «метаязыковые высказывания» [Булыгина, Шмелёв 1999] характеризует метаязыковые контексты с точки зрения их содержания. Обозначения «оценки речи» [Шварцкопф 1971 и др. работы] и «суждения о языке» [Гаспаров 1996: 17] акцентируют внимание на субъективно-оценочном содержании высказываний, на операции присвоения признака тому или иному комментируемому факту языка / речи. Эти три термина обозначают высказывания, в которых обозначен объект, содержание и основание метаязыковой характеристики; в их круг не включаются контексты, в которых отсутствует вербально выраженная оценка.
Сочетания «показания языкового сознания» [Ростова 1983; Блинова 1984; Иванцова 2009] и «маркеры рефлектирующего сознания» [Крючкова 2008] переводят «семантический фокус» на связь высказываний о языке / речи с деятельностью сознания. При этом в кругу обозначенных явлений рассматриваются не только развернутые вербальные комментарии, но и «скрытые показания метаязыкового сознания», способами экспликации которых являются «фонетические средства (интонация, понижение тона голоса, особенности произнесения отдельных звуков), а также смех, мимика и жесты, отбор лексических единиц, эвфемистические замены, фигуры умолчания, формулы извинения при употреблении грубых слов, маркеры неуверенности ли как ли, ли как, ли чё ли, как его и т. п.» [Иванцова 2009: 346–347]. Эти термины в наибольшей степени соответствуют задачам описания разнообразных средств экспликации метаязыковой рефлексии, однако не вполне удобны для использования из-за своей «неоднословности». Более лаконичен используемый рядом авторов в том же значении термин «метатекст», употребление которого, впрочем, также затруднено в силу его неоднозначности.
Обозначение «метатекст» приобрело значительную популярность в современной лингвистике[19] и используется в языковедческом дискурсе в двух основных значениях. Во-первых, метатекст – это «высказывание о высказывании», «комментарий к собственному тексту» [Вежбицка 1978: 409], «авторское повествование об авторском повествовании» [Лотман 1988: 56], «своего рода прагматические инструкции по поводу того, как должно быть распределено внимание адресата при восприятии сообщаемой информации» [Апресян 1995: 151]. Метатекст не является самостоятельным речевым произведением, он включается в текст и составляет своеобразный метатекстовый «каркас» [Падучева 1996: 411]. Это понимание восходит к работам А. Вежбицкой и широко представлено в работах по семантике и структуре текста [см., напр.: Андрющенко 1981; Николаева 1987; Скат 1991; Рябцева 1994; 2005; Падучева 1996; Шаймиев 1998; Фатина 1997; Жогина 1999; Федорова 2006 и др.]. В работах последних лет сформировалось понимание метатекста как функционально-семантической категории текста, которая означает «присутствие говорящего в тексте» и преследует цель «передачи авторского отношения к языковому коду своего высказывания» [Лосева 2004: 9][20].
Во-вторых, под метатекстом понимается любая метаречь [Ахманова 1966: 4], любой лингвистический текст [Куликова, Салмина 2002: 97], «материализованное в высказывании суждение говорящего о своем языке» [Ростова 2000: 55; см. также: Ляпон 1986; Никитина 1989; Норман 1994 а; Голев 2003 в; 2009 а; Черняков 2007 и др.]. В основе такого понимания термина лежит иное ощущение его словообразовательных связей: лексема представляется как результат своего рода телескопического сложения: метатекст – метаязыковой текст).
В настоящей работе термин «метатекст» используется в том значении, в котором понимает его А. Вежбицкая: это элементы текста, референтные самому тексту / дискурсу (или их элементам) и выполняющие функцию автокомментирования.
И. Т. Вепрева, подвергнув критическому анализу существовавшие в конце ХХ в. обозначения, предложила термин «рефлексив» [см.: Вепрева 1999], который быстро вошел в научный оборот [см., напр.: Кормилицына 2000 а; Шейгал 2004; Николина 2006 б; Батюкова 2007; Трикоз 2010 а; 2010 б и др.]. Термин «рефлексив» привлекателен не только своей лаконичностью – он позволяет зафиксировать в качестве специфического объекта изучения особый тип высказываний (по признаку содержания) и подвергнуть этот тип собственно лингвистическому анализу с точки зрения семантики, структуры и функции. Трактовка И. Т. Вепревой рефлексива как комментария к слову или выражению обусловлена задачами конкретного исследования и не препятствует семантическому развитию термина, который в нашей работе понимается достаточно широко – как всякий метаязыковой контекст, реализующий (эксплицитно или имплицитно) метаязыковое суждение о любом факте языка / речи (а не только о слове или выражении). Термины «метаязыковое высказывание» и «метаязыковой комментарий» обозначают частные разновидности рефлексивов; термины «метаязыковое суждение», «метаязыковая оценка (характеристика)» указывают на план содержания рефлексива.
1.3. Метаязыковое сознание и формы метаязыковой рефлексии
Метаязыковая рефлексия – это деятельность метаязыкового сознания, и различные виды рефлексии (метаязыковой деятельности) соотносятся с разными формами метаязыкового сознания и в соответствии со спецификой этих форм демонстрируют неодинаковые свойства. Рассмотрим формы метаязыкового сознания и присущие им способы метаязыковой деятельности.
Различные термины, которыми исследователи обозначали метаязыковое сознание, акцентировали внимание на различных сторонах изучаемого явления. Так, термины «языковедное мышление» [Бодуэн де Куртенэ 2004: 4] и «лингвистическое сознание» [Седов 2009: 110] обращают внимание на содержание соответствующей ментальной деятельности – это «мышление о языке». Обозначение «языковая сознательность» [Ухмылина 1967] актуализирует осознанный характер метаязыковой деятельности. Сочетание «языковая интуиция» [Кирпикова 1972 и др.] подчеркивает интуитивный (не логический) характер обыденной метаязыковой рефлексии. Наконец, введенный В. Хлебдой термин «языковое самосознание» подчеркивает высокий уровень сознания личности, который необходим для осуществления критической рефлексии над языковыми реалиями советского периода [Хлебда 1998]; польский ученый рассматривает метаязыковые высказывания не как показатель деятельности метаязыкового сознания, а как показатель «зарождения свободомыслия», однако сегодня термин «языковое самосознание» употребляется в ряде работ как абсолютный синоним термина «метаязыковое сознание» [напр.: Акишева 2007].
Н. Д. Голев указывает на возможность рассмотрения метаязыкового сознания в трех аспектах: 1) как явления языка, 2) как феномена речевой деятельности и 3) как составной части языкового сознания [Голев 2009 а]. Как показывает обзор исследований (см. § 1.1), первый аспект предполагает описание метаязыка – формально-языковых средств, которые репрезентируют метаязыковую деятельность в речи. В аспекте речевой деятельности предметом изучения становятся условия формулирования метаязыковых высказываний и их функции в речи.
Рассмотрение метаязыкового сознания как части языкового сознания (феномена ментальной сферы) традиционно связано с описанием ряда дихотомий: а) языковое сознание – метаязыковое сознание; б) сознательная – бессознательная деятельность; в) вербализованная – «молчаливая» рефлексия; г) обыденное – научное сознание.
В современной науке под метаязыковым сознанием понимается «область рационально-логического, рефлексирующего языкового сознания, направленная на отражение языка как элемента действительного мира» [Ростова 2000: 45]. Не вызывает дискуссий вопрос о том, что метаязыковое сознание – часть языкового сознания[21]. Если языковое сознание понимается как «совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств» [Тарасов 2000: 26], то «объект языкового самосознания
– язык в целом и его отдельные компоненты, языковое поведение. Языковое сознание рождает тексты, языковое самосознание
– метаязык и метатексты. Языковое сознание реализуется в вербальном поведении коммуникантов, языковое самосознание – разными способами, то есть как вербальными, так и невербальными» [Акишева 2007: 7].
Исследователи, описывающие метаязыковое сознание, определяют его сущность и содержание различными способами. Так, ряд ученых [см.: Ростова 2000, Лебедева 2009 а и др.] характеризуют его как совокупность единиц знания: «Метаязыковое сознание – это совокупность знаний, представлений, суждений о языке, элементах его структуры, их формальной и смысловой соотносительности, функционировании, развитии и т. д.» [Ростова 2000: 45]. В соответствующих описаниях метаязыковое сознание интерпретируется как часть, особая предметная область языкового сознания, в которой можно выделить – в соответствии с содержанием – «метаречевое сознание», «жанровое мышление» [Седов 2009], а также могут быть выделены и другие сферы (например, «метаграмматическое», «металексическое», «метариторическое», «метастилистическое» сознание и т. п.).
Другие исследователи делают акцент на деятельностной природе метаязыкового сознания [Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000; Голев 2009 а и др.]. Таким образом, метаязыковое сознание может интерпретироваться и как функция языкового сознания.
Разумеется, любые описания соотношения языкового и метаязыкового сознания представляют собой некие метафоры, при помощи которых исследователь изображает ненаблюдаемую сущность. На наш взгляд, метаязыковое сознание может быть рассмотрено (прибегнем здесь к «компьютерной» метафоре) и как «б а з а данных», включающая сумму представлений о языке, и как операциональная сфера, в которой хранится «программное обеспечение» метаязыковых операций. Своеобразие «данных» и «программ обработки» определяет специфику различных форм метаязыковой деятельности («операции», выполняемые «программами») – «от чувственно-интуитивной рефлексии рядового носителя языка. до глубинной рефлексии профессионала-лингвиста, вооруженного опытом тысячелетней лингвистической мысли и использующего интеллектуальный аппарат, отделенный от чувственно-интуитивной рефлексии множеством опосредующих звеньев» [Голев 2009 а: 9].
Метаязыковая деятельность может осуществляться не только при производстве текстов, но и при их восприятии – в виде различного рода интерпретаций [см.: Алимова 2008; Ким Л. Г. 2009; Сайкова 2009]. Сознательных (и даже творческих) усилий требует восприятие текстов «усложненной» смысловой структуры, особенно художественных и игровых текстов. Ср.: «Понимание может быть только там, где возможно непонимание. Сказанное касается собственно понимания, а не автоматического восприятия привычных речений. Такие речения «понятны и без понимания». Собственно понимание достигается через рефлексию» [Богин 1998: 62].
В психолингвистике, педагогической психологии и дидактике сложилась традиция понимать интерпретацию воспринимаемой речи (вслед за Г. И. Богиным) как «высказанную рефлексию» [Там же] (то есть рефлексия – это ментальная операция, которая протекает «молчаливо», но может воплощаться в вербальной форме в виде высказывания-интерпретации). При этом сама необходимость «высказать» рефлексию служит стимулом для включения механизмов продуктивной деятельности, ибо интерпретация не относится к числу задач, имеющих единственно правильное решение. Интерпретация предполагает выход из режима автоматизма восприятия и верификацию понимания путем анализа собственной метаязыковой деятельности: «Выход в рефлективную позицию есть постановка самого себя перед вопросом такого рода: «Я понял, но что же я понял? Я понял вот так, но почему я понял именно так?»» [Там же: 63].
В качестве свидетельств метаязыковой активности лингвисты рассматривают рефлексивы – вербализованные метаязыковые суждения, однако представление современной науки о сложной структуре сознания, включающей уровни сознательного и бессознательного [см.: Бессознательное 1978–1985], заставляет обратить внимание и на метаязыковую деятельность, локализованную вне «светлого поля» сознания.
К подсознательной сфере относят феномен, который обозначается в специальной литературе терминами «языковое чутье» (ср. «чутье языка народом» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 50]), «интуиция», «чувство языка» [Левина 1978], «молчаливое знание, которое спрятано в «глубинах» человеческого сознания» [Вежбицкая 1996: 244] и которое действует как неосознанный «механизм селекции и контроля языковых единиц» [Божович 1988: 73]. В основе действия этого механизма лежит «система языковых представлений, основанная на преимущественно бессознательном обобщении своего языкового опыта (всей предшествующей речевой практики)»[22] [Ростова 2000: 39].
Говоря о метаязыковом сознании, исследователи отмечают, что «в важнейших проявлениях данного феномена носитель языка встает «над» языком, выступая в роли субъекта, познающего язык во всех его ипостасях и самого себя как носителя языка» [Голев 2009 а: 7]. В то же время «позиция «над» включена в естественную речевую деятельность как механизм ее реализации и тем самым она растворяется до позиции «внутри», в которой осознанное отношение редуцируется до автоматически спонтанного», а компоненты метаязыкового сознания «выступают в роли элементов практического языкового сознания» [Там же]. Обеспечивая возможность автоматизированной речи, сознание подвергает метаязыковую информацию дальнейшему свертыванию и «формирует неосознанный пласт языкового сознания, в котором непроизвольно отражаются знания о мире, в том числе, по-видимому, и такие знания, которые образуют языковую картину мира» [Там же]. Таким образом, метаязыковые представления, воплощенные в компактной форме языкового значения, «нерефлектирующей рефлексии» (Н. Д. Арутюнова), являются, с одной стороны, результатом деятельности метаязыкового сознания, а с другой, – обеспечивают возможность речевой (включающей метаязыковую) деятельности вне «светлого поля» сознания. Такие «свернутые» метаязыковые операции носят латентный характер, неосознаются носителями языка, но при этом «содержат больший или меньший потенциал выхода на метаязыковую «поверхность», если становятся объектом внимания светлого поля сознания» [Голев 2009 а: 8].
О распределенности метаязыкового сознания между сферой сознательного и бессознательного пишет целый ряд специалистов. При этом противопоставление бессознательной и сознательной метаязыковой деятельности носит характер градуальной оппозиции, например, ученые выделяют несколько уровней метаязыковой деятельности в зависимости от ее осознанности: «1) встроенный автореферентный механизм языка (каждая языковая единица сама себя описывает, описывает свой класс), этот механизм по преимуществу имплицитен; 2) эксплицитный регулятивный механизм языковой деятельности (метаязыковые маркеры речевого поведения); 3) скрытый слой мифов и поверий относительно языка, языков, значений, операций со словами и т. п.; 4) эксплицитные мини-теории наивных пользователей языка («надводная часть айсберга») о том, как устроен язык, как его следует изучать, в чем разница между отдельными языками и т. п.» [Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000: 81–82].
Н. Д. Голев также выделяет несколько уровней метаязыковой рефлексии по степени осознанности субъектом метаязыковых реакций[23]: 1) исходный (нулевой) уровень ««молчаливого», или имплицитного, метаязыкового сознания»; 2) интуитивный уровень, который предполагает вербализацию интуитивно данной оценки; 3) выведение языкового факта в «светлое поле» сознания и попытка аргументированного комментария (При этом аргументы основаны на личных впечатлениях говорящего о языковом феномене: «бессистемные наблюдения о нем, отдельные эпизоды, примеры, ситуативно-эвристические догадки, выделение поверхностных, бросающихся в глаза дифференциальных признаков»); 4) уровень стихийного теоретизирования: оценка собственных или чужих суждений с точки зрения правильности / неправильности; 5) «повышенный» уровень теоретизирования, предполагающий стихийное обобщение наблюдений и даже использование имеющихся лингвистических знаний [Голев 2009 а: 12–14].
Выделение указанных разновидностей метаязыкового сознания и уровней рефлексии можно интерпретировать как некую «вертикальную» градацию в структуре метаязыкового сознания. Неосознанная рефлексия на нижнем уровне реализует «невербализованные представления о языке, проявляющиеся через выбор наивного пользователя в пользу того или иного оформления своего речедействия» [Кашкин 2008: 39]. Рефлексия высшего уровня представляет собой «зачатки» теоретической деятельности: «стихийное теоретизирование» (Н. Д. Голев), «эксплицитные мини-теории» (Х. Дуфва, М. Ляхтеэнмяки, В. Б. Кашкин).
Поскольку теоретическая деятельность представляет собой рефлексию более высокого уровня, нежели «наивный» комментарий о языке / речи, то данная вертикальная структура легко «достраивается» путем присоединения нового уровня – научного метаязыкового сознания. Исследователи сходятся в том, что метаязыковое сознание существует в двух вариантах[24]: 1) научное, присущее специалисту-лингвисту и вербализованное в виде языковедческой теории и метаязыка лингвистики, и 2) обыденное, принадлежащее каждом у носителю языка (в том числе и профессиональному языковеду) и проявляющееся в виде эксплицитных и имплицитных суждений о языке и речи. Авторы целого ряда работ в этом смысле говорят о двух уровнях метаязыкового сознания: обыденном и научном. Представление об иерархических отношениях научного и обыденного метаязыкового сознания[25] базируется на представлении об обыденном знании как донаучном. Ср.: «Всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях, свойственных обыденной жизни; дальнейшее ее развитие есть только ряд преобразований, вызываемых первоначальными данными, по мере того, как замечаются в них несообразности» [Потебня 1993: 40]. Такое представление отражает и систему ценностей, характерных для общественного сознания: как сциентистская, так и антисциентиская ценностные установки базируются на представлении о могуществе науки, о ее «функциональном» превосходстве над другими формами знания [см.: Миронов 1997], в связи с чем «ненаучное» знание может оцениваться как «неполноценное»[26]. В то же время взаимоотношения между научным и обыденным метаязыковым сознанием представляются более сложными, в частности, ученые обосновывают «легитимность» ненаучных представлений о языке, отмечая, что «обыденное метаязыковое сознание занимает не периферийное положение в ментальной сфере языка, как раз напротив – оно составляет ядерный компонент ментально-языковой ситуации в современной России, поскольку с ним связан механизм синтеза онтологического и гносеологического бытия языка. Обыденная лингвистика и металингвистика занимают центральное положение в лингвистической гносеологии, работы в этой области имеют прямой выход в лингводидактику и языковое строительство» [Голев 2008 а: 12].
Многообразие проявлений метаязыковой рефлексии приводит к пониманию обыденного метаязыкового сознания как сложного, неоднородного явления, что побуждает исследователей к презентации его структуры в виде различных моделей, которые с разных точек зрения отражают онтологическую сложность феномена и являются его гносеологическими проекциями. Несовпадение моделей, предлагаемых разными авторами, обусловлено как чрезвычайной сложностью объекта, так и различием исследовательских целей. Специфика нашего исследования также требует построения модели метаязыкового сознания, адекватной задачам работы (см. схему 1 на с. 47).
Представим метаязыковое сознание в виде структуры, распределенной «по вертикали» от степени полного автоматизма метаязыковой деятельности до степени включенности всех ресурсов сознания.
Первый уровень – подсознательный (бессознательный). На этом уровне метаязыковая рефлексия представлена в «свернутом» виде «нерефлектирующей рефлексии», она заключена в семантике языковых единиц и правилах их использования, составляющих содержание языкового сознания. Речевой самоконтроль (основная функция рефлексии) осуществляется на этом уровне автоматизированно и бессознательно – как ««предметаязыковое» сознание, функционирующее. в свернуто-автоматических формах» [Голев 2009 а: 26].
Схема 1
Структура метаязыкового сознания и формы метаязыковой рефлексии
Показателями работы метаязыкового сознания на первом уровне является выбор речевых средств, предполагающий их оценку как адекватных замыслу [см.: Милославский 2010: 24; Чернейко 1990: 80].
Второй уровень метаязыкового сознания связан с выведением метаязыковой операции в «светлое поле» сознания и с возможностью вербализации рефлексии. Речевой самоконтроль на этом уровне заставляет говорящего или исправлять допущенные ошибки, неточности, или предвидеть возможный коммуникативный сбой и предупреждать его, в том числе оправдывая использование того или иного выражения, или давать оценку используемым речевым средствам. Ср.: И на протяжении всей его карьеры, если можно назвать его певческий путь таким противным словом, он оставался человеком; А когда я начал работать как режиссер, то, конечно, многое не то чтобы позаимствовал, а, как бы поделикатнее сказать, – воспринял из западного опыта [примеры из кн.: Вепрева 2005: 77; 186].
Метаязыковая деятельность на втором уровне рефлексии, являясь осознанной, демонстрирует тем не менее значительную стандартизованность. Эта деятельность часто спонтанная, неподготовленная, непреднамеренная. Метаязыковые комментарии на этом уровне носят характер импровизаций и функционально привязаны к конкретной коммуникативной ситуации, в рамках которой порождаются. Высказываемые метаязыковые оценки опираются на собственный речевой опыт говорящего (накопленный, но не обязательно специально осмысленный) и на освоенный (присвоенный) коллективный опыт, воспроизводят этот опыт, и потому формулирование таких оценок представляет собой решение «задач известного типа».
Здесь субъектом рефлексии выступает обыденное метаязыковое сознание, которое проявляется в виде «чувственно-интуитивной рефлексии рядового носителя языка» [Голев 2009 а: 9], однако рефлексия второго уровня может осуществляться с опорой на научное знание, а также в рамках научного дискурса (например, воспроизведение «готового» лингвистического знания в репродуктивных жанрах учебно-научного стиля: лингвистический разбор, пересказ параграфа и т. п.).
Наряду с такой «алгоритмической» рефлексией существуют и метаязыковые операции высокой степени осознанности, предполагающие более глубокое осмысление и творческую интерпретацию фактов языка / речи. Это обстоятельство позволяет нам выделить третий уровень метаязыкового сознания – творческий. Как известно, творчество – это деятельность, создающая нечто новое, никогда ранее не существовавшее. Результат творческой деятельности (в отличие от результата деятельности репродуктивной) уникален, несводим к сумме заурядных действий и в принципе неповторим. Творчество должно «ввести что-то новое в контекст действительности» [Рубинштейн 2000: 575].
Рефлексия на третьем уровне метаязыкового сознания направлена на объект, который уже выведен в «светлое поле» сознания рефлексией предыдущего уровня. Субъект рефлексии не просто осознает объект, но сознательно выделяет его и подвергает творческому переосмыслению. Если рефлексия второго уровня фиксирует объективные свойства объекта (семантика, структура, особенности функционирования), то рефлексия третьего уровня в процессе творческой переработки «материала» создает определенного рода приращения, обогащает содержание объекта и расширяет возможности его использования и интерпретации.
К третьему уровню метаязыкового сознания отнесем, прежде всего, различные примеры нестандартного, личностно окрашенного комментирования фактов языка / речи и языковой игры в различных жанрах и стилях речи. Исследователи отмечали, что творческие способности языковой личности находят применение не только в художественном творчестве, но и в повседневной речевой деятельности [Алимова 2008], в частности – в условиях языковой игры, которая присутствует и в текстах, для которых эстетическая организованность не является конститутивным признаком. Ср. фрагменты из военных воспоминаний инженера-строителя Г. Г. Зубкова[27]:
Через несколько дней меня также в группе арестантов вывели на уборку свинарника и конюшни. И нам тоже удалось найти в кормушках несколько кусочков хлеба. Мы тогда иронизировали, что едим «свиные отбивные», в полном смысле «отбитые у свиней»; Главное в этой пропаганде было, что Дальний Восток – цветущий край. Насчет цветущего края мы иронизировали. У нас, живущих в землянке, действительно цвело, т. е. от сырости все плесневело [Зубкова Л. Г, Зубкова Н. Г. 2009: 274–275].
Нередки проявления творческой рефлексии и в обиходной речи. Тезис Л. В. Щербы о том, что «сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю» [Щерба 1974: 25], допускает уточнение: осознанность речи возрастает при наличии условий, стимулирующих такую осознанность – это, в частности, «устремленность к познанию, к креативной деятельности, нацеленность на языковую игру» [Ростова 2009: 184].
Креативная метаязыковая деятельность рядового носителя языка проявляется и как различного рода «метаязыковые фантазии» [Катышев, Оленёв 2009: 299], лингвистическое мифотворчество (речь идет именно о «сочинении» мифов, а не об их воспроизведении, которое относится ко второму уровню рефлексии). Ср. следующую зарисовку:
В последние месяцы у Ивана появилось новое увлечение. Его, впрочем, и увлечением назвать нельзя, оно сразу показало себя не пустым занятием, а интересом, за которым открылся совсем рядом лежащий потайной и увлекательный мир. Это было совсем не то, что ищут, чтобы чем-нибудь себя занять. Однажды он катал-катал случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало, – бывает же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь, – и вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «воробей», проще некуда, и оно, размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось на свои две части: «вор – бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько было на виду и на слуху, настолько говорило само за себя, что он обязан был распознать его еще в младенчестве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай (В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана).
Кроме того, проявлением творческой метаязыковой рефлексии является «художественное освоение» различных положений о языке и речи в эстетически организованных текстах (художественных, художественно-публицистических, фольклорных, игровых). Ср. пример, в котором эстетической интерпретации подвергается грамматическая омонимия:
А историческая необходимость… исторически необходимо только одно: чтобы добро побеждало зло. Но за это у нас, слава Богу, отвечает грамматика: предложение «добро побеждает зло» справедливо всегда, оно в обе стороны справедливо (Е. Клюев. Андерманир штук).
Наконец, с творческим уровнем метаязыкового сознания связана научно-лингвистическая, исследовательская рефлексия, которая носит творческий характер и создает приращения в виде нового научного знания о факте языка / речи.
Творческий характер исследовательской деятельности получил закрепление в языке в форме устойчивого сочетания научное творчество. Показательно, что приоритет в разработке психологии творчества в России принадлежит ученым-филологам А. А. Потебне, Д. Н. Овсянико-Куликовскому и др. В целом ряде работ отмечаются черты, которые роднят научное творчество и художественное: роль природной одаренности и развитого воображения; наличие вдохновения; диалектическое сочетание напряженной интеллектуальной деятельности (в том числе на бессознательном уровне) и фактора случайности; необходимость этапа «озарения», «инсайта», умение выйти за рамки стереотипа и т. п. [Грузенберг 2010; Рубинштейн 1958; Сорокин 2000 и др.]. Интересный опыт сближения поэтического творчества (Велимира Хлебникова) и научного творчества филолога (М. В. Панова, В. П. Григорьева) представлен в статье Вл. Новикова «Роман с языком в поэзии и науке» [Новиков 2006].
Будучи «добытым» в процессе творческой рефлексии, лингвистическое знание усваивается коллективным и индивидуальным метаязыковым сознанием и воспроизводится уже в процессе стандартизованной рефлексии, которая действует на втором уровне метаязыкового сознания.
Все три формы творческой рефлексии о языке (обыденная, научная и эстетическая) имеют собственные предпосылки. Так, А. Н. Ростова отмечает, что «определяющим фактором формирования метаязыкового сознания на уровне обыденного сознания выступают потребности реального повседневного общения, на уровне теоретически систематизированного сознания – внутренние закономерности развития науки» [Ростова 2000: 47]. Стимулом для эстетической метаязыковой рефлексии служит необходимость реализации эстетического замысла конкретного произведения.
Следует отметить, что, хотя в литературе не обсуждался специально вопрос о выделении этого специфического уровня метаязыкового сознания, различия между «обычной» и творческой рефлексией комментировались учеными. Так, отмечалось, что рефлексия говорящего носит не только пассивный, репродуктивный характер (воспроизведение имеющегося знания), но и активный, предполагающий «собственные находки говорящего, мысль которого обнаруживает в его языковых действиях и языковой памяти какие-то соположения, аналогии, повторяющиеся приемы и модели – от параномастических и этимологических словесных сопоставлений до найденных и взятых на вооружение риторических приемов, интонаций, синтаксических оборотов» [Гаспаров 1996: 17].
В. Г. Костомаров и Б. С. Шварцкопф проводили четкую границу между оценками речи в художественных и нехудожественных текстах, хотя и интерпретировали эту разницу лишь с позиции достоверности / недостоверности. Исследователи подчеркивали, что для изучения массовых представлений о языке «гораздо интереснее не сознательные рассуждения о языке, особенно обусловленные композиционными и иными заданиями, а действительно «случайно-естественные» мнения, отражающие и выражающие языковой опыт, так сказать, в чистом виде» [Костомаров, Шварцкопф 1966: 24]. Другими словами, подчеркивается, что в художественных текстах характер оценок обусловлен стилистическим заданием и эти оценки не являются «случайно-естественными».
В работах, так или иначе затрагивающих проблему сопоставления научного и наивного взгляда на язык, как уже отмечалось выше, научная рефлексия рассматривается как явление более высокого уровня, чем рефлексия обыденная. О возможности творческого озарения при действиях с языковым материалом говорит А. Н. Ростова [Ростова 2000: 39]. На качественно новый характер рефлексии при решении творческих задач указывают и психологи [Семенов, Степанов 1983; Зак 1990; Борисов 1990 и др.].
Таким образом, вывод о возможности выделения третьего, творческого уровня метаязыкового сознания подготовлен многими наблюдениями ученых.
Совокупность рефлексивов, обнаруживаемых в конкретном типе дискурса и отражающих определенный вид метаязыкового сознания, интерпретируется исследователями как та или иная лингвистика (или «лингвистика»): научная, обыденная, «любительская» и т. д.
Схема 1 отражает особенности как индивидуального, так и коллективного (общественного) метаязыкового сознания. Однако, подобно всем другим способам представления не наблюдаемого непосредственно феномена, она имеет условный и упрощенный характер и не отражает всей сложности взаимоотношений между разными формами метаязыкового сознания. В связи с этим необходимо сделать ряд примечаний к данной схеме.
Первое. Следует отметить отсутствие четкой границы между бессознательной рефлексией и осознанной (собственно рефлексией), поскольку «всякое осознанное содержание обычно включает в себя не до конца и не полностью осознанные зависимости и соотношения, т. е. имеет место непрерывность осознанного и неосознанного как одно из фундаментальных свойств психического как процесса» [Залевская 1999: 35].
Второе. Тезис о разграничении «наивного» и научного метаязыкового сознания нуждается в уточнении. Научное знание и обыденные представления можно (и следует) разделять в плане гносеологическом, но не всегда возможно эти сферы разграничить в плане онтологическом. Так, исследователи указывают, что «наивное и научное переплетаются самым причудливым образом и различению не поддаются» [Слышкин 2001: 87]. В специальной литературе отмечалось, что между этими вариантами метаязыкового сознания нет непроходимой границы, или, точнее, граница представляет собой достаточно широкую зону «опосредующих звеньев» и чрезвычайно подвижна. Так, Н. Д. Голев указывает, что на выделенном им пятом уровне метаязыковой рефлексии («повышенном» уровне теоретизирования) рядовой носитель языка может пользоваться метаязыком науки, опираться на знания, полученные в процессе обучения; это явление квалифицируется как «этап перехода от стихийно-теоретической метаязыковой рефлексии к профессиональной» [Голев 2009 а: 14]. Высказывалось мнение, что в противопоставлении «научное – наивное» особое место должны занять «языковые рефлексии И. Ньютона, создавшего проект искусственного языка, Г. Лейбница, предложившего варианты формирования философского языка» [Резанова 2009 а: 121] и т. п., а также «мощное направление лингвофилософского осмысления языка, не опирающееся непосредственно на позитивную, эмпирически определенную лингвистическую традицию» [Там же: 122]. В связи с этим З. И. Резанова предлагает различать научное метаязыковое сознание и научное лингвистическое метаязыковое сознание – два самостоятельных феномена, которые, однако же, находятся в сложных отношениях: они не только противопоставлены, но и демонстрируют взаимодействие, взаимовлияние и взаимопроникновение [Там же: 121–126].
Отсутствие непроницаемой границы между наукой и обыденным знанием обусловлено не только тем, что «в обыденном сознании в рудиментарном или зачаточном состоянии присутствуют 'дички' всех бывших, существующих и будущих научных теорий, верных и ошибочных» [Воркачев 2004: 84], но и спецификой самого «языковедного мышления», поскольку «научный стиль мышления потенциально заложен в языковом сознании, первичном по отношению к теоретическому мышлению» [Зубкова 2006: 173]. Таким образом, обыденное сознание, усложняя способы осмысления языка, способно приближаться к научному; в то же время научное сознание также способно на «ответное движение»; ср. следующее замечание: «Весьма характерными являются и проявления русской метаязыковой ментальности в общественных и научных дискуссиях по поводу судеб русского языка, его «порчи», необходимости борьбы за чистоту и т. п. Нередко в накале этих дискуссий профессиональная наука органично сливается с обыденными представлениями о языковом строительстве и не отделяется от них концептуально» [Голев 2008 а: 9].
Исследователи неоднократно указывали, что в роли носителя «наивного» метаязыкового представления может выступать и лингвист – когда высказывается по проблеме, не входящей непосредственно в круг его научных интересов [Шмелёв 2009: 36], или когда предметом обсуждения становятся вопросы, затрагивающие его «личные взаимоотношения» с языком, вкусы и пристрастия [Кронгауз 2008]. Вообще для личности ученого-лингвиста характерна «конкуренция» профессионального и обыденного сознания, отмеченная многими специалистами [Крысин 1994: 28; Успенский 1994: 53; Караулов 2007: 260 и др.]. Таким образом, граница между обыденным метаязыковым и профессионально-лингвистическим сознанием проходит и «внутри» индивидуального сознания профессионального языковеда.
Интересно заметить, что стратегии метаязыкового мышления «стихийного лингвиста» нередко похожи на способы научного осмысления языка. В частности, метаязыковые контексты в художественных произведениях часто напоминают процедуру и/или данные лингвистических экспериментов. Различие в том, что задание испытуемому даёт не организатор опроса, а сама коммуникативная практика говорящего. При этом «стимулами» в таком естественном эксперименте выступают слова, актуальные для данного дискурса. Так, следующий пример демонстрирует использование «стихийным лингвистом» метода с в о б о д н ы х а с с о ц и а ц и й:
– Я буквально на секунду. Я хотел спросить тебя как представителя target group: какие ассоциации вызывает у тебя слово «парламент»? / Гусейн не удивился. Чуть подумав, он ответил: / – Была такая поэма у аль-Газзави. «Парламент птиц»… (В. Пелевин. Generation «П»).
Вопросно-ответные формы рефлексива напоминают методику интервьюирования (1), а «наивные» толкования – метод субъективных дефиниций (2):
(1) – А какая она, мамона… грешная? Это чего, мамона? / – Это вот самая она, мамона, – смеется Горкин и тычет меня в живот. – Утроба грешная. (И. Шмелёв. Лето Господне); (2) Компетентность – судя по смыслу, слово это должно обозначать какой-нибудь крепкий напиток (Н. Лейкин. Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова).
Используемую в экспериментах методику верификации признаков можно проиллюстрировать примером из рассказа Г. Горина «Случай на фабрике № 6». Младший технолог Ларичев берет у рабочего Клягина частные уроки, чтобы научиться ругаться:
– Ну, например, «сука»… <…> / – А как это употреблять? / – Да так и употребляйте. / – Нет, вы не поняли. Я хочу понять какую-то закономерность. Это слово употребляется в отношении одушевленного или неодушевленного предмета? / – Не знаю я. / – Ну, хорошо… Вот, например, отвертка… Она может быть этим… тем, что вы сказали? / – Отвертка? – удивился Клягин. – При чем здесь отвертка? / – Я в качестве примера. Вот, скажем, у рабочего вдруг потерялась отвертка… Может он ее так назвать? / – Если потерялась, тогда конечно… / – А если не потерялась? / – А если не потерялась, тогда чего уж… Тогда она просто отвертка!.
Характерные для творческой манеры И. Гончарова сопоставления близких по значению слов имеют коррелятом метод семантического дифференциала:
Что такое, наконец, так называемая тогдашняя роскошь перед нынешним комфортом? Роскошь — порок, уродливость, неестественное уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат. Разве не разврат и не уродливость платить тысячу золотых монет за блюдо из птичьих мозгов или языков или за филе из рыбы, не потому, чтоб эти блюда были тоньше вкусом прочих, недорогих, а потому, что этих мозгов и рыб не напасешься? Или не безумие ли обедать на таком сервизе, какого нет ни у кого, хоть бы пришлось отдать за него половину имения? Не глупость ли заковывать себя в золото и каменья, в которых поворотиться трудно, или надевать кружева, чуть не из паутины, и бояться сесть, облокотиться? <…> Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях – вот отличительные черты роскоши. Оттого роскошь недолговечна: она живет лихорадочною и эфемерною жизнью <…> Рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг – нищета <…> Не таков комфорт: как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства, комфорт доступен при обыкновенных средствах <…> Роскошь старается, чтобы у меня было то, чего не можете иметь вы, комфорт, напротив, требует, чтоб я у вас нашел то, что привык видеть у себя (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
Третье. Современное представление о соотношении обыденного лингвистического знания и науки не должно исчерпываться положением о простой иерархии этих форм. Преодолевая стереотипы сциентизма, мы должны признать, что каждый из этих вариантов знания «отражает одну и ту же языковую реальность, но отражает по-разному, исходя из разных предпосылок и условий, используя разные способы отражения и преследуя различные цели» [Ростова 2000: 47; выделено нами – М. Ш.]. Следовательно, каждый из этих вариантов должен признаваться социально ценным; в структуре общественного сознания они дополняют друг друга. В социуме каждый из вариантов выполняет собственные, частично пересекающиеся, но не совпадающие функции. Имея общую онтологическую природу (будучи инструментами отражения языковой реальности), описываемые варианты метаязыкового сознания характеризуются разными стимулами проявления и развития. Обыденное сознание ориентировано на потребности повседневной коммуникации (достаточно разнообразные и непростые), а для научного сознания стимулом является стремление к открытию законов и закономерностей. Если для обыденных суждений о языке / речи «точкой отсчета» является индивидуальный и коллективный опыт речевой деятельности, то «основы научной теории во многом определяются результатами исследовательской работы предшественников, «включенностью» в определенным образом ориентированную парадигму – историзм, психологизм, структурализм, социализм, антропоцентризм и т. д.» [Ростова 2000: 47].
Исходя из такого представления о «стихийном» знании, мы должны согласиться с тем, что установление ошибочности обыденных представлений не является главной целью изучения «наивной» картины языка. И научная, и «наивная» модели языка есть результат членения и систематизации объекта, который дан нам в непосредственном ощущении в виде некой аморфной массы, и «только внимательность и привычка могут помочь нам различить составляющие ее элементы» [Соссюр 1977: 136]. При этом «ни уровневое членение языкового целого, ни разграничение языковых категорий и классов, ни синтагматическое членение языковых единиц не являются и не должны быть жестко заданными» [Зубкова 2006] и могут варьироваться в зависимости от целей и методов анализа. Результат вычленения и группировки составляющих элементов отчасти обусловлен объективными свойствами самих элементов, а отчасти – особенностями позиции и личности (в том числе коллективной) наблюдателя. Взгляд на язык рядового носителя – это позиция пользователя, который не обязан разбираться в тонкостях «устройства», и особенности его «метаязыковой категоризации» (как одного из аспектов языковой категоризации действительности) детерминированы прежде всего потребностями и опытом повседневной коммуникации.
Четвертое. Обсуждая вопрос об «общественном статусе» обыденного метаязыкового сознания как формы коллективного сознания, следует определить круг носителей этого сознания, речевая деятельность которых может в полной мере продемонстрировать содержание «стихийной» лингвистики и особенности «наивных лингвистических технологий».
С представлением об обыденном метаязыковом сознании связано понятие «рядовой носитель языка», которое приобретает различное содержание в трактовке разных исследователей. Так, З. И. Резанова отмечает, что понятие рядовой носитель языка может определяться «относительно места соответствующей личности в культуре» или же «относительно знаний позитивной научной лингвистической парадигмы» [Резанова 2009 а: 124]. Первая точка зрения отталкивается от общеязыкового значения слов обыденный, рядовой, научный как качественных определителей, в частности – учитывает присущие этим словам в неспециальном употреблении коннотации. Согласно этой точке зрения, «научное» и «обыденное» противопоставлено как «правильное» и «неправильное», «зрелое» и «наивное», «интеллектуальное» и «интуитивное», «современное» и «отсталое», «авторитетное» и «достойное пренебрежения». Прилагательное рядовой противопоставляется определениям выдающийся, элитарный и несет негативную оценку определяемого. В ряде авторитетных лингвистических работ выражение рядовой носитель языка – без обсуждения значения – используется именно для противопоставления «заурядного» и «выдающегося» носителя[28]. Очевидно, что в рамках такого подхода термины обыденное (наивное) сознание и рядовой носитель языка неприложимы к персонам и группам, которые пользуются общественным авторитетом – прежде всего, к писателям.
Вторая точка зрения на соотношение научного и обыденного (наивного) метаязыкового сознания основана на понимании этих форм сознания как своеобразных «регистров», которыми способна владеть одна и та же языковая личность[29]. В этом случае определения обыденный, наивный и научный лишены оценочности и функционируют как относительные прилагательные. Согласно второй точке зрения рядовые носители языка, носители обыденного метаязыкового сознания противопоставлены профессиональным лингвистам, носителям научно-лингвистического сознания. При этом определение рядовой не является оценочным и не свидетельствует о низком качестве метаязыковой способности. К рядовым носителям относится и «языковая личность с развитым метаязыковым сознанием… познающая творческая личность, нацеленная на самовыражение и взаимопонимание в коммуникативной деятельности» [Зубкова Л. Г, Зубкова Н. Г. 2009: 267]. Все «наивные» пользователи языка (а не только носители элитарной речевой культуры) обладают тем психическим образованием, которое Ю. Н. Караулов определил как «любовь к языку» (amor linguae) и которое является неотъемлемым свойством языковой личности [Караулов 2007: 259–262].
В то же время следует учитывать, что писатель, являясь рядовым носителем языка, занимает особое место в социуме, его мнение влияет на формирование «языкового вкуса эпохи». Известен вклад российских писателей в формирование русского литературного языка, в развитие языка художественной литературы; публичные дискуссии «шишковистов» и «карамзинистов», «славянофилов» и «западников», выступления писателей по вопросам русского языка[30] и т. п. привлекали внимание общества к проблемам языкового развития и языкового строительства. В. И. Даль резко возражал тем, кто считал, что в развитии языка «частные усилия» не играют роли [Даль 1860: IV]. Активное обсуждение новой лексики в текстах известных писателей становилось фактором скорейшего освоения инноваций языком (см. работы Э. Л. Трикоз).
Известен целый ряд попыток отечественных литераторов обогатить лексику русского языка, активизировав его внутренние ресурсы (А. Шишков, В. Даль, А. Солженицын) в противовес заимствованиям. Эти попытки интересны в аспекте изучения обыденного метаязыкового сознания по двум причинам. Во-первых, они иллюстрируют достаточно устойчивое в русской лингвокультуре противоречие между бытийным и рефлексивным уровнями метаязыково го сознания, а именно – на бытийном уровне рядовой носитель языка охотно усваивает иноязычные элементы (в противном случае не понадобилось бы так активно бороться с этим явлением), предпочитает их «родным» при полной семантической эквивалентности, находит для них семантическую специализацию и т. п.; на рефлексивном же уровне русские неизменно осуждают засилье иноязычных слов, которые угрожают самобытности русского языка[31]. Во-вторых, предлагая собственные дериваты, писатели образуют их по интуитивно ощущаемым словообразовательным моделям русского языка, которые вполне реальны для коллективного бессознательного. Такие дериваты довольно часто представляют собой потенциальные слова и демонстрируют «зону ближайшего развития» лексической системы. Так, В. И. Даль, образуя слова, многие из которых «диковаты на слух», обосновывает возможность таких слов существованием четырех типов существительных, которые могут образоваться от каждой видовой пары глаголов и характеризуются определенными формальными и семантическими признаками [см.: Даль 1860: IX]. Созданный А. Солженицыным «Русский словарь языкового расширения» [Солженицын 1990] «вполовину придуманных, но ярких и смелых слов, не нарушающих принципа русского слова» [Колесов 2003: 45; выделено автором], также демонстрирует интуитивное постижение ряда словообразовательных закономерностей языка.
Словарями В. Даля и А. Солженицына далеко не исчерпываются факты деятельности отечественных писателей в области лексикографии. Так, П. Вяземский писал о намерении составить словарь, который сегодня можно было бы назвать лингвокультурным: «Мне часто приходило на ум написать свою Россияду. домашнюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных руссицизмов, не только словесных, но и умственных и нравных… В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения. Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразились бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной» [цит. по: Русские писатели 2004: 119].
Н. В. Гоголь оставил солидное лексикографическое наследство, которое является предметом пристального внимания специалистов [см., напр.: Виноградов 1970; Степанов 2004; Приёмышева 2009; Одекова 2009 а; Бокарева 2010]. В работе над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголь пользовался записями в «Книге всякой всячины», которую вел в 1826–1832 годах. В эту книгу, в частности, был включен «Лексикон малороссийский», который стал первым лексикографическим опытом молодого автора. В дальнейшем заметки о словах появлялись в записных книжках и эпистолярных текстах Гоголя, а в 1891 были опубликованы собранные писателем «Материалы для словаря русского языка». Над этими материалами Гоголь работал много лет, «занимаясь русским языком, поражаясь более и более меткостью и разумом его» [Цит. по: Русские писатели 2004: 136]. По замыслу автора, этот словарь «выставил бы… лицом русское слово в его прямом значении, осветил бы его, выказал бы ощутительней его достоинство… и обнаружил бы отчасти самое происхождение» [Там же]. В этот лексикографический труд Гоголь предполагал включить (помимо уже зафиксированных ранее словарями единиц) областные слова, украинизмы, архаические и церковнославянские слова, а также некоторые термины и профессионализмы [см.: Виноградов 1970: 31–32; 46].
Заслуживает внимания и лексикографическая деятельность А. Н. Островского [см.: Николина 2006 б; Приёмышева 2009]; подготовленные писателем «Материалы для словаря русского народного языка» используются в современных лингвистических исследованиях как источник ценного исторического и диалектного материала [Ганцовская, Верба, Малышева 2006: 67–70]. Н. Г. Чернышевский, будучи одним из лучших учеников И. И. Срезневского, составил по его поручению словарь к Ипатьевской летописи, который в 1853 г. был опубликован в «Известиях II отделения Академии Наук».
В советский период истории писатели целенаправленно вовлекались в процессы языкового строительства. Так, мастера художественного слова принимали активное участие в обсуждении проекта нового словаря русского языка [см.: Абрамов 1972; Успенский 1972 и др.]. Многие отечественные литераторы (писатели, публицисты, переводчики), не будучи профессиональными лингвистами, писали популярные книги о языке, оказавшие серьезное влияние на формирование коллективной метаязыковой ментальности носителей русского языка [см., напр.: Чуковский 2009; Успенский 2008 а; 2008 б; 2010; Галь 2007 и др.]. Стали прецедентными многие художественные тексты, которые воспринимаются общественным сознанием как воплощение национально-специфического отношения русского этноса к своему языку: стихотворение в прозе И. Тургенева «Русский язык», сборник миниатюр К. Паустовского «Золотая роза», стихотворения И. Бунина «Слово», Н. Гумилева «Слово», А. Ахматовой «Мужество», В. Шефнера «Слова» и др.
Таким образом, мнение писателя о языке, которое формируется в рамках обыденного сознания, тем не менее обладает высоким авторитетом в обществе (подчас более высоким, чем научно обоснованное мнение лингвиста).
В рамках данной работы мы называем писателя рядовым носителем языка, имея в виду, что его взгляд на язык, выразившийся в художественных текстах, – это взгляд через призму обыденного метаязыкового сознания. Конечно, особое место в ряду анализируемых писателей занимают авторы-филологи, чьи метаязыковые оценки не могут не соотноситься с их профессиональным филологическим знанием. В художественных произведениях А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (2000), Вл. Новикова «Роман с языком» (2007), Ф. Кривина «Записки бывшего языковеда» (1987) и других писателей-филологов рефлексивы отличаются высокой степенью фактологической достоверности, которая сочетается с особым, художественным взглядом на язык. Ср.:
Вообще скажу такую принципиальную сверхбанальность: ХОРОШО ЖИТЬ ХОРОШО. Неважно, где здесь тема, где – рема, где сказуемое, где подлежащее, – члени в любом месте («Хорошо жить – хорошо» или «Хорошо – жить хорошо»). Как существуют безличные предложения: «Холодно», «Жарко», так существуют и безличные истины, не подлежащие обсуждению (Вл. Новиков. Роман с языком).
Совмещение двух ипостасей автора – художника и филолога – делает метаязыковые комментарии особенно интересными. Показательно в этом отношении замечание В. П. Григорьева: «Фигуры поэта-критика, писателя-филолога, критика-литературоведа, как известно, нисколько не теряли в прошлом и не теряют в наши дни в цельности от жанровой широты; каждая из сфер их интересов обогащается за счет другой, а то и других, так или иначе коррелирует с ними» [Григорьев 1975: 11]. Однако художественный текст привлекает не выверенностью лингвистической информации, а тем, что «писатель как бы фотографирует речевую жизнь народа, и подмеченное им (а не взятое из вторых рук – из словарей, статей, как нередко бывает у неопытных писателей) имеет не меньшую ценность, чем непредумышленные оценки самими говорящими» [Костомаров, Шварцкопф 1966: 24–25]. Поэтому метаязыковые комментарии в художественных текстах «отражают типичные для определенного периода взгляды на типичные языковые явления» [Шварцкопф 1970: 289]. И хотя, как справедливо отмечают ученые, многим носителям языка «может казаться и кажется, что именно писатель в силах и вправе судить о языке, что именно его мнение наиболее авторитетно» [Колесникова 2002, с.123], следует помнить, что «на каком бы обширном языковом материале ни базировалось языковое чутье носителя языка – «неспециалиста», сам способ интуитивного обобщения не может дать более или менее четкого понимания причин и закономерностей рассматриваемых языковых отношений и процессов. Такое понимание может дать лингвистический анализ» [Шварцкопф 1970: 285].
Таким образом, «наивный» характер суждений о языке определяется не только отсутствием профессиональных знаний, но и специфической точкой зрения на предмет – с позиции «пользователя», воспринимающего язык как «часть себя»: своей личности, своей жизни. Метаязыковые взгляды рядового носителя языка являются результатом непосредственного наблюдения (в том числе интроспекции) – без использования специальных процедур лингвистического анализа, без опоры на систематическое[32] языковедческое знание. Осознание себя как «пользователя» оказывается не просто имманентно присущим всякой языковой личности, но и достаточно влиятельным фактором профессиональной метаязыковой и языковой деятельности лингвиста.
Все сказанное дает основания рассматривать метаязыковые контексты в художественных произведениях как показатели деятельности обыденного метаязыкового сознания.
Пятое. Оппозиция сознательного и бессознательного в деятельности метаязыкового сознания не равна оппозиции вербализованного и невербализованного. Так, с одной стороны, вербализованным может оказаться неосознанное знание (например, заключенное в семантике языковых единиц – метаязыковых терминов, метатекстовых операторов – и актуализированное при их использовании), а с другой стороны, не всякая метаязыковая операция, даже выведенная в «светлое поле» сознания, обязательно вербализуется в порождаемом тексте (ср. процесс авторской правки, следы которой сохраняются в черновиках и вариантах, но отсутствуют в окончательной версии произведения). Кроме того, рефлексия может быть частично вербализована, как, например, в следующем случае:
Молодой розовощекий участковый (выглядел он так, что это надо было через запятые писать: молодой, розовощекий, участковый!) надавал рецептов и велел деду не забывать свою поликлинику (Е. Клюев. Андерманир штук).
Приведенный фрагмент текста, безусловно, отражает рефлексию автора[33]: обозначен ее предмет (варианты синтаксического и пунктуационного оформления речи), но сама метаязыковая оценка не расшифровывается, автор рассчитывает не столько на понимание, сколько на сочувствование читателя, который интуитивно поймет идею автора.
Шестое. Рефлексия первого уровня (подсознательная) и второго (сознательная) может эксплицировать различные, иногда противоречащие друг другу метаязыковые представления и установки личности и языкового коллектива. Так, Л. В. Щерба отмечал одну интересную закономерность: «.ошибки. не останавливают на себе нашего внимания в условиях устной речи. всякий нормальный член определенной социальной группы, спрошенный в упор по поводу неверной фразы его самого или его окружения, как надо правильно сказать, ответит, что «собственно надо сказать так-то, а это-де сказалось случайно или только так послышалось» и т. п.» [Щерба 1974: 36]. Речевое поведение (в котором реализуется «лингвистическое бессознательное») и осознанные метаязыковые представления не конгруэнтны и не всегда взаимообусловлены, негативные оценки чужого (и своего) речевого поведения отнюдь не всегда приводят к целенаправленной коррекции. Вслед за психологами, выделяющими рефлексивный и бытийный уровни сознания [см.: Зинченко 1991], лингвисты говорят о существовании бытийного и рефлексивного уровней коммуникативного сознания – содержание представлений на этих уровнях может не совпадать [Стернин 2002: 312–317], например, осознанно осуждая грубость, человек может оценивать грубость как допустимую в определенной коммуникативной ситуации. О несовпадении метаязыкового мнения (знания) и речевого поведения пишет А. Д. Шмелёв. Анализируя пример «Мама, это мне дневник вернули», – предпочла девочка ответить в безличной форме… и подобные[34], исследователь замечает: «Может быть, взрослый носитель языка, вспомнив школьную грамматику или осознав, что ее забыл, не станет утверждать: «Дневник вернули» – это безличное предложение. Однако, если ему надо охарактеризовать это предложение, причем характеристика не попадает в фокус внимания, то он, нимало не сомневаясь, называет его безличным» [Шмелёв 2009: 36–37].
Таким образом, контроль на уровне подсознательного выбора допускает использование речевых средств, которые на уровне сознательного контроля признаются сомнительными или недопустимыми. На втором уровне рефлексии включаются «ограничители», связанные с требованиями внешней культуры, с общественными запретами и предпочтениями.
Указанные обстоятельства заставляют исследователя обыденного метаязыкового сознания учитывать несколько моментов. Во-первых, данные, полученные при изучении метаязыковой рефлексии одного уровня не могут служить надежным средством верификации результатов изучения рефлексии другого уровня. Во-вторых, если неосознанная рефлексия свидетельствует о личном выборе говорящего (естественном, искреннем), то рефлексия второго уровня – это выбор и оценки, в значительной мере испытавшие влияние социальных «ограничителей», а потому в меньшей степени естественные и искренние для конкретной личности[35]. В то же время метаязыковые высказывания, относящиеся ко второму уровню рефлексии, являются валидным материалом для изучения коллективного метаязыкового сознания. И в-третьих, изучение неосознанной и осознанной метаязыковой рефлексии требует разных методов. Если при описании осознанных представлений можно руководствоваться метаязыковыми высказываниями носителей языка, то для выяснения того, «каковы наши неявные знания о нашей речи, т. е. такие, о которых трудно было даже подозревать» [Фрумкина 2001: 182], следует обратить внимание на те компоненты речи, которые играют роль «подразумеваемой базы высказывания», то есть выглядят как «пресуппозиции, коннотации, «фоновые» представления и т. п.» [Шмелёв 2009: 37], а также на особенности стратегий и тактик тех или иных видов речевой деятельности [Ляхтеэнмяки 1999: 32].
Седьмое. «Лингвистики» третьего – творческого уровня – демонстрируют черты сходства и различия. Различие между обыденными суждениями о языке и эстетически преображенными отражает соответствующее различие между мифологическим и поэтическим сознанием, которое было сформулировано А. А. Потебней следующим образом: «Сознание может относиться к образу[36] двояко: 1) или так, что образ считается объективным и потому целиком переносится в значение и служит основанием для дальнейших заключений о свойствах означаемого; 2) или так, что образ рассматривается лишь как субъективное средство для перехода к значению и ни для каких дальнейших заключений не служит» [Потебня 1976: 420]. Осознание субъективности «содержания мысли» роднит поэтический способ мышления с научным [Там же]. В то же время научное мышление предполагает способность к критическому анализу [Там же: 421] и коррекции представлений на основе рациональных аргументов, тогда как поэтическое мышление в этом не нуждается, а обыденное (мифологическое) – к этому не способно.
Изучая примеры метаязыковой рефлексии в художественном тексте, мы ограничиваем предмет исследования двумя «лингвистиками»: обыденной и «эстетической» (на схеме 1 соответствующие области выделены серым), поскольку содержащиеся в этих текстах рефлексивы дают, на наш взгляд, возможность, во-первых, реконструировать содержание обыденного метаязыкового сознания, а во-вторых, выявить специфику поэтического осмысления языка.