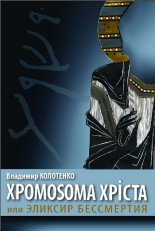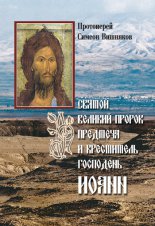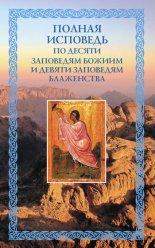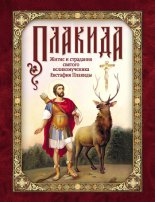Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы Шумарина Марина

(1) Зависть же порождает лишь озлобленный и бессильный мат (С. Данилюк. Рублёвая зона); (2) Был он темен и непрогляден. Казалось, что с тех пор, как ему удалось самостоятельно выцарапать на заборе свое первое бранное слово, он окончательно уверовал в то, что превзошел все науки, и от дальнейшего расширения горизонтов решительно уклонился (Б. Левин. Блуждающие огни).
Ж. Бранные конструкции отнюдь не всегда вызывают восхищение – как правило, они маловыразительны:
<… > бесконечно ждут, ждут, ждут троллейбус, после чего медленно, со вздохами и тусклым матом втискиваются в его трескающиеся от тесноты двери (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени); На любые просьбы всегда отвечала полусмазанным, нечетким матом (Л. Петрушевская. Три лица. НКРЯ).
З. Активизация обсценизмов на самом деле свидетельствует не о «расцвете» данного пласта лексики, а о его упадке. Запрет на употребление нецензурных слов препятствует не свободе слова, а истощению экспрессивных ресурсов языка:
Экспрессия! Потому и существует языковое табу, что требуются сильные, запредельные, невозможные выражения для соответствующих чувств при соответствующих случаях. Нарушение табу – уже акт экспрессии, взлом, отражение сильных чувств, не вмещающихся в обычные рамки. Нечто экстраординарное. Снятие табу имеет следствием исчезновение сильных выражений. Слова те же, а экспрессия ушла. <…> Запрет и его нарушение включены в смысл знака. При детабуи-ровании сохраняется код – информация в коде меняется. Она декодируется уже иначе. Смысл сужается. Незапертый порох сгорает свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые – ты сними юбку в филармонии. Условность табу – важнейший элемент условности языка вообще. А язык-то весь – вторая сигнальная, условная, система. С уничтожением фигуры умолчания в языке становится на одну фигуру меньше – а больше всего на несколько слов, которые стремительно сравниваются по сфере применения и выразительностью с прочими. Нет запрета – нет запретных слов – нет кощунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее – а есть очередной этап развития лингвистической энтропии, понижения энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности потенциалов языка (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
Противоположные оценки мата отнюдь не отрицают друг друга. Во-первых, многие комментаторы последовательно проводят мысль о том, что материться не следует, но можно, если «к месту» и «с уменьем». А во-вторых, здесь проявляется характерный для русского коммуникативного сознания разрыв между «рефлексивным» и «бытийным» уровнями отношения к языку, при котором «рецептивно брань осуждается, бытийно – допускается и даже объясняется необходимость брани» [Стернин 2002: 317]. Иначе говоря, брань осуждается только «на словах», а на деле ее использование вызывает интерес и даже поощряется. Ср.:
С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор, не спеша, входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. / – Слесарь-механик! – вскрикивал дворник. – Аристократ собачий! / Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).
В целом оценки допустимости / недопустимости нецензурных выражений в конкретных ситуациях выстраиваются во вполне определенную шкалу «уместности», на противоположных краях которой находятся некие условные антиподы, один из которых (1) в определенных условиях может материться, а другой (2) ни в коем случае не может: (1) мужчина[110] и (2) женщина, (1) малообразованный персонаж и (2) «культурный», (1) субъект в условиях крайнего дискомфорта и (2) благополучный человек. Ср. высказывание, в котором данное мнение выражено в «концентрированном» виде:
<… > когда работяга, корячась, да ручником, да вместо зубила тяпнет по пальцу – все, что он при этом скажет, будет святой истиной, вырвавшейся из глубины души [1]. Кель ситуасьон! Когда же московская поэтесса, да в фирменном прикиде и макияже, да в салонной беседе, воображая светскую раскованность, женственным тоном да поливает [2] – хочется послать ее мыть с мылом рот <…> (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
Выше отмечались такие признаки мифа, как а) упрощенное и схематичное представление об объекте, б) абсолютизация опыта и приоритет опыта перед теоретическим знанием, в) прецедентность. Анализ рефлексивов о мате позволяет конкретизировать эти положения, а также выявить ряд особенностей мифа, которые связаны с его способностью к развитию.
Так, упрощение и схематизация проявляются в абсолютизации отдельных качеств объекта и игнорировании других. Например, миф о мате не разграничивает употребления обсценизмов в основной номинативной функции (для называния соответствующих реалий – при отсутствии в словаре говорящего других лексических единиц с таким же значением) и в инвективной, именно в роли матерщины, под которой понимается «сознательная замена эмоционально и стилистически нейтрального слова более грубым, пренебрежительным, заряженным эмоционально-экспрессивной оценкой» [Русский мат 1994: 287].
Применительно к данному мифу трудно говорить о приоритете опыта над теоретическим знанием, поскольку теоретические исследования данной тематики малодоступны рядовому носителю языка. Кроме того, в своих практических «взаимоотношениях» с бранью носитель языка не имеет оснований обращаться к помощи науки (Ср., например, с другими мифами – медицинскими, метеорологическими, ортологическими и т. п. Во всех этих сферах человек имеет возможность выбора: обратиться ли к помощи науки или довериться мифологическому представлению).
Миф о мате не только поддерживается коллективным сознанием, но и «достраивается». При этом «достраивании» обыденное сознание руководствуется «логикой мифа»: миф диктует свои собственные условия и проявляет такие качества, как «селективность», «центростремительность» и «поиски авторитета».
Под «селективностью» мы понимаем свойство мифа, во-первых, отбирать факты, согласующиеся с «логикой мифа», а во-вторых, игнорировать факты, противоречащие мифу. Для обыденного сознания, формирующего и поддерживающего миф, характерно игнорирование фактов и мнений, противоречащих «логике» мифа. Скажем, очевидно, что для большинства жанров речи / коммуникативных ситуаций употребление обсценизмов нецелесообразно. В то же время ряд жанров допускает использование мата и даже замену полнозначных слов обсценными дисфемизмами – это является достаточным основанием для формирования мифологического мотива 'Любую информацию можно передать при помощи мата'.
Свойство селективности (избирательности) отличает мифологическое сознание от научного: профессиональное изучение какого-либо явления предполагает учет всех релевантных примеров. Противоречивые факты не игнорируются исследователями, а стимулируют уточнение теории, поиски новых принципов описания, формирование целых научных направлений.
При «достраивании» мифа обыденное сознание склонно, во-первых, «вовлекать в орбиту» соответствующего мифа факты и сюжеты, ассоциативно связанные с мифом, а во-вторых, давать им интерпретацию в соответствии с «логикой мифа». Назовем это свойство мифа его «центростремительностью». Благодаря «центростремительности» мифа о мате любое попавшее в фокус внимания социума новое слово, выражение, название, которое может подвергнуться рифмовке, ассоциативному, паронимическому или этимологическому сближению с бранным словом и т. п., обязательно подвергнется этой метаязыковой операции.
Скопившиеся под дальними саженцами пацаны подхватили забавное для них слово – Европа и, хихикая, сразу же приспособили к нему свой к ладу, к созвучности добавок, за что восседавший за кумачом Прошка-председатель тут же отчитал остряков: / – А ну-ка, грамотеи! На срамное вы завсегда мастера (Е. Носов. Усвятские шлемоносцы).
При «достраивании» мифа обыденное сознание прибегает к «поискам авторитета» (например, Пушкин тоже ругался…). Причем таким авторитетом в мифе также выступают фигуры, в значительной степени мифологизированные в обыденном сознании. Например, в качестве примера «сквернословов» от классической литературы называются чаще всего Пушкин и Толстой, но практически никогда – известные писатели и поэты, чье пристрастие к обсценной лексике «документально зафиксировано» во многих доступных литературных текстах: И. Бунин [см.: Бунин 1990: 83], А. Куприн [Одоевцева 1989: 289], И. Бродский [Волков 2006]. Другими словами, для мифа важна не фактическая точность, а «узнаваемость» используемых образов.
Таким образом, миф о мате наглядно, на многих примерах демонстрирует основные признаки, характерные для мифа в целом и лингвистического мифа в частности.
Глава III
Рефлексив как компонент художественного текста
…право, иное названье еще драгоценней самой вещи
Н. Гоголь
3.1. Проблемы изучения рефлексива как компонента художественного текста
В последние годы ХХ – первом десятилетии XXI вв. изучение метаязыковой рефлексии в художественном тексте[111] развивается в двух направлениях. С одной стороны, лингвисты стремятся в целом осмыслить феномен лингворефлексии в контексте специфики художественной речи (Н. А. Николина, Л. В. Зубова, Н. А. Батюкова и др.). С другой стороны, происходит стремительное расширение и детализация проблематики. Исследователи рассматривают метаязыковую рефлексию на разном литературном материале: в поэзии [Зубова 1997; 2003; 2010; Фатеева 2000; Хазагеров 2000; Догалакова 2002; Кекова 2003; Николина 2004 а; 2009 б; Крылова 2007; Кузьмина 2008; 2009], в драме [Журавлева 2001; Николина 2006 б], в классической [Николина 1997; 2005 б и др.; Кожевникова, Николина 1994; Санджи-Гаряева 1999; Кожевникова 1998 б; 1999; 2002; Калашников 2003; Судаков 2010] и современной художественной прозе [Черняк В. Д. 2007; Шехватова 2007], в том числе в массовой литературе [Черняк М. А. 2007; Садовникова 2007]. Ставится проблема изучения «лингвистической составляющей» произведений детской литературы [Николенкова 2007; Дудко 2010]. Внимание ученых привлекают особенности художественной рефлексии, направленной на разные факты языка и речи: актуальное состояние языка и языковые изменения [Кожевникова 2002; Черняк В. Д. 2006; 2007; Попкова 2006; Шехватова 2007; Щукина 2007], особенности поэтической речи [Шумарина 2008 б], на специфику различных речевых жанров [Николина 2004 б; Балахонская 2007], аспекты речевого поведения [Николина 2005 б; 2006 а; Дементьев 2007], грамматику [Николина 2004 в] и лексику языка [Николина 1986; 1997]. М. В. Ляпон, исследуя метаязыковую рефлексию в текстах М. Цветаевой и В. Набокова, ставит перед собой цель «реконструкции речевого портрета стилесозидающего субъекта» [Ляпон 2006: 344].
Вносят вклад в изучение проблематики «поэтического языковедения» наблюдения, которые содержатся в работах, посвященных лингвостилистическому анализу художественных произведений о языке и речи [см., напр.: Осовская 1986; Николина 1997; Шумарина 2008 а; Грязнова 2010 и др.].
В целом ряде исследований суждения писателей, поэтов о языке интерпретировались как особая форма филологического знания.
Так, особым направлением в филологии стало учение о мета-поэтике [см.: Штайн 2007; Штайн, Петренко 2006; Три века… 2002–2006 и др.], которая определяется как «поэтика по данным мета-поэтического текста, или код автора, имплицированный или эксплицированный в текстах о художественных текстах» [Штайн 2007: 49]. Мастер художественного слова в процессе создания произведений постоянно осуществляет рефлексию над творчеством, и направление этой рефлексии – «работа над материалом, языком, выявление приемов, раскрытие тайн мастерства» [Там же]. Понятие метапоэтики шире, чем понятие метаязыковой рефлексии, поскольку объектом метапоэтических размышлений является не только язык как материал художественного творчества, не только речевая специфика тех или иных жанров, но и сам процесс художественного творчества, соотнесение поэтической техники с традициями той или иной поэтической школы, с философскими концепциями и т. д.
Источником данных по метапоэтике служат сепаративные (эксплицированные) и иннективные (имплицитные) метапоэтические тексты. Эксплицированные тексты – это «работы художника по поэтике, статьи, эссе о поэзии, языке, творчестве» [Там же: 41–42]. К настоящему моменту известен целый ряд работ, посвященных эксплицированным метапоэтическим текстам [напр.: Новиков 1990; Кожевникова 1994; Цивьян 2001; Маркасов 2003; Акимова 2007;
Черняков 2007; Минц 2008 и др.]. Для задач нашего исследования представляют особый интерес фрагменты метапоэтики, представленной непосредственно в художественных текстах (иннективные метапоэтические тексты), которые посвящены анализу поэтических свойств языка, осмыслению речевых признаков тех или иных литературных жанров [см.: Шумарина 2008 б].
Я. И. Гин предлагал выделить особую область знания, которую назвал «поэтическая филология» [Гин 1996: 125–127]. Подходы к изучению «поэтической филологии»[112] намечены Я. И. Гином лишь в общих чертах, однако в его работах высказаны положения, имеющие принципиальное значение для исследования этого специфического объекта. Отдельные тезисы [см.: Гин 1996; 2006] позволяют реконструировать основные черты концепции.
«Поэтическая филология» – это «высказывания писателей о языке, литературе, фольклоре (в статьях, рецензиях, комментариях, манифестах, письмах и т. д. – вплоть до филологических пассажей в самих художественных текстах), – объект гетероморфный и гетерогенный» [Гин 1996: 125]. Как видим, для Я. И. Гина факты «поэтической филологии» локализованы «в статьях, рецензиях, комментариях, манифестах, письмах и т. д. – вплоть до филологических пассажей в самих художественных текстах». Это вплоть до показывает, что художественный текст отнюдь не является основным источником поэтико-филологической информации.
По мысли ученого, субъектом «поэтической филологии» является писатель, поэт, который имеет некую филологическую концепцию и – в идеале – излагает эту концепцию более или менее целостно в каком-либо тексте (текстах): в эссе, статье, манифесте и т. д. А художественный текст выступает вспомогательным источником недостающих данных. Ср.: ««Поэтическая филология» может быть выражена неполно – тогда необходима реконструкция «поэтической филологии», привлечение косвенных свидетельств. Так, хотя С. Я. Маршак как будто полно изложил в статьях о языке и рифме свои взгляды на поэтическую речь, исходные постулаты остались в подтексте; понять их помогают стихи («Словарь») и различные высказывания поэта (из его писем, воспоминаний о нем)» [Там же: 126].
В концепции Я. И. Гина важное место занимает вопрос о соотношении «поэтической филологии» и научной. «Поэтическая филология», по мнению ученого, есть «своеобразное средостение между искусством и наукой» [Там же: 125], в то же время она не должна оцениваться с позиции научности, поскольку обладает свойствами искусства: «Отождествлять «поэтическую филологию» с наукой или, наоборот, считать ее «ненаучной» филологией – все равно что отождествлять поэтическую этимологию с научной или ложной; следует учитывать художественную условность «поэтической филологии»» [Там же]. Роль «поэтической филологии» ученый видит в ее возможном вкладе в науку: «В филологии нередко новые идеи высказывают сами художники слова, а ученым остается лишь «перевести» их слова на язык науки» [Гин 2006: 215]. Однако, по мнению ученого, нужно разработать механизмы «координации» двух форм филологического знания: «Очевидно, предпосылкой плодотворного взаимодействия, «сотрудничества» двух этих сфер культуры является осознание различия языков, на которых они говорят, и осознание необходимости перевода «поэтической филологии» на язык науки» [Гин 1996: 125].
Метаязыковые комментарии в художественных текстах можно рассматривать как один из аспектов «поэтической филологии».
Т. В. Цивьян говорит о «мнимой лингвистике» в связи с творчеством В. Хлебникова1 [Цивьян 2004] и Л. Липавского [Цивьян 2001]. «Мнимая лингвистика» – это суждения поэтов о языке, которые «в принципе в науку о языке (не только в современную) не вписываются, а в некоторых своих пассажах напоминают – horribile dictu – теории полубезумных лингвистов-самоучек, открывающих, что этруски – это русские» [Цивьян 2001: 233]. Тем не менее нельзя воспринимать лингвистику В. Хлебникова и Л. Липавского как проявление невежества – это все-таки особые лингвистические взгляды, «это такая форма описания языка, которая открывает нам неединственность лингвистического описания, выработанного специально для языка» [Там же: 238]. И дело даже не в том, что у поэта могут быть «поразительные по проницательности открытия» [Там же: 233], а в том, что к «мнимой лингвистике» надо подходить с иными мерками, ориентироваться на иные принципы ее интерпре
1 Ср. также с понятием «воображаемая филология» [Григорьев 1982; 1983].
тации. Ср.: «.анализ взглядов Липавского на язык надо начинать не с их приведения в соответствие с привычными языковыми стандартами (= правилами описания), а с выяснения общих взглядов автора на такую уникальную собственность человека, как язык» [Там же: 238]. Для Хлебникова и Липавского эта «неправильная» лингвистика была собственным поиском, «установлением связи означающего / означаемого, звука / смысла» [Цивьян 2004: 592], которые были бы истинными не для языка вообще, а именно для конкретного, собственного поэтического языка. Это не просто лингвистика, а поиски философии языка [Бухштаб 2008], общей семиотики и культурной антропологии [Цивьян 2004: 593].
Л. В. Зубова пишет о «лингвистике поэтов посмодернизма» [Зубова 2003], вкладывая в данное обозначение двойной смысл: это и особенности языка поэтов, и особые способы эстетической интерпретации языковой материи (т. е. специфические приемы метаязыковой рефлексии). Л. В. Зубова в своих работах неоднократно обращает внимание на то, что поэты «исследуют свойства языка», что современную поэзию «можно рассматривать как своеобразную лингвистическую лабораторию» [Зубова 2010: 336].
Таким образом, в целом ряде исследований, затрагивающих вопрос о метаязыковой рефлексии в художественном тексте, формулируются положения, которые позволяют рассматривать в качестве особого объекта лингвистического исследования способы эстетической интерпретации сведений о языке / речи в художественных произведениях.
Как показывает анализ литературы, исследователей в большей мере привлекает «лингводицея» поэтического текста. Так, Н. Е. Сулименко отмечает, что метаязыковая рефлексия над словом, которая активно изучалась на материале поэзии, пока мало исследована на материале прозаических текстов [Сулименко 2009: 58]. В то же время представляется небезынтересным исследование «лингвистической составляющей» в текстах художественной прозы. Поэтический текст, в силу «тесноты стихового ряда» [Тынянов 1924], «уплотненной художественно-информационной структуры стихотворных текстов» [Фатеева 2000: 114], накладывает определенные ограничения на формулирование метаязыковых деклараций. Поэтому целостные, развернутые концепции языка поэты, как правило, излагают в непоэтических произведениях (эссе, манифесты, статьи и т. д.). Прозаический же текст предоставляет возможности более развернутого, подробного изложения лингвистических воззрений автора – в виде отдельных текстов метаязыковой тематики (ср. рассказ К. Станюковича «Смотр»), фрагментов текстов (ср. объемные лирические отступления в «Мертвых душах» Н. Гоголя) или развернутых суждений (ср. в «Метели» А. Пушкина: Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание).
При изучении рефлексивов в текстах русской литературы нужно учесть ряд моментов, обусловленных спецификой художественного текста. Так, в эстетически организованном тексте весьма условной выглядит граница между «автоматической» и «отрефлексированной» речью. Г. О. Винокур указывал на одну из принципиальных особенностей художественного текста: «Язык со своими прямыми значениями в поэтическом употреблении как бы весь опрокинут в тему и идею художественного замысла, и вот почему художнику не все равно, как назвать то, что он видит и показывает другим» [Винокур 1997: 193]. Именно поэтому «поэтическое слово в принципе есть рефлектирующее слово» [Там же: 194; см. также: Славиньский 1975: 264]. Следовательно, использование всех языковых единиц в тексте, их отбор и комбинация, являются результатом сознательной деятельности автора – в тексте нет «случайных» элементов, все используемые средства подверглись авторской рефлексии. Поэтому в принципе о каждом употреблении в тексте языковой единицы или конструкции можно говорить в связи с мотивами ее выбора автором[113] (другими словами, за каждым словом, выражением, конструкцией должна обнаруживаться – пусть имплицитная, но обязательная – метаязыковая оценка).
Тезис о принципиальной «отрефлектированности» слова в литературном произведении по умолчанию принят большинством исследователей художественного текста. Специалисты отмечают, что уже само эстетическое отношение есть рефлексия [Тамарченко, Тюпа, Бройтман 2004]. Как правило, не оспаривается положение о том, что в поэтическом произведении ни один элемент не является случайным, все они обусловлены художественным замыслом, то есть подвергнуты писателем сознательной селекции, а следовательно, являются результатом рефлексии писателя.
Исходя из всего сказанного, подчеркнем: рефлексивы в художественном тексте – это намеренно актуализированные метаязыковые суждения, несущие эстетическую нагрузку. Рефлексив здесь всегда находится в позиции выдвижения, обязательно демонстрирует то или иное образное приращение. В эстетически организованных текстах не может быть «обычных» рефлексивов, которые «просто» указывают на выбор выражения или «просто» объясняют значение непонятного слова. Ср. следующий пример:
<…> и вот тут-то Михайлов вразрез начинает говорить (ворчать), что Алевтина Алевтиной, а семья семьёй (В. Маканин. Отдушина).
Очевидно, что слово ворчать оценивается здесь как более точное (более выразительное) и, следовательно, более уместное в данном случае, поэтому в процессе порождения высказывания автор «исправляет» фразу. Однако художественный текст не является спонтанным и (в отличие, скажем, от устной речи) дает возможность пишущему «спрятать» исправления, представить читателю уже отредактированный текст. Безусловно, экспликация процесса поиска нужного выражения происходит в соответствии с авторским намерением. Таким образом, формальные средства, служащие сигналами экспликации метаязыковых суждений в художественных текстах, одновременно являются и средствами актуализации эстетической функции рефлексивов.
Следует также учесть, что метаязыковая рефлексия в художественном тексте носит характер не только «отражающий» (комментирование реально существующих фактов языка / речи), но и креативный, «творящий» (создание новой языковой реальности, формирование языковой ткани, языкового мира произведения). Следовательно, к метаязыковым контекстам следует относить и те, в которых вводятся факты языка, созданные авторским воображением (например, собственные имена персонажей, вымышленные географические названия, лексика фантастических миров и т. п.).
Можно сформулировать целый ряд проблем, которые следует рассматривать, изучая метаязыковую рефлексию как одно из средств художественной выразительности: а) специфика объекта рефлексии; б) мотивы метаязыкового дискурса; в) художественные приемы, связанные с использованием метаязыковой рефлексии; г) функции рефлексивов в художественном тексте. Каждый из этих вопросов заслуживает отдельного исследования, в данной книге лишь наметим возможные пути их решения и приведем отдельные примеры.
1. Специфика объекта метаязыковой рефлексии в художественном тексте. Лингвистические положения, которые становятся в художественных текстах объектом эстетического преобразования, имеют два источника: 1) «реальная лингвистика» (известные факты языка / речи, подвергающиеся поэтической рефлексии) и 2) авторский вымысел («ирреальная лингвистика»).
«Реальная лингвистика» – это факты реального знания о языке, то есть а) элементы научного языкознания и б) положения обыденной лингвистики. Те трансформации лингвистического материала, которые используются для «создания образа, настроения или для суждения о выразительной стороне языка» [Шварцкопф 1970: 300], основаны на реальных метаязыковых представлениях личности.
«Ирреальная лингвистика»[114] – это конструирование фактов, которых нет в реально существующем языке и которые создаются фантазией автора для решения определенных художественных задач. К таким фактам отнесем следующие.
А. Конструирование авторами языков для решения определенных эстетических задач. Такие языки традиционно создаются для различных фантастических миров, описываемых в художественном тексте. Как правило, авторы создают «фантастическую» лексику, которая либо представляет собой эквиваленты слов русского языка (1), либо является безэквивалентной и обозначает специфические реалии условного мира (2):
(1) Приблизился к людям, поднял крошечную руку в широком рукаве, и сказал тонким, стеклянным, медленным голосом птичье слово: / – Талцетл. / Еще более расширились его глаза, осветились холодным возбуждением. Он повторил птичье слово и повелительно указал на небо (А. Н. Толстой. Аэлита); (2) Кроме автолошадок, здесь были еще так называемые спиралеходы. У этих машин вместо колес сделан винт, или спираль, вроде как у мясорубки. Когда винт вертит, машина двигается вперед (Н. Носов. Незнайка в Солнечном городе).
В реальной действительности существуют системы условных обозначений, понятных ограниченной группе лиц (в групповом или межличностном общении). Отражая подобные факты в художественных текстах, авторы также прибегают к созданию «групповых» языков. Ср.:
<…> у нас с Володей установились, бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: изюм означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, шишка (причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба ш) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и т. д., и т. д. (Л. Толстой. Юность).
Б. В художественных текстах создаются и комментируются отдельные слова и выражения (авторские новообразования), которые не только обладают особыми экспрессивными свойствами, но и нередко заполняют лакуны в лексической системе языка. Ср. комментарий автора к слову, сконструированному для обозначения человека, который помогает старым знакомым не потерять связь между собой, созванивается с ними, ведет переписку[115]:
Он был связитель – такое странное всплыло слово, когда я думал о нем. Не связной (что-то армейское) и не связыватель (как если бы руки), а именно связитель (Е. Шкловский. Связитель).
В. В художественных текстах устанавливаются воображаемые словообразовательные (1) и этимологические (2) связи (поэтическая этимология):
(1) Слово «западло» состоит из слова «Запад» и формообразующего суффикса «ло», который образует существительные вроде «бухло» и «фуфло». Не рано ли призывать склонный к такому словообразованию народ под знамена демократии и прогресса? (В. Пелевин. Ампир В); (2) <…> один сказочно богатый нувориш (оказывается, это слово происходит от новоруса: нувориш – новорус – совсем рядом, а мы и не подозревали) с небывалым размахом громыхнул свадьбу своей дочери в рабочей столовой <…> (В. Распутин. Новая профессия).
Г. В художественных текстах осуществляется интерпретация семантических и грамматических свойств языковых единиц, заведомо не совпадающая с существующим лингвистическим (научным и даже обыденным) знанием. Так, метаязыковые комментарии к словам в художественных текстах могут устанавливать и фиксировать следующие контекстные сдвиги в значении номинативных единиц: замена денотативного значения (1), утрата словом культурных коннотаций (2) и др.:
(1) <… > и для большинства ученых в области человеческой психики еще имеют место белые пятна. Эти пятна и позволяют действовать феноменам, одни из которых различают цвета пальцами, другие запоминают наизусть телефонный справочник, а третьи одеваются во все заграничное, не выезжая за пределы родной области (так называемый телекинез)… (М. Мишин. Заботы Сергея Антоновича); (2) Игра «футбол», о которой Фандорин столько слышал от знакомых британцев, оказалась ужасной дрянью. Не спорт, а какая-то классовая борьба: толпа людей в красных джерси кидается на толпу людей в белых джерси, и было б из-за чего, а то из-за надутого куска свиной кожи (Б. Акунин. Чаепитие в Бристоле).
В тексте могут устанавливаться новые системные связи единицы, которые отсутствуют у нее в реальной языковой системе: синонимические (1), антонимические (2) и т. п.
(1) Тогда же придет на мысль, что ведь, в сущности, это полные синонимы – слово «счастье» и слово «жизнь»… (В. Пьецух. Деревенские дневники); (2) Человек начинает замечать историю <…> когда обнаруживает несовершенство в окружающем мире, когда начинает выпадать из стаи, становиться аутсайдером (так хотелось применить неологизм – аутстайером, выпавшим из стаи. Вот где, оказывается, скрывается антоним: не стайер – спринтер, а стайер – аутстайер) (С. Штерн. Ниже уровня моря).
Д. Автор художественного текста моделирует языковую практику и дискурсивное поведение воображаемых сообществ, например, топонимику и антропонимику вымышленной страны, речевой этикет обитателей ирреальных миров, «искусственные» речевые жанры и т. п. Ср.:
– Городок Кимгим на месте Калининграда – легко. Городок Зархтан на месте Питера – да запросто! С фонетикой им не повезло. <…>
– Привет! – Мужчина крепко пожал мне руку. – Ты Кирилл, знаю. <…> Я – Цайес. / Я еще раз подумал, что жителям Кимгима не везет с фонетикой (С. Лукьяненко. Черновик).
Доля «ирреальной лингвистики» в художественном тексте выше, чем может показаться на первый взгляд. Надо помнить, что даже в произведениях, ориентированных на максимальную достоверность изображения, писатель не «фотографирует» действительность, а строит уникальный художественный мир, поскольку «создание очередного художественного текста есть творение очередного мира» [Норман 2006: 249]. Мир, созданный творческим воображением художника, не может полностью совпадать с реальным миром, и язык этого мира также в значительной мере ирреален. Так, предлагаемое автором толкование слова связывает означающее и означаемое не из реального, а из художественного универсума. Поэтому и вопрос о лингвистической «правильности» положений «поэтического языковедения» не вполне корректен: любое такое положение всегда правильно с точки зрения внутренней логики создаваемого автором мира. Задача исследователя «поэтического языковедения» – увидеть, как метаязыковой комментарий («правильный» или «неправильный») участвует в решении эстетической задачи произведения.
2. Мотивы метаязыкового дискурса. Как известно, под мотивом понимается «традиционный, повторяющийся элемент фольклорного и литературного повествования» [Силантьев 1999: 6], это «простейшая повествовательная единица», характеризующаяся с точки зрения семантики «одночленным схематизмом» [Веселовский 2008: 500, 494]. Наблюдения показывают, что существуют стандартные смысловые схемы[116], которые регулярно реализуются в метаязыковых суждения об однотипных объектах. Приведем примеры некоторых типичных мотивов, которые, как правило, соотносятся с определенными видами объектов метаязыковой рефлексии.
Например, в метаязыковых контекстах, связанных с художественной рефлексией названий (как собственных имен, так и нарицательных), регулярно реализуются мотивы: а) отсутствие названия, безымянность, б) присвоение имени, названия, в) обсуждение соответствия имени (названия) и его носителя,
г) ссылка на этимологию имени, д) сопоставление двух онимов как средство сопоставления означаемых и т. д. Все эти мотивы, будучи созданными по общей смысловой схеме, варьируются в условиях конкретных произведений и реализуют различные художественные задачи. Так, художественно значимым оказывается отсутствие у персонажа имени. Ср.:
Господин из Сан-Франциско – имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил – ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения (И. Бунин. Господин из Сан-Франциско).
Как отмечают исследователи, образ главного героя рассказа лишен личностного начала, в тексте у него нет не только имени, но и речевой характеристики [см.: Николина 2007: 248]. В данном случае имя осмысливается как проявление индивидуальности, а его отсутствие – как обезличенность. Имя персонажа вообще в мотивной структуре произведения играет специфическую роль; ср. утверждение О. М. Фрейденберг: «Значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив: герой делает только то, что семантически сам означает» [Фрейденберг 1997: 223]. Поэтому безымянность лишает героя деятельности и обрекает на смерть. В другом рассказе тот же автор прямо указывает на связь имени с жизнью, а его утраты – со смертью, с прекращением существования:
<…> и настала ночь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет название река Келани, достигнув океана (И. Бунин. Братья).
Мотив безымянности у различных писателей часто реализуется как прием отказа от номинации предмета, и такой отказ может служить средством гиперболизации: здесь реализуется смысловая схема 'Этот предмет настолько исключителен, необычен, не походит на другие аналогичные предметы, что к нему невозможно подобрать название'. Ср. подобный мотив, использующийся для выражения различных оценок:
(1) <…> в нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса) (Н. Гоголь. Мёртвые души); (2) <…> океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно (А. Чехов. Гусев); (3) На человеческом языке нет слов, чтобы выразить, до какой степени он мне показался гнусен и ничтожно низок (И. Тургенев. Несчастная).
Мотив присвоения имени реализуется обычно в виде рассказа о том, при каких обстоятельствах предмет или лицо получает наименование; ср.:
Родильнице предоставили на выбор любое из трех [имён], какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, – подумала покойница, – имена-то всё какие». Что-бы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, – проговорила старуха, – какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич (Н. Гоголь. Шинель).
Нередко мотив именования сочетается с мотивом обсуждения соответствия / несоответствия имени означаемому:
Вообще-то мама назвала ее для красоты и маскировки Наташей, но это была попытка обмануть природу столь же безнадежная, как назвать кошку Полканом. На ней было написано, что ее зовут Хася, вот все ее так и звали (М. Веллер. Миледи Хася).
Регулярный мотив метаязыкового дискурса – обсуждение этимологии имени:
Над московским студентиком Побиском Кузнецовым ядовито посмеивались. Был он, видимо, из ортодоксальной партийной семьи, и странное имя расшифровывалось как «Поколение Октября Борец И Строитель Коммунизма». Поскольку сел Побиск по 58-й, однокамерники переделали это в «Борец Истребитель Коммунизма» (В. Фрид. 58 с половиной…); Покупают в Иркутске в «Шанхае». Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи «челноков», снующих беспрестанно туда и обратно (В. Распутин. Нежданно-негаданно).
Сопоставление двух названий служит средством характеристики изображаемого:
Вообще-то мама назвала ее для красоты и маскировки Наташей, но это была попытка обмануть природу столь же безнадежная, как назвать кошку Полканом. На ней было написано, что ее зовут Хася, вот все ее так и звали (М. Веллер. Миледи Хася);
Наблюдения показывают, что каждому типу лингвистических объектов, попадающих в поле зрения автора художественного текста, соответствует свой перечень повторяющихся мотивов. Так, жанровая рефлексия связана с такими регулярными мотивами, как а) перечисление типичных признаков жанра, б) сфера использования жанра, в) уместность / неуместность жанра в конкретных условиях коммуникации, г) история жанра и др. В рефлексивах, посвященных аббревиатурам, наиболее часты следующие мотивы: а) указание на непрозрачность внутренней формы, б) расшифровка аббревиатур, в) создание новых аббревиатур, г) сопоставление аббревиатуры и обычного слова [см.: Шумарин, Шумарина 2009] и т. п.
3. Художественные приемы, связанные с использованием метаязыковой рефлексии. В контексте данного исследования приемами названы такие способы формулирования метаязыковых суждений и включения их в текст, которые создают для соответствующих отрезков речи образные приращения. Можно выделить три группы приемов, связанных с использованием рефлексивов: 1) способы образной характеристики фактов языка и речи, 2) приемы стилистического использования языковых единиц, в которых актуализируются метаязыковые представления, и 3) техники использования формы метаязыковых суждений как средства металогической речи[117].
Один из частых способов образной характеристики фактов языка / речи – это использование метаязыковой лексики как основы разного рода тропов (метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты и др.)[118]. Так, заслуживают внимания индивидуально-авторские метафоры и сравнения, в которых явления языка / речи являются средством образной характеристики; при этом актуализируются свойства соответствующих феноменов, выступающие в роли «третьего члена» сравнения:
Как существуют безличные предложения: «Холодно», «Жарко», так существуют и безличные истины, не подлежащие обсуждению (Вл. Новиков. Роман с языком); Жизнь прослеживалась, как одна длинная фраза, полная придаточных предложений, лишних определений и отступлений в скобках, – приходилось возвращаться к началу, и смысл проступал, несмотря на перепутанный где-нибудь падеж, окончание, меняющее местами объект и субъект действия (А. Кабаков. Сочинитель).
В равной степени заслуживают внимания и способы образного представление самих фактов языка и речи, выступающих в роли объекта поэтической рефлексии. Лингвистические факты изображаются при помощи эпитетов (1), сравнений (2), метафор, в том числе развёрнутых (3):
(1) Петя: между жизнью и смертью – ба-лан-си-ро-вать будем! Чудесное слово такое, задумчивое. «ба-лан-си-ро-вать» (Е. Клюев. Андерманир штук); (2) Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать (В. Астафьев. Царь-рыба); (3) Но что же пишут твои современники? У писателя Волина ты обнаружил: «…Мне стало предельно ясно…» И на той же странице: «…С беспредельной ясностью Ким ощутил…» Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова громоздились неосязаемые, как тень от пустой бутылки. (С. Довлатов. Заповедник).
В этой сфере можно выделить целый ряд типичных приемов, например, изображение речи через образы еды, жевания, глотания, вкуса:
– Конечно, мы имели и причины так действовать и… тово… полномочия, – начал последний, как-то заминаясь и пережевывая слово за словом <…> (В. Крестовский. Панургово стадо); Картина скорей нетипичная, но такие признаки нередко бывают у нервных, возбудимых субъектов (слово «эпилепсия», просившееся наружу, я, к счастью, проглотила. Не надо спешить с диагнозами) (И. Грекова. В вагоне); <…> слово «шеф» Светлана ухитрилась произнести чрезвычайно вкусно, и с уважением, и с иронией одновременно <…> (С. Лукьяненко. Ночной дозор); На овальном клейме удлиненными буквами выбито SELMER <…> Он прошептал это слово, и во рту от него стало сладко… (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
В подобных примерах тропы носят синкретичный характер: это метонимия, поскольку основанием для переноса является пространственная смежность (речь и еда, в обыденном представлении, локализованы в ротовой полости), но это и метафора, поскольку работа органов речи похожа на работу жевательных и глотательных мышц, а артикуляционные впечатления похожи на вкусовые (синэстетическая метафора).
В целом для изображения слова, речи характерно использование «вещных» метафор, описывающих слово как предмет[119], а процесс речи – как производство материальных предметов. Так, например, в художественных текстах мифологема мата нередко получает образное воплощение. Одна из доминант этого образа – идея интенсивности брани – реализуется, в частности, при помощи метафор, описывающих сквернословие как предметную, материальную субстанцию, которой присваиваются такие физические параметры, как плотность (1), вес (2), органолептические свойства (3), звучание (4), визуальные признаки (5) и т. д:
(1) <…> все покрывала густая – не продыхнешь – матерная ругань и такой же густой, непереносный водочный дух <… > (А. Серафимович. Железный поток); (2) Я сидел, крыл Архипова и Жарикова тяжелым матом. Чуть полегче крыл Митрофанова и Венгеровского, еще легче Курского и Бузова… – весь славный бывший теневой кабинет (Э. Лимонов. Книга воды); (3) <…> тысяч пять матросов, ругающихся самыми солеными матерными ругательствами (А. Серафимович. Железный поток); (4) <…> по звучности – звончей оплеухи, так – прекрасна (А. Ремизов. Кукха); (5) <…> они <…> медленно, со вздохами и тусклым матом втискиваются в его [троллейбуса] трескающиеся от тесноты двери (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени).
В метафорическом представлении брань – это физическое тело, с которым можно производить различные метафорические действия: его можно изготавливать, применяя мастерство и старание (1), его можно соединять с другими материальными объектами (2), его можно даже употреблять в пищу (3):
(1) <…> он не выпускал как попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской ли, злостью (В. Распутин. Прощание с Матёрой); (2) У Шуры мат <…> так прекрасно вплетается в слова (В. Кунин. Кыся); Встряхивая головою, он стал нанизывать матерные слова одно на другое <…> (М. Горький. Мои университеты); (3) Спиртом от него так разит, что с души воротит. Небось чистым матом закусывал? (В. Конецкий. Вчерашние заботы).
Брань как материальное тело, как предмет используется в качестве орудия нападения (1) и орудия труда (2):
(1) Он засадил в нее, как сапогом, длинной матерной фразой, взял подушку и одеяло и пошел досыпать в кабинет (Л. Улицкая. Медея и её дети); (2) <… > конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по сорок человек в вагон <… > (А. Солженицын. В круге первом); Паша, как у нас принято, возился с мотором. Что за мотор без мата? Когда Боб имел свой автобус, тот абсолютно всегда весь, от носа до хвоста, от руля впереди до мотора сзади, через ломаные-переломаные сиденья был, как гирляндами, увешан матюками (В. Попов. Грибники ходят с ножами).
Наблюдения показывают, что существует целый ряд общих схем образного представления языка / речи, которые реализуются в произведениях разных авторов, литературных направлений, эпох и т. п. В то же время отдельные авторы нередко демонстрируют приверженность тем или иным приемам, которые выступают как черты своеобразия индивидуального стиля.
Так, одной из наиболее трудных художественных задач является передача специфики различных паралингвистических компонентов устного дискурса: особенностей мимики, жестикуляции, смеха, оттенков интонации. У Н. Гоголя целый ряд рефлексивов, описывающих невербальные средства общения, имеет семантическую структуру сравнений. В качестве первого компонента сравнения (А) выступает невербальное поведение описываемого персонажа, а в качестве второго компонента (Б) – речевое поведение определенного типажа, о котором читатель может судить на основе личного опыта; ср. примеры из «Мертвых душ»:
(1) Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или по крайней мере отражение всеобщего удовольствия (А). Так бывает на лицах чиновников (Б) во время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест [далее следует развернутое описание];
(2) Бейте его! – кричал он [Ноздрев] таким же голосом (А), как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» – какой-нибудь отчаянный поручик (Б) <…>; (3) – Пусть разбирает, пусть его разбирает! – повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову (А), как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики (Б). <…> – Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только и ждут, чтобы запутать. – Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза (А) опять с тем наслажденьем, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики (Б) и мн. др.
Среди рассматриваемых приемов можно выделить такие, которые «технически» представляют собой метаязыковые операции. К таким приемам относятся различные интерпретации мотивов толкования слов и выражений, лингвистического комментирования языковых единиц, метаязыкового выбора, межъязыкового и внутриязыкового перевода и т. д. Одни из таких приемов неоднократно становились предметом научного анализа (например, поэтическая этимология), другие еще ждут своего исследования. Рассмотрим несколько характерных примеров.
Языковая специфика тех или иных единиц (осознаваемая или ощущаемая автором текста) стимулирует использование стилистических ходов, в которых эксплицируется эта специфика. Так, близкая рядовому носителя языка идея «внутренней пустоты знака» [Соссюр 1990: 152], позволяющей слову расширять и трансформировать свое значение, а говорящему – наполнять слово различным содержанием, получает в контексте художественного текста своеобразную интерпретацию. Прежде всего, комментаторы обращают внимание на существование «пустых» слов[120], для которых не характерна связь с реальными денотатами. Ср.:
Соблазнить?.. да вот тебе еще пустое слово!.. Соблазнить никто и никого не может… Соблазнить?.. что это такое? Я в этом слове ничего не слышу, – оно совсем пустое!.. Меня никто и никогда не соблазнял; я всегда удовлетворял только своим потребностям… Запретят!.. еще пустое слово: запрет ни к чему не ведет (Н. Помяловский. Молотов).
Комментарии к «пустым» словам выступают как яркое средство оценки изображаемого. Так, тема лексических фантомов регулярно возникает в произведениях, критически изображающих советскую действительность. Ср.:
– Разруха, Филипп Филиппович. / – Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это – мираж, дым, фикция <…> Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? <…> Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах (М. Булгаков. Собачье сердце).
Таким образом, «пустыми» выглядят для носителя языка слова, денотат которых существует только «в головах». Кроме того, эстетически переосмысливаются слова, семантическая неопределенность которых делает их способными к бесконечному «расширению». Например:
Вот 13 января 1950 года вышел указ о возврате смертной казни <…> Написано: можно казнить подрывников-диверсантов. Что это значит? Здесь только ли о том, кто толовой шашкой подрывает рельсы? Не написано. «Диверсант» мы знаем давно: кто выпустил недоброкачественную продукцию – тот и диверсант. А кто такой подрывник? Например, если разговорами в трамвае подрывал авторитет правительства? Или замуж вышла за иностранца – разве она не подорвала величия нашей родины?.. (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг)[121].
Наконец, экспрессивным потенциалом обладает способность языкового знака (связанная с «пустотой» и «расширением») обозначать явления, не совсем похожие или совсем не похожие на «идеальный» денотат данного знака. Ср.:
Я только что возвратился с охоты, если можно так назвать бесплодное двух-трехчасовое броженье с собакой по соседним рощам. Только и убил двух воробьев, и то хорошо для начала! Стрелял раз шесть по куликам, но все шесть раз дал промах, причиной, вероятно, моя горячность и отсутствие хладнокровия в то время, когда я вижу птицу (С. Надсон. Дневники).
Смысловая модель метаязыкового комментария, которая в большей или меньшей степени эксплицирована в подобных контекстах, включает следующие суждения: 'Словом N называют объект, который обладает признаком Х', 'Данный объект не обладает признаком Х', 'Говорящий сомневается, что можно (или уверен, что нельзя) называть этот объект словом N', 'Говорящий называет этот объект словом N'. Противоречие между фактом употребления названия N и осознанием условности такого употребления и является в подобных случаях источником экспрессии. Признаки «идеального» денотата могут реализовываться в тексте в виде импликаций (так, из приведенного выше примера ясно, что охота должна обладать признаком 'результативность'), а могут носить характер общих для автора и адресата пресуппозиций. Ср.:
Первое мое путешествие, – если простая поездка по родной губернии может быть этим словом названа, – было тотчас по окончании гимназии, в 1886-ом году (К. Бальмонт. Волга).
Однако признаки «идеального» денотата могут представлять собой достаточно развернутое описание, что делает более наглядным контраст между «идеальным» и «реальным» денотатом – в таких случаях «изобразительность» усиливает экспрессию:
Была у меня когда-то книга – «Герои Малахова кургана». С картинками, конечно. Четвертый бастион, какие-то там редуты, люнеты, апроши. Горы мешков с песком, плетеные, как корзины, туры, смешные на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые, блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма. / Почти девяносто лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках и обороной это называем (В. Некрасов. В окопах Сталинграда).
Еще один прием речевой экспрессии, связанный с представлением о вариативности семантического «наполнения» слова, основан на следующей смысловой модели: 'Говорящий ранее слышал слово N и имел общее (приблизительное, неточное) представление о его значении, но при обстоятельствах Х он узнал точное значение (смысл) этого слова'. Ср.:
Даже во время бомбёжек, – а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово, – он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу (В. Некрасов. В окопах Сталинграда).
В подобных высказываниях отражен типичный сценарий познавательной деятельности языковой личности: услышал (прочитал) незнакомое слово – выяснил его значение. Ср.:
Другую барыню быстро пронесли мимо меня в паланкине. Так вот он, паланкин! Это маленькая повозочка или колясочка, вроде детских, обитая какой-нибудь материей, обыкновенно ситцем или клеенкой. К крышке ее приделана посредине толстая жердь, которую проводники кладут себе на плечи (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
Однако этот типичный «сценарий» используется для оформления своеобразного метонимического переноса: в высказываниях типа И тогда я понял, что значит слово N речь идет не о том, что человек раньше не понимал значения слова, а теперь понял, а о том, что раньше он не сталкивался с самим явлением и, хотя и знал значение слова, не предполагал, какие эмоции (поведение, последствия) способно вызвать непосредственное переживание данного явления; ср.:
Лева тоже был озадачен до изумления, что потасканное слово, уже двести лет кряду до одури рифмующееся с «кровью», и «бровью», и вовсе не новым «вновь», в подоплеке предполагает реальную эмоцию – и эта реальность может иметь к нему, Криворотову, самое прямое отношение и вдруг заявит о себе столь убедительно и очевидно, что никак не получится не заметить – так преобразится все внутри него и снаружи от чувства, выпавшего на его долю нежданно-негаданно, как снег на голову (С. Гандлевский. НРЗБ).
С одной стороны, в таких случаях можно говорить о характерном для обыденного сознания смешении суждения «о языке» и суждения «о мире» (Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелёв). С другой стороны, известно, что «языковой знак приобретает для человека значение лишь тогда, когда человек устанавливает взаимную причинную связь между языковым знаком <…> и некоторым объектом-элементом среды» [Колмогорова 2007: 21]. Таким образом, соотнесение языкового знака и экстралингвистической реалии (то есть собственно усвоение языкового значения и – вместе с ним – языковой картины мира) происходит в полной мере лишь при участии опыта. Следовательно, в высказываниях типа И тогда я понял, что значит слово N (смерть, голод, любовь, беда и т. п.) достаточно достоверно отражен процесс освоения языковой картины мира через интериоризацию, субъективное переживание содержания слова. Акцентируя внимание на деталях «внутренней жизни» языковой личности, подобные рефлексивы выступают в эстетически организованном тексте как средство художественной выразительности.
Из приведенных примеров видно, что мотив «гибкости» плана содержания слова может реализовываться в виде целого ряда стилистических приемов, выполняющих изобразительные и экспрессивные функции.
Особый прием, в котором предметом эстетического изображения является непосредственно метаязыковое «переключение», – референциальная игра [Шмелёв 1996: 173], которая представляет собой маскировку суждений «о языке» под суждения «о мире» и наоборот [Булыгина, Шмелёв 1999: 150–151]. Подобный прием, как показывают наблюдения, достаточно характерен для художественных текстов. Так, повышенный интерес к Чичикову со стороны дам автор объясняет влиянием слова миллионщик:
До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик», – не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, – словом, на всех действует (Н. Гоголь. Мертвые души).
Очевидно, что не «звук слова» оказывает воздействие на людей, а именно его содержание. В данном случае маскировка суждения «о мире» под суждения «о языке» служит средством авторской иронии. В других случаях средством комического является подмена суждения «о языке» суждением «о мире»:
И всякая хозяйка дома, получившая приличное воспитание (неприличное, впрочем, кажется, никому и не дается), справится с этим делом без особого труда (Н. Тэффи. Предпраздничное); Почему можно праздновать труса, праздновать лентяя и нельзя праздновать дурака? / Повезло трусу и лентяю, их можно праздновать. Хотя какой это праздник? Всю жизнь дрожать или лежнем лежать – уж лучше дурака валять, раз уж его невозможно праздновать (Ф. Кривин. Хвост павлина).
Используемые в художественных текстах «метаязыковые» приемы связаны с соответствующими мотивами и представлениями о языке и речи [см., напр.: Шумарина 2009 в; 2010 а]. Существующие в метаязыковом сознании носителя языка представления о том или ином факте языка / речи реализуются в тексте в виде мотивов, а каждый мотив, в свою очередь, располагает собственным репертуаром приемов, служащих для осуществления различных эстетических функций (см. схему 4 на с. 217).
Так, например, в сознании носителя языка существует представление об аббревиатуре как о слове с непрозрачной внутренней формой, которое нуждается в расшифровке. Это представление реализуется в художественных текстах в виде регулярного мотива «расшифровка аббревиатуры». Этот мотив воплощается в виде ряда художественных приемов: «прямая» расшифровка реально существующих аббревиатур (1), неконвенциональная расшифровка аббревиатур (2), множественная расшифровка (3), расшифровка псевдоаббревиатур (4):
(1) – А что такое ПШ? – О-о, это серьёзное дело, – ответил Каландарашвили, возвращаясь. – С этими литерами вы не шутите – это подозрение в шпионаже (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); (2) Я открою вам криптограмму, разгаданную избранными: СССР – SSSR – Sancta, Sancta, Sancta Russia – трижды святая Россия (С. Кржижановский. Возвращение Мюнхгаузена); (3) Что может быть красивее сочетания слов «приемник воздушного давления». И сколь загадочно и двусмысленно звучит слово из трех букв «ПВД». То ли это парашютно-воздушная дивизия, то ли прямоточно-вытяжной двигатель, то ли паводок, то ли повод… (В. Тучков. Русская книга военных); (4) «ЧУШь – Чрезвычайное Указание Шефа – ЧУШь», – шутят, как один, наши смелые кандидаты. (А. Битов. Бездельник).
Схема 4
Реализация метаязыковых представлений в художественном тексте
Каждый прием, как уже говорилось, выполняет определенные художественные функции. Так, прием расшифровки псевдоаббревиатур может выполнять игровую функцию (1), мифотворческую (2), характерологическую (3), пародийную (4) и другие:
(1) – «Девичий стан, шелками схваченный»! – чуть не визжал от восторга Бражников. – Шелка – члены так называемой Школьной Единой Литературно-Критической Ассоциации, страшные бандиты из совета учащихся, нападающие на женщин по ночам. Женщины, схваченные шелками, никогда не возвращались… (Д. Быков. Орфография); (2) – <…>А ты не знаешь случайно, откуда это слово взялось – «лэвэ»? Мои чечены говорят, что его и на Аравийском полуострове понимают. Даже в английском что-то похожее есть… / – Случайно знаю, – ответил Морковин. – Это от латинских букв «L» и «V». Аббревиатура liberal values[122] (В. Пелевин. Generation «П»); (3) Ну что за странная фамилия? Да и фамилия ли?.. Похоже на аббревиатуру: «ГОСТ… ГАБТ… ГАФТ…» Ломаю голову над приемлемой расшифровкой… ГЛАВНЫЙ АКТЕР ФАНТАСМАГОРИЧЕСКОГО ТЕАТРА… ГНЕВНЫЙ АВТОР ФИЛОСОФСКИХ ТИРАД… (Г. Горин. Иронические мемуары); (4) – <…>Вредительства, скажу тебе, Иван Тимофеевич, у нас полно. Вот, к примеру, ты куришь папироски, вот эти «Дели», а в них тоже вредительство. <…> Вот можешь ты мне расшифровать слово «Дели»? / – Чего его расшифровывать? «Дели» значит Дели. Город есть такой в Индии. / – Эх, вздохнул Леша, – а еще грамотный. Да, если хочешь знать, по буквам «Дели» – значит Долой Единый Ленинский Интернационал (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).
4. Функции рефлексивов в художественном тексте. Рефлексивы в художественном тексте выполняют конструктивные и художественные функции. Конструктивные функции рефлексивов проявляются в их соотношении с эстетической доминантой и эстетическими оппозициями, в их связи с сильными позициями текста. Художественные (изобразительно-выразительные) функции рефлексивов заключаются в их использовании для изображения, характеристики объекта (характерологическая функция) или для выражения авторской модальности, отношения к изображаемому (эмоционально-экспрессивная функция). Посвятим этому вопросу следующий параграф.
3.2. Рефлексивы – ключи к анализу художественного текста
Функции рефлексивов выявляются в процессе лингвистического / филологического анализа художественного текста. Уже отмечалось, что метаязыковые комментарии в тексте практически всегда находятся в позиции выдвижения, выражают важные для произведения идеи и выполняют разнообразные художественные функции. Поэтому метаязыковые комментарии можно рассматривать в качестве «подсказок» для читателя – своеобразных «ключей» для интерпретации текста. Проиллюстрируем данное положение несколькими примерами.
Так, образная система романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» строится на целом ряде противопоставлений ключевых образов, при этом каждый из основных персонажей выписан ярко, наделен не только типологическими, но и индивидуальными чертами. Указанные оппозиции создаются при помощи различных приемов, в том числе – при помощи метаязыковых комментариев, которые высказывают персонажи и автор. Так, заслуживает внимания эпизод, в котором братья Кирсановы и Аркадий обсуждают содержание понятия «нигилист»:
– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает? / – Скажи: который ничего не уважает, – подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло. / – Который ко всему относится с критической точки зрения, – заметил Аркадий.
Каждое из предложенных толкований слова нигилист представляет собой реплику персонажа, а вместе они образуют диалогическое единство, и в этом диалоге четко обозначены различия в характерах действующих лиц. Деликатный Николай Петрович, который стремится избегать конфликтных ситуаций, высказывает робкое предположение на основе этимологии слова: человек, который ничего не признаёт. Павел Петрович, более всего ценящий традиции и приличия и видящий в нигилизме угрозу для них, высказывается желчно и категорично: который ничего не уважает. Аркадий, стремящийся к объективности, предлагает эмоционально-нейтральный вариант: человек, который ко всему относится с критической точки зрения.
Несовпадение взглядов, характеров, жизненных принципов Базарова и П. П. Кирсанова проявляется в выборе ими некоторых слов, на что автор обращает особое внимание:
– Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части. /
– Да, немцы в этом наши учители, – небрежно отвечал Базаров. / Слово германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.
Павел Петрович не просто говорит, а выбирает слова, придавая этому выбору определенный знаковый смысл (который, впрочем, не всегда ясен его собеседникам, и читатель узнает об этом только из авторского комментария). В этом отношении показательно следующее замечание:
– Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни – эфто, другие – эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, – а в аристократе эти чувства развиты, – нет никакого прочного основания общественному… bien public, общественному зданию.
Автор здесь употребляет выражения остаток преданий, тогдашние тузы, подчеркивая, что эта причуда, как и весь Павел Кирсанов, – пережиток старины, который даже не вполне понятен его собеседникам.
В романе «Отцы и дети» метаязыковые комментарии акцентируют внимание читателя на особенностях характера и мировоззрения персонажей. Здесь можно говорить о характерологической функции метаязыковых комментариев. В других случаях такие комментарии могут использоваться и для выражения авторского отношения к изображаемому. Ср. описание детских впечатлений от слова, которое повлияло на восприятие стихотворения:
«Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка – значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта – голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил (М. Цветаева. Мой Пушкин).
В романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» метаязыковые комментарии являются важным средством характеристики героев. Например, в речи Максим Максимыча регулярно используются горские словечки:
(1) «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – говорил я ему, – яман будет твоя башка!» [яман – «плохо»]; (2). я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком и др.
Максим Максимыч пытается переводить эти слова на русский язык и старается объяснить непереводимые понятия:
(1) «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», – отвечал он, взяв ее за руку; (2) <…> потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной. забыл, как по-ихнему. ну, да вроде нашей балалайки.
Во всем этом видится проявление не только наблюдательности, но и толерантности штабс-капитана, которая позволила ему снискать уважение у местного населения и о которой рассуждает автор:
Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие. ясного здравого смысла.
Это важная деталь в раскрытии образа Максим Максимыча. Иной характер героя рисуют толкования слов, к которым прибегает Печорин:
(1). честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти; (2) А что такое счастие? Насыщенная гордость и т. п.
В этих афористических по форме высказываниях виден человек холодный, гордый, избегающий человеческих привязанностей.
Дополнительным актуализатором для метаязыкового комментария является включение его в цепочку повторов. В романе читатель дважды встречается с пояснениями к слову друг. В предисловии к «Журналу Печорина» автор-рассказчик пишет:
…я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.
Выделенные слова – это части «распыленного» в тексте комментария: В семантике слова друг выделяются и актуализируются компоненты 'коварство', 'ненависть', 'недоброжелательность' и т. п. Безусловно, здесь следует вести речь не об основном лексическом значении слова, а о неких периферийных и ассоциативных элементах семантики (коннотациях), которые существуют в языковом сознании человека. Итак, друг – это тот, кто коварен и нескромен, маскирует дружбой ненависть, желает несчастья тому, с кем дружен. Затем отрицательные коннотации слова друг актуализируются и в речи Печорина:
Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги.
В отношении Печорина к дружбе проявляется отчасти и личность автора, доминантой творчества которого стал мотив трагического одиночества. Сам Печорин поясняет свою боязнь близких отношений – любви, интимной дружбы – следующим образом: Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Искренние чувства кажутся герою небезопасными, они простительны лишь пылкой юности, о чем свидетельствует следующее толкование:
Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти <…> Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря.
А для зрелого, охладевшего рассудка счастье – это насыщенная гордость. Здесь снова встречаемся с актуализацией периферийных компонентов значения, которые характерны для индивидуального языкового сознания и выступают как средство выражения авторской позиции.
Интересны в этом отношении и авторские примечания, которые не включаются в основной текст, а даются внизу страницы (в виде сноски) с указанием «Примечание М. Ю. Лермонтова». В романе в такой сноске объясняется слово кунак, используемое Максим Максимычем: Кунак значит – приятель (Прим. М.Ю. Лермонтова). Лермонтов переводит слово кунак как «приятель», но, как правило, в словарях это слово объясняется как «друг, приятель» [см., напр.: БТС: 480]. Почему Лермонтов «пропустил» синоним друг и остановился на приятеле? Не потому ли, что в его собственном представлении слово друг имеет отрицательные коннотации?
Как известно, роман «Герой нашего времени» имеет сложную субъектную организацию, в нем звучат голоса трех повествователей: 1) главного героя – Печорина, 2) повествующего о нем рассказчика (который также выступает в роли участника событий, изображается как действующее лицо романа) и, наконец, 3) самого автора, реально существующего писателя М. Ю. Лермонтова. Весьма показательно, что индивидуальная оценка и субъективное понимание важного для данного текста слова друг и самого понятия «дружба» проявляются с позиции каждого из субъектов – то явно и развернуто (в речи персонажа и рассказчика), то неявно, в виде выбора средства выражения (в речи реального автора). В данном случае анализ метаязыковых оценок позволяет глубже понять не только замысел произведения, но и особенности мировоззрения автора.
Метаязыковая рефлексия в произведениях художественной литературы может подвергаться анализу в различных аспектах. Можно выделить три основных направления такого изучения в контексте филологического анализа текста.
Первое направление – «от рефлексива» – предполагает исследование метаязыковых контекстов определенного тематического или структурного типа в одном или нескольких произведениях: например, изучение металексических комментариев [Николина 1986; 1997; Андрусенко 2008; Шумарина 2009 б и т. п.], или авторских примечаний, метатекстовых «вкраплений» [Фатина 1997; Кузьмина 2008; 2009], или графических рефлексивов [Артемова 2002; Ахметова 2006; Нечаева 2005 и др.] и т. п. Цель такого анализа – разработка структурно-семантической типологии и выявление функциональной специфики рефлексивов данного типа. Образец такого анализа на примере метатекста представлен, в частности, в нашей статье «Метатекст в прозе В. П. Некрасова» [Шумарина 2011].
Второе направление – «от текста» – предполагает исследование метаязыковых комментариев в аспекте целостного или выборочного анализа конкретного произведения [Зубова 2001; Шумарина 2008 а; 2009 а и др.]. Такой анализ выявляет роль рефлексивов в создании образной системы произведения, в реализации авторского замысла.
Третье направление – «от темы» – предполагает описание роли метаязыковых комментариев в создании определенного художественного образа или в реализации какого-либо мотива в одном или нескольких произведениях [Пихурова 2005; Попкова 2006; Черняк 2006; Шумарина 2008 б; Судаков 2010 и др.]. Как правило, такой анализ предполагает выявление содержательной типологии метаязыковых оценок и их функциональной специфики.
Далее покажем, как может осуществляться описание функций рефлексивов отдельной тематической разновидности в аспекте лингвистического анализа текста – рассмотрим речевую рефлексию в «Скучной истории» А. П. Чехова.
Особая роль метаречевых наблюдений в повести обусловлена её художественными задачами. Структура повествования организована точкой зрения рассказчика – известного учёного-медика. Профессору Николаю Степановичу шестьдесят два года, он неизлечимо болен и ощущает стремительное старение, которое одновременно тяжело переживает как человек и пытается беспристрастно оценивать как учёный. Большой жизненный опыт, привычка к напряжённой умственной работе, способность видеть в явлении наиболее существенное, выработанная систематическими научными занятиями, – всё это делает наблюдения Николая Степановича интересными и достоверными, даваемые им характеристики метки и остроумны. Свойства людей, с которыми взаимодействует профессор, раскрываются прежде всего в общении, поэтому рефлексия о речевом поведении выступает в повести как важное изобразительное и экспрессивное средство.
Объектами метаречевых комментариев рассказчика являются а) типичное коммуникативное поведение (собственно речевая рефлексия), б) отдельные речевые жанры (жанровая рефлексия), в) правила эффективного общения (риторическая рефлексия).
Рефлексия о типичном речевом поведении – постоянный мотив повествования. Рассказчик то делает краткие, но в высшей степени выразительные замечания об особенностях речи (Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала), то прибегает к развёрнутым описаниям. Ср., например, детализацию вербальных и невербальных составляющих «вежливого» поведения:
Это товарищ пришёл поговорить о деле. <…> – Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова! / Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеёмся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной вроде: «вы изволили справедливо заметить», или «как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно.
Здесь автор воспользовался так называемым приёмом «остранения»: позиция наблюдателя позволяет рассказчику посмотреть на собственные действия со стороны; отвлекаясь от «непрямого» коммуникативного смысла жестов и фраз, профессор обнаруживает в них немало комического. Данный эпизод не только фиксирует стандарты речевого поведения (в частности – средства коммуникативной категории вежливости), но и служит раскрытию образа главного героя – способного иронизировать над собой, обладающего острым критическим умом.
Другой объект рефлексии – речевое поведение коммуникантов в типовой ситуации. Так, беседы с отстающими студентами похожи одна на другую и в значительной мере предсказуемы:
Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моём, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.
Рассказчик не только фиксирует типичные особенности речевой деятельности, но и пытается интерпретировать их с точки зрения психологических особенностей говорящего. Ср. своеобразные «геронтолингвистические»[123] интроспекции доктора:
Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательской способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутьё к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений – то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее моё напряжение. За научной статьёй я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Ещё одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.
Интересны в аспекте психолингвистики и размышления рассказчика о г е н д е р н ы х аспектах речевой деятельности. Так, проявление «женского» и «мужского» в письмах своей воспитанницы Николай Степанович связывает не только с тематикой, но и с речевым оформлением текстов. Несоблюдение орфографических и пунктуационных норм профессор оценивает как проявление непосредственности, доверчивости и «женскости». Но вот в жизни Кати появляется возлюбленный:
Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки и сильно запахло от них мужчиною.
Таким образом, рефлексия рассказчика направлена на фиксацию и осмысление речевого поведения – как типичного для конкретной личности, так и свойственного той или иной социальной группе или проявляющегося в условиях стандартной коммуникативной ситуации.
Как говорилось выше, рассказчик демонстрирует примеры жанр о в о й рефлексии. Для чеховских текстов вообще жанровая рефлексия является достаточно регулярной и, возможно, составляет некоторое своеобразие чеховского стиля. Уже в произведениях 1883–1884 гг. начинающий писатель обращался к разнообразным жанровым формам, экспериментируя с различными способами их использования. Литературные, фольклорные и речевые жанры в ранних чеховских рассказах служили предметом и м и т а-ц и и («Двадцать шесть. Выписки из дневника», «Наивный леший. Сказка», «Библиография» и др.), пар о ди р о в ан ия («Репка. Перевод с детского», «Роман адвоката. Протокол», «Отвергнутая любовь. Перевод с испанского», «Современные молитвы» и т. п.), а также использовались для создания своеобразного стилистического эффекта, который возникал из-за н е с о о тв е тс тв ия содержания текста нормам указанного в подзаголовке жанра («Бенефис соловья. Рецензия», «Съезд естествоиспытателей в Филадельфии. Статья научного содержания»).
В «Скучной истории» жанровая рефлексия вплетена в повествование и служит инструментом характеристики персонажей. Так, рассказчик описывает специфический жанр, который можно было бы назвать «корпоративным фольклором». Во многих учреждениях и организациях, имеющих длительную историю, бытуют своего рода предания, которые повествуют о заметных персонах и знаменательных событиях этой истории. Хранителем таких легенд в университете является швейцар, который, в представлении профессора, не просто слуга – он часть академической традиции:
Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших всё, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого. Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.
Автор вкладывает в уста главного героя рассуждения о существенных жанровых признаках «корпоративных легенд»: а) носителями данного фольклора выступают «старожилы» учреждения; б) содержание легенд всегда поучительно и нравственно, в них «торжествует добро»; в) часто содержание преданий не соответствует реальным фактам, но г) в целом подобный фольклор всегда нацелен на создание положительного образа «корпорации». Профессор, хотя и иронизирует по поводу пристрастия швейцара к «легендам и небылицам», всё же признаёт, что в них сохраняются лучшие традиции и славные имена.
Рассказчик дважды упоминает такой жанр научной речи, как диссертация. На просьбу молодого докторанта дать ему тему исследования профессор отвечает:
– Очень рад быть полезным, коллега, <…> но давайте сначала споёмся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества.
Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе.
В этой отповеди Николай Степанович выходит за пределы собственно филологического определения и касается «экстралингвистических» признаков жанра диссертации, которые, тем не менее, являются частью общего представления о данном жанре в сознании носителей языка: диссертация – это плод самостоятельной научной работы.
Особый случай жанровой рефлексии – использование «имени жанра» в составе тропа, например, в составе сравнения. Жанр диссертации актуален для рассказчика, данное понятие находится у него в зоне ближайших ассоциативных реакций, поэтому не случайно профессор в своих записках еще раз упоминает диссертацию:
Пётр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причём говорит не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти.
Упоминание жанра служит средством изображения другой реалии – речевой манеры прозектора, однако рассказчик, вербализуя «третий член сравнения», описывает и важные жанровые признаки диссертации (вернее, её защиты): а) обстоятельность изложения, б) установка на конкретность и точность приводимых фактов, в) наличие ссылок на авторитетное мнение, г) следование нормам академического этикета (не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти).
Жанровая рефлексия рассказчика служит средством характеристики не только его собеседников, но и самого главного героя – преданного науке и академическим традициям, умного, наблюдательного, ироничного.
Рассказчик прибегает к риторической рефлексии. Так, осуждая речевую манеру коллеги, Николай Степанович замечает:
Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть сформулировано с возможною определённостью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.
Здесь герой демонстрирует собственный «риторический идеал», сформированный не без влияния академической традиции. По его мнению, обвинение отличается от злословия конкретностью и аргументированностью. Недопустимыми аргументами признаются такие «общие места», как ссылки на измельчание и идеализация прошлого. Также обращает на себя внимание оговорка даже если оно высказывается в дамском обществе – фактически это замечание о факторе адресата: особенности адресата, безусловно, влияют на отбор коммуникативных средств и организацию речи. Частица даже весьма показательна: видимо, по ощущению профессора, дама как адресат не требует обязательной определённости, точности и аргументированности речевого построения.
Метаречевые комментарии в художественном тексте могут выполнять разнообразные текстообразующие и стилистические функции, выступают как инструмент создания художественного образа. Выше отмечалась изобразительная роль подобных «зарисовок» в «Скучной истории». Обратим внимание и на текстообразующую роль речевой рефлексии в повести.
Наблюдения доктора за коммуникативным поведением жены, дочери, её жениха, прозектора Петра Игнатьевича и др. сопровождаются негативной оценкой этого поведения, рассказчик противопоставляет себя этим лицам. Настойчивое повторение подобных эпизодов и соответствующих оценок формирует определённую смысловую доминанту – профессор словно сознательно отстраняется от всей сложности и многообразия жизни, отказываясь вначале от того, что кажется неприятным, а затем и от всего, что требует эмоционального участия, живого действенного сострадания (ср., например, эпизод последней встречи с Катей, когда на все призывы девушки к откровенному разговору доктор снова и снова повторяет своё приглашение пойти завтракать). Постепенно читатель понимает, что позиция наблюдателя, которую занимает герой по «обязанности» рассказчика, в какой-то мере символична: в своих поступках Николай Степанович всё время колеблется между ролями наблюдателя и участника и всё чаще и чаще предпочитает оценивать, нежели действовать.
Старость, осознаваемая близость смерти служат поводом для постоянной рефлексии; уже не реальность, а напряжённая интроспекция становится подлинной жизнью героя. На протяжении повести меняется и характер «зарисовок» старого профессора, в них всё меньше оригинальности и остроумия; рассказчик признаётся, что стал склонен к злословию, которое раньше осуждал. Таким образом, метаречевые комментарии в повести «Скучная история», передавая динамику состояния главного героя, служат средством постепенного раскрытия характера.