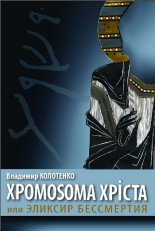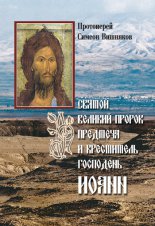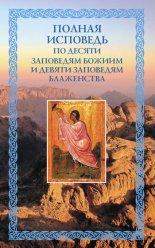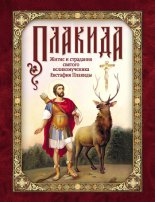Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы Шумарина Марина

А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский отмечают, что целью языковой игры «является не передача информации, а затруднение понимания, приводящее – среди прочего – к концентрации внимания участников ситуации общения на самом языковом выражении, на границах и возможностях языкового воплощения смысла» [Василий Буй 1995: 299; выделено нами – М. Ш.]. Поэтому контексты, в которых реализованы те или иные приемы языковой игры, безусловно, могут интерпретироваться как рефлексивы, в том числе – рефлексивы с нулевыми метаоператорами, например, образование окказионализмов (1), отказ от традиционного графического (орфографического, пунктуационного) оформления текста (2) и т. п.:
(1) <…> проголодавшиеся девятидесятники даже не замечали, на чем им подавались вечные ценности – русская и зарубежная классика, <…>, православная и кривославная религия, а также дзен-буддизм, и последние достижения модернистской и постмодернистской западной научной мысли <…> (Е. Клюев. Андерманир штук); (2) кем быть? кем быть? мучительно говорил подросток семен. сверкнув лопастью в бледном свете зашедшего солнца валерий николаевич нахмурился давая понять всем остальным что валериан всеволодович допустил непростительную глупость <…> (В. Эрль. Август 1914-го).
Метаязыковые импликации в подобных случаях могут быть сформулированы следующим образом: 'Такого слова (выражения) не существует, оно придумано специально для данного случая, так как наилучшим способом передает нужное значение' или 'Это нарушение правила, но оно позволяет точнее выразить мысль'. Автор здесь, по выражению Б. Ю. Нормана, «как бы подмигивает нам: «Конечно, я знаю, что это неправильно, что так сказать нельзя, но мы-то люди взрослые и независимые, к тому же принадлежащие к одному кругу, а потому можем позволить себе вольность и сумеем по достоинству ее оценить» [Норман 2006: 9].
Наконец, последняя разновидность рефлексивов с нулевыми метаоператорами – это разнообразные подражания (воспроизведение того или иного речевого стандарта). Говоря о стилистической интерпретации «бытовых» жанров в художественной речи, В. В. Виноградов перечислил и основные способы такой интерпретации: «… новелла Бабеля «Соль» стилизует письмо «солдата революции» к «товарищу редактору»; новелла того же автора «Письмо» в авторской рамке перелагает письмо мальчика из экспедиции Курдюкова к «любезной маме Евдокии Федоровне». «Послание Замутия, епископа обезьянского» Евг. Замятина комически имитирует епархиальные реляции архиерея к пастве. «Записная тетрадь старого москвича» у Горбунова пародирует записную книжку бюрократа первой четверти XIX в.» [Виноградов 1980: 241; выделено нами – М. Ш.]. Таким образом, чужая речь (содержание, текст, слог, стиль) может воссоздаваться разными способами: а) переложение (пересказ), б) имитация, в) стилизация, г) пародирование. В основе такого воссоздания лежит рефлексия характерных черт конкретного текста или некоего «шаблона», по которому строится соответствующий тип текста.
При переложении (пересказе) внимание говорящего сосредоточено на содержании чужого текста, при этом импликации метаязыкового плана могут быть связаны с оценкой разных аспектов пересказа (фактическая точность, соответствие стилю оригинала, следование интенциям первичного текста и т. п.). Ср. попытку изложения израильской школьницей – дочерью эмигрантов из России – рассказа Л. Толстого «Сливовая косточка» (в интерпретации девочки – «Сливная костячка»). В этом случае объектом комического изображения служит полное непонимание смысла текста при более или менее приближенном к оригиналу воспроизведении фабулы:
Она долго думает, морщит лоб, ковыряет болячку на руке, выворачивая локоть, наконец говорит: / – В общем, там подняли хай из-за фруктов… Представляешь, считали, кто сколько съел! И папа сказал детям: «Дети мои! Или вы съели эту сливу? Или вы хотите через это хорошо получить? Не говоря уже об совсем умереть?…» (Д. Рубина. «…Их бин нервосо!..»).
Если объектом пересказа являются конкретные речевые произведения, то объектом имитации, стилизации и пародирования служат схемы, нормы, шаблоны, по которым создаются различные виды текстов [см., напр.: Николина 2004 б]. Имитация – это создание текста определенной жанровой принадлежности, включаемого в произведение как субтекст, не принадлежащий речевой партии автора: например, письмо Ваньки Жукова дедушке (А. Чехов. Ванька), вывески, рекламные объявления, газетные заметки советского города конца 1920-х гг. (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев) и т. п. Имитация – это создание вымышленного дискурса, который осуществляется в вымышленном мире художественного произведения, хотя и по законам, копирующим законы реального мира. При имитации имеет место имплицитное метаязыковое суждение типа 'Воспроизведенные здесь черты жанра являются для него типичными'.
Стилизация – это особый тип авторской речи, ориентированной на воспроизведение определенного литературного стиля и несколько отчужденный от собственного стиля автора [Долинин 1972: 419]. Стилизация осуществляется в рамках речевой партии автора и соотносится с реальным дискурсом – коммуникацией между автором и читателем. Поскольку «всякая подлинная стилизация. есть художественное изображение чужого стиля» [Бахтин 1975: 174], то содержанием метаязыковых импликаций при стилизации также является указание на узнаваемые черты изображаемого стиля.
При имитации и стилизации речевые шаблоны никогда не воспроизводятся с фотографической точностью, они скорее подвергаются «моделированию» [Гинзбург 1979], автор «точечно» обозначает наиболее яркие признаки жанра, стиля и т. п.
Пародирование отчасти сходно с имитацией и стилизацией, так как характеризуется отображением наиболее узнаваемых черт пародируемой речи [Дземидок 1974: 68; Бахтин 1975: 175–176; Лихачев 1977: 259 и мн. др.]. Отличается пародия установкой на комическую интерпретацию жанра, стиля, текста [Бахтин 1979 а: 258 и др.], поэтому пародируемые признаки часто подвергаются гротескному преувеличению (которое также служит сигналом метаязыковой рефлексии). Так, в повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» есть своего рода приложение – якобы комментарий участника описанных событий (не самого повествователя) к тексту произведения. В этот комментарий включён словарь, который объясняет с «материалистических» позиций реалии «магического» мира. Некоторые словарные статьи несут в себе пародийный элемент: Вампир – см. Вурдалак. <…> Вурдалак – см. Упырь. И только слову упырь наконец дается объяснение. Для «серьёзного» словаря такие последовательные отсылки были бы недостатком, ошибкой составителя, поскольку отсылка должна даваться именно к той статье, где содержится толкование (Вампир – см. Упырь), однако само наличие словарных статей подобного типа – безусловная лексикографическая реальность. Пародия позволяет слегка утрировать эту реалию.
Таким образом, анализ рефлексивов в художественных текстах позволяет сделать вывод о том, что рефлексия о языке / речи как регулярная операция обыденного метаязыкового сознания и как функция языка располагает целой системой средств выражения, которые с разной степенью вербализации эксплицируют метаязыковые суждения.
Глава II
«Наивная» лингвистика как система представлений и как технология
Одно слово, а сколько в нем всякой великой ерунды!
А. Покровский
2.1. Взгляд на язык через призму обыденного сознания
Художественное произведение индивидуально и реализует личные представления и вкусы автора, в том числе языковые и метаязыковые. В то же время писатель является частью языкового коллектива, и его сознание – это часть культурного самосознания этноса, поэтому изучение метаязыковых суждений, вербализованных в художественных текстах, позволяет делать выводы о некоторых общих закономерностях метаязыковой рефлексии, свойственной рядовому носителю языка. Кроме того, обыденное сознание в литературном произведении может являться предметом непосредственного изображения – в тех случаях, когда метаязыковые суждения служат средством речевой характеристики обывателя (ср. примеры на с. 109).
Как показывает анализ рефлексивов в художественных текстах, обыденное метаязыковое сознание регулярно обращается к тем же единицам, конструкциям, свойствам языковых единиц, закономерностям речевого общения, которые находятся в фокусе внимания науки о языке. Так, в метаязыковых суждениях обсуждается феномен языка, выдвигаются гипотезы о его происхождении и факторах развития, высказываются мнения, соотносимые с проблематикой социолингвистики, психолингвистики, когнитивной лингвистики, лингвокультуроведения. «Наивные лингвисты» активно комментируют единицы языка, явления орфографии и пунктуации.
Хотя в основных чертах «конфигурация» обыденного метаязыкового сознания совпадает со структурой научного знания о языке, можно отметить и зоны принципиального несовпадения.
Во-первых, внимание к тем же фактам языка/речи, которые рассматривает и научное языкознание, не обеспечивает автоматически научной достоверности метаязыковых суждений «естественного лингвиста». Высказываемые писателями и персонажами оценки могут по-разному соотноситься с научным знанием: они могут быть точными и вполне корректными, но могут представлять собой искреннее заблуждение и даже намеренно сконструированный лингвистический миф. Для художественной речи, как уже отмечалось, важна чаще всего не научная правильность метаязыкового комментария, а его эстетическая мотивированность. Но и в обыденном общении оказывается важной эстетическая сторона речи. Проявления такой «эстетизации» речевого обихода могут выглядеть как мифотворчество или как языковая игра, заключающаяся в «перенаправлении» системно-языковых связей, например, установление новых отношений словообразовательной мотивации:
Остальные <… > могут сбегать в столовку на углу и скушать биточки, которые какой-то остряк так и назвал – уголовными (М. Мишин. Добро пожаловать, хозяин!).
Во-вторых, обращает на себя внимание диалектическое единство системности и асистемности изучаемого объекта: если коллективное метаязыковое сознание демонстрирует признаки системности, то для отдельной языковой личности нелингвиста характерно заполнение этой области сознания не системой взаимосвязанных фактов, а отдельными «маячками», некими ключевыми словами, которые образуют вокруг себя ассоциативные поля, в большей или меньшей (или в минимальной) степени соответствующие знаниям, полученным в период систематического обучения. При этом нечеткость метаязыковых представлений у «стихийного лингвиста» сочетается с высоким аксиологическим статусом как самого языка, так и знания о нем; ср.:
Я через полуоткрытую дверь каюты я слышу, как начштаба отчитывает молодого писаря. / – Слушай меня, Водоплясов! В русском языке есть слова. Их там много. Среди них попадаются глаголы и существительные. А есть прилагательные, понимаешь? А? И есть наречия, числительные, местоимения. Они существуют отдельно. <…> А когда их, эти самые слова, составляют вместе, получаются предложения, где есть сказуемые, подлежащие и прочая светотень. И все это русский язык. Это наш с тобой язык. У нас великий язык, Водоплясов! В нем переставь местами сказуемое и подлежащее – и появится интонация. Вот смотри: / «Наша Маша горько плачет» и «Плачет Маша горько… наша». А? Это же поэзия <…> А есть предложение в одно только слово. Смотри: «Вечереет. Моросит. Потемнело». Одно слово, а сколько в нем всякой великой ерунды! Ты чувствуешь? (А. Покровский. Мироощущение).
Однако интересны не только зоны несовпадения, но и точки соприкосновения «наивного» и научного осмысления языка. Выше отмечалось, что обыденное метаязыковое сознание, хотя и противопоставляется в гносеологическом аспекте научному знанию, но онтологически не изолировано от последнего. «Наивная» лингвистика, безусловно, «подпитывается» фактами науки – и в условиях получения образования, когда метаязыковая рефлексия личности формируется целенаправленно, и под влиянием популярных лингвистических идей, которые распространяются за пределы профессионального дискурса, переживая неизбежные трансформации. Так, в начале – середине XIX в. многие писатели высказывали соображения, навеянные популярными тогда идеями В. Гумбольдта о языке как духе народа, о так называемой «внутренней форме языка», которая предопределяет видение мира тем или иным этносом. Ср.:
Он очень здраво судил и об изучении языков, называя их гранью слова, ума, воображения, под которою та же самая вещь представляется в тысяче различных видах <…> и не в одной литературе, даже в философическом отношении, изучение языков полезно. Для ума наблюдательного вся история народа, всё развитие ума начертано в его языке, и часто простое слово, которое один человек употребляет в составлении речи, как наборщик свинцовую букву, даёт ему новую идею, внушает счастливое сравнение, оправдывает историческую догадку (А. Бестужев-Марлинский. Следствие вечера на Кавказских водах).
Интересны примеры, которые иллюстрируют «параллельное» осмысление лингвистической проблемы научным и обыденным метаязыковым сознанием. Так, внимание и ученых, и писателей привлекают лингвоспецифичные слова [см.: Зализняк, Левонтина, Шмелёв 2005: 10], к которым исследователи относят, среди прочих, слово ничего. Оно, по мнению лингвистов, ассоциируется в западноевропейской культуре именно с русским менталитетом. В европейской литературе существует целый ряд художественных произведений о русских, в названиях которых слово ничего встречается без перевода, в латинской транскрипции – Nichevo [Пфандль 2004: 92]. По мнению лингвиста, слово ничего – это «средство, к которому обращается простой русский в духовном и телесном страдании, в нищете и в беде» [Там же: 93]. Таким образом, слово ничего — как лингвоспецифичное, в интерпретации ученых – связано с идеей самоутешения, поиска моральной опоры в страдании. В. Гиляровский в очерке «Ничего» представляет «литературный портрет» данного слова, и в этом портрете акценты расставлены иначе: слово ничего – это не просто опора для страждущего, это – в понимании автора – свидетельство духовной силы народа:
Да, это великое слово, в нем неколебимость России, в нем могучая сила русского народа, испытавшего и вынесшего больше, чем всякий другой народ. Просмотрите историю, начиная с татарского ига, припомните, что вынесла Россия, что вытерпел народ русский, – и чем больше было испытаний, тем более крепла и развивалась страна. Только могучему организму – все нипочем! <…> Слабый будет плакать, жаловаться и гибнуть там, где сильный покойно скажет: – Ничего!
Часто обыденные суждения о языковых фактах совпадают с фактами научной рефлексии на более ранних этапах развития лингвистики. Так, суждения «естественного лингвиста», во-первых, о соответствии названия денотату, а во-вторых, об адекватности выражения мысли средствами языка коррелируют со способами рефлексии о языке, которые были свойственны языкознанию донаучного периода [см.: Барчунова 1989: 140–143]. Представление о «статичном» существовании языка, отрицание (осознанное или бессознательное) историзма, характерное для обыденного метаязыкового сознания, обнаруживалось исследователями в суждениях античных мыслителей о языке [см.: Тронский 1973: 51]. В целом ряде лингвистических трудов находим сведения о «наивной» интерпретации языковых фактов в различные периоды истории науки [см.: Античные теории 1936; Журавлев 2000; Клубков 2002 и др.]; налицо сходство положений «донаучной науки» и современных обыденных представлений о языке.
В некоторых случаях можно отметить «опережающий» характер метаязыковой рефлексии рядового говорящего по отношению к научно-лингвистической рефлексии: в художественных текстах обращается внимание на факты языка / речи, которые – на момент создания произведения – не стали еще предметом лингвистического исследования. В основном такие примеры фиксируются постфактум – с позиции сегодняшнего знания мы можем свидетельствовать, что нелингвист (в нашем случае – писатель) отметил некий факт, который впоследствии получил научную интерпретацию. Так, суждения авторов о национально-культурной специфике русского языка значительно опередили возникновение лингвокультурологии как научной дисциплины. Многие наблюдения социолингвистического характера также были описаны в художественных текстах гораздо раньше, чем наука заинтересовалась соответствующими социальными вариантами языка. Ср. замечания о существовании так называемого «семейного» языка, который стал изучаться лингвистами сравнительно недавно:
<…> у Левковича была дочь – девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». <…> кучер «Игнатий Лойола» (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль (К. Паустовский. Первый рассказ); Освободившись, еще до полной реабилитации, я переписал эти стихи в январе 1956 года в «Зеленую тетрадь» (так мы называем ее у нас в семье) (А. Жигулин. Черные камни).
Способность слова воздействовать на глубинные структуры сознания, изучаемая нейролингвистикой, давно не является секретом для обыденного метаязыкового сознания. В художественных текстах содержатся как общие рассуждения о «внушающих» свойствах речи (Человек внушаем, а значит, зависим от слов и мыслей. В. Маканин. Андеграунд…), так и характеристики отдельных слов с точки зрения соответствующих свойств: тёплые, волнующие, магические, зовущие и т. п.
«Наивная» лингвистика опередила научную и в постановке проблемы о будущем языка. В конце XX – начале XXI вв. оформляется особая область научного лингвистического знания – лингвистическая прогностика (лингвистическая футурология) [см.: Кретов 2006; Эпштейн 2000; 2006; Николаенко 2004; Сиротинина 2009; Шмелёва 2010 и др.]. Высказываются [напр.: Милославский 2009] и реализуются в виде различных проектов [ср.: Солженицын 1990; Проективный философский словарь 2003; Эпштейн 2006] идеи о сознательном регулировании развития русского языка, его обогащении при помощи целенаправленных усилий. Однако в художественных текстах гипотезы о возможных путях развития языка появлялись и ранее, хотя и высказывались в рамках специфического дискурса, описывающего ирреальный мир. Так, в «Туманности Андромеды» И. Ефремова высказывается мысль об отмирании языка в обществе, где нет необходимости скрывать свои мысли или прибегать к «жонглированию» словами:
<…> как многое из еще недавней культуры человечества уже отошло в небытие. Исчезли совсем столь характерные для эры Мирового Воссоединения словесные тонкости – речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности. Прекратилось совсем писание как музыка слов, столь развитое еще в ЭОТ – эру Общего Труда, исчезло искусное жонглирование словами, так называемое остроумие. Еще раньше отпала надобность в маскировке своих мыслей, столь важная для ЭРМ. Все разговоры стали гораздо проще и короче. По-видимому, эра Великого Кольца будет эрой развития третьей сигнальной системы человека, или понимания без слов.
Ср. также юмористический прогноз М. Мишина (Период полураспада. 1986) о редукции тематических групп лексики, обозначающей продукты питания, или картину «китаизации» русского языка в романе В. Сорокина «Голубое сало».
Специфика «естественного» взгляда на язык проявляется не только в выборе объектов рефлексии, но и в стратегиях метаязыковой интерпретации, которые могут быть названы обыденными лингвистическими технологиями. Отметим наиболее характерные особенности этих технологий.
Так, обыденное метаязыковое сознание стремится к упрощению своего объекта и способов его интерпретации, которое проявляется, например, в неразличении устной и письменной речи (1), в нечётком разграничении, а иногда и намеренном отождествлении языкового выражения и его означаемого (2), в неразличении языковой материи и метаязыковых установлений (3):
(1) Значить, – он произнес слово с мягким знаком на конце (С. Юрский. Теорема Ферма); (2) И всякая хозяйка дома, получившая приличное воспитание (неприличное, впрочем, кажется, никому и не дается[65]), справится с этим делом без особого труда (Н. Тэффи. Предпраздничное); (3) – Почему ты слово «товарищ» пишешь с мягким знаком? / – Это глагол второго лица, – ответил без смущения Филька. / – Какой глагол, почему глагол? – вскричала учительница. / – Конечно, глагол второго лица, – с упрямством ответил Филька. – «Товарищ! Ты, товарищ, что делаешь?» Отвечает на вопрос «что делаешь?» (Р. Фраерман. Дикая собака Динго…).
В последнем случае говорящий не различает так называемый «грамматический» вопрос к глагольной форме и вопрос как речевой акт.
Упрощенное представление о языке проявляется как «доверие» к плану выражения языковой единицы. Так, обсуждение общего означающего у разных означаемых, как правило, не требует разграничения омонимии и полисемии – одинаковый план выражения соотносится с презумпцией единства слова, которое имеет разные значения. Ср. у Ф. Кривина:
(1) как много в этом случае зависит от одной приставки: ввести в расход совсем не то, что вывести в расход; (2) Как-то в поликлинике даже медсестра заикнулась о том, что она с утра до вечера вкалывает, но в ее устах это прозвучало неубедительно, потому что вкалывала она в буквальном, первоначальном значении этого слова (Хвост павлина; выделено автором).
В первом примере речь идет о приставке как смыслоразличителе – омонимия существительных во внимание не принимается. Во втором случае говорится о разных значениях слова вкалывать, хотя на самом деле приводятся примеры омонимов. Очевидно, что в подобных случаях «стихийного лингвиста» не интересует степень семантического расхождения означаемых и разграничение полисемии и омонимии, ему достаточно упрощённой трактовки: слово – одно, а значений несколько. Даже использование термина «омонимы» не гарантирует, что говорящей отличает омонимию от многозначности; ср.:
<…> наша юная речь почти не различает оттенки омонимов. Во-первых, «работа» – это труд вообще: «надо работать». Затем «работа» – это оценка труда, не разделяющая процесс производства и конечный результат: так говорят, скажем, крестьяне о поставленной избе или сложенной печи – «ладная работа». На советском волапюке слово «работа» приобрело еще и значение «служба», а в лагерном варианте возникло и множественное число – «выводить на работы». Можно сказать «работа», имея в виду конечный продукт: так говорят, скажем, о картине на выставке или о научной статье (Н. Климонтович. Последняя газета).
В данном случае приводятся примеры как раз не омонимов, а лексико-семантических вариантов многозначного слова работа.
Следствием «доверия» к плану выражения выглядят и случаи установления псевдоэтимологических связей между словами, которые демонстрируют внешнее сходство при значительной семантической дистанции. При этом трансформированное слово оказывается для говорящего формально мотивированным, но не имеет семантической связи с новым производящим:
У Юрия Андреевича были помощники, несколько новоиспеченных санитаров с подходящим опытом. Правою его рукою по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Керени Лайош, которого в лагере звали товарищем Лающим… (Б. Пастернак. Доктор Живаго).
Трансформированное имя Лающий имеет привычную для партизан форму выражения, однако выбор нового производящего обусловлен лишь случайным фонетическим сходством.
Также проявлением «доверия» к плану выражения выглядят поиски семантических связей между парономазами и паронимическая аттракция. При этом формальная близость языковых выражений заставляет «наивного» лингвиста предполагать и доказывать их смысловую и/или генетическую близость:
Итак, простоволосая и простушка, потому что совсем рядом с этими словами стоит слово «проститутка», и она и есть она (Л. Петрушевская. Дочь Ксении).
Представление о неслучайности, мотивированности плана выражения делают актуальными поиски обыденного метаязыкового сознания в области фоносемантики:
В звуке «ы» слышится что-то тупое и склизкое… Или я ошибаюсь?.. <… > Все слова на еры тривиальны до безобразия: не то «и»; «и-и-и» – голубой небосвод, мысль, кристалл; звук и-и-и вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином; а слова на «еры» тривиальны; например: слово рыба; послушайте: р-ы-ы-ы-ба, то есть нечто с холодною кровью… И опять-таки м-ы-ы-ло: нечто склизкое; глыбы – бесформенное: тыл – место дебошей…» (А. Белый. Петербург) и т. д.
Обыденное метаязыковое сознание в высшей степени «практично» – это проявляется в постоянном «контроле» за свойствами языка, которые обеспечивают пользователю удобство (в значении английского usability) при употреблении этого языка. В метаязыковом сознании рядового носителя существует, видимо, некая презумпция комфортности (функционального удобства) языка, согласно которой языком должно быть «комфортно» пользоваться. Такая презумпция основана на ощущаемой языковой личностью антропоцентричности языка: язык существует для того, чтобы обслуживать коммуникативную и познавательную деятельность человека, а потому может и должен оцениваться в соответствии с тем, насколько он «справляется» с этой задачей, насколько удобен он в использовании, насколько он изоморфен интеллекту и деятельности человека. В связи с этим говорящий субъект чутко реагирует на малейшие признаки языкового «дискомфорта».
К замечаемым носителями явлениям дискомфорта можно отнести, прежде всего, общепризнанное функциональное несовершенство языка, которое не даёт гарантии адекватной передачи мысли словом:
<…> до сих пор для меня самое большое мучение, что еще ни разу, ни единого, не выразил я что-либо точно, на том пределе, который ощущал, и где-то глубоко у подножия мысли барахтаются мои слова… (А. Битов. Моя зависть); Боже мой, Елена Владимировна! Как будто человек может сказать, о чем он думает! Мысль настолько шире слов, что когда ее выражаешь, то кажется, что врешь (Ю. Визбор. Завтрак с видом на Эльбрус).
Высокая регулярность подобных рефлексивов, повторяемость аналогичных идей в художественной прозе, поэзии, философском дискурсе позволяет предположить наличие соответствующей универсалии метаязыкового сознания.
Кроме указанного общего несовершенства языка авторы отмечают и более частные случаи «неудобства» и «нелогичности» языка. Как «лингвистический дискомфорт» воспринимается немотивированность слова, поэтому носителю языка свойственно стремление не только найти «затемнённую» внутреннюю форму слова, но и «приспособить» эту внутреннюю форму к актуальной коммуникативной задаче (в художественном тексте – к идейно-эстетическому замыслу произведения). Ср. пример ложной этимологии, которая «адаптирована» к характеристике персонажа:
<…> к имени Святополка прилипло прозвище – Окаянный. В нашей речи это слово явилось недавно, с распространением христианства, происходя от ветхозаветной повести об убийстве Авеля братом Каином. Кратко, точно: окаинился, окаянный <…> Страх и отчаяние суть дороги раскаяния. Раскаяние тоже было новеньким словом, по-русски отчеканенным из Каина: широта русской мысли не могла ограничить себя одним направлением – окаиниться. Требовалось второе, обратное, – раскаиниться, раскаяться (В. Иванов. Русь Великая).
Еще одним «неудобством» выглядят лакуны в языковой системе. Специалисты отмечали, что «обнаружить лексические лакуны в своем родном языке гораздо труднее, чем в языке чужом» [Федосюк 2008: 42], однако напряженное внимание к языку как «рабочему инструменту» позволяет авторам художественных текстов фиксировать наличие лакун, указание на которые – один из постоянных мотивов в русской литературе. Автор (или персонаж) стремится «нейтрализовать» лакуну, создать по существующим в языке моделям слово для адекватного выражения своих мыслей:
<…> на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднение: как вообще их называть? <…> Вполне в духе языка было бы слово лагерщики: оно так же отличается от «лагерника», как «тюремщик» от «тюремника» и выражает точный единственный смысл: те, кто лагерями заведуют и управляют[66]. Так, испросив у строгих читателей прощения за новое слово (оно не новое совсем, раз в языке оставлена для него пустая клетка), мы его от времени ко времени будем употреблять (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Для ощущения языкового и коммуникативного «комфорта» говорящему необходимо ощущать соответствие означающего означаемому. Нарушение такого соответствия непременно подвергается комментированию:
Привалов как-то избегал мысли, что Надежда Васильевна могла быть его женой. <…> Жена – слишком грубое слово для выражения того, что он хотел видеть в Надежде Васильевне. Он поклонялся в ней тому, что было самого лучшего в женщине (Д. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы).
Потребность в языковом «комфорте» отчасти уходит корнями в первобытное сознание с его неконвенциональным отношением к слову как неотъемлемой части самой вещи и, следовательно, инструменту магических действий [Мечковская 2000: 24–26]. Кроме того, стремление к обязательному соответствию имени и денотата, возможно, подкрепляется и практикой школьного обучения, в ходе которого «сближение и отождествление языка с правилами металингвистического типа неизбежно порождает у школьников представление о «правильности» языка» [Голев 1997]. Любое отклонение от этой абсолютной «правильности» служит своеобразным сигналом неблагополучия и становится стимулом для метаязыковой рефлексии.
Все отмеченные особенности обыденных лингвистических технологий (стремление к упрощению объекта, доверие к плану выражения, практическая направленность, презумпция антропоцентричности и комфортности языка) последовательно реализуются в таком интегральном и системообразующем свойстве обыденного метаязыкового сознания, как его мифологичность – анализу этой стороны «наивной» лингвистики посвящен в книге отдельный параграф (см. § 3.3).
Говоря об особенностях обыденной лингвистики, необходимо коснуться и специфики ее метаязыка. Э. В. Колесникова настаивает: «В изучении и описании нуждаются не только суждения наивного носителя о языке, но и сам метаязык, на котором эти суждения высказываются. Несмотря на незнание лингвистических терминов или неумение ими пользоваться, наивный носитель может, тем не менее, охарактеризовать языковое явление абсолютно верно» [Колесникова 2002: 129].
«Термины» обыденной лингвистики можно условно разделить на три группы. Первая группа включает общеупотребительные метаязыковые обозначения, о которых обычно говорят в связи с «нерефлектирующей рефлексией»; это слова, в которых закрепились «наивные» представления о языке (слово, рассказ, значение, говорить, возражать, немногословный и т. п.) и которые пришли в метаязык лингвистики из общенародного языка.
Вторая группа «терминов» обыденной лингвистики – это обозначения, заимствованные из научной лингвистики: синонимы, орфография, подлежащее, инфинитив и т. п.[67] В языке «стихийного лингвиста» эти единицы могут употребляться в полном соответствии с их терминологическим значением (1), но могут использоваться некорректно (2):
(1) Человек с тонкой шеей сказал: – Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом. (В черновике приписка: жизнь победила смерть, где именительный падеж, а где винительный) (Д. Хармс. Случаи); (2) – Хвалынцев? – вскинула она на него улыбающиеся глазки, не прибавя к его имени обычного прилагательного «господин». / – Хвалынцев, – подтвердил ей студент с поклоном (В. Крестовский. Панургово стадо).
В художественных текстах встречаются достаточно многочисленные примеры, когда языковедческие термины используются в ином значении, нежели закреплено за ним в лингвистическом дискурсе. Так в сочетании литературный язык прилагательное литературный может представлять собой семантически «пустой» эпитет: сочетание литературный язык используется как устойчивое, неразложимое сочетание, имеющее то же значение, что и слово язык; ср.:
В таких мыслях хромаю до номера цвай унд цванциг, что в переводе с немецкого литературного языка означает двадцать два <… > (В. Рецептер. Узлов, или Обращение к Казанове. НКРЯ).
В приведенном примере вовсе не утверждается, что числительное цвай унд цванциг маркировано в немецком языке как «литературное» – здесь явно избыточный эпитет используется для орнаментации речи, своеобразного балагурства.
Еще более показателен в этом отношении пример, приводимый С. Довлатовым (Зона): услышав, что вохровец употребляет грязное ругательство с неправильным ударением, заключенный его поправил: …такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет… – и привел «правильные» варианты. Утверждая, что такого слова в русском литературном языке нет, заключенный вовсе не подразумевает, что другие предлагаемые им обсценные глаголы в литературном языке есть. Очевидно, что слово литературный в обоих случаях лишено не только строго терминологического смысла, но и какого-либо самостоятельного значения вообще. Оно несёт специфическую прагматическую нагрузку: меняет интонационный рисунок фразы (ср. перевод с немецкого и перевод с немецкого литературного языка; в русском языке нет и в русском литературном языке, уж извините, нет) и становится средством выдвижения. Таким образом, использование определения литературный – это способ сделать высказывание игровым (первый случай) или подчеркнуто категоричным, придать ему характер неоспоримого (второй случай), то есть данный эпитет выступает здесь как средство выражения субъективно-модальных значений.
Встречающееся регулярно в текстах выражение человеческий язык имеет более широкий репертуар значений, нежели в лингвистическом дискурсе. Во-первых, как и в специальных текстах, в обыденном метаязыке данное сочетание может обозначать естественный язык вообще (1) или язык человека в противопоставлении «языку» животного (или вымышленных существ) (2):
(1) Наверное, нету слова на человеческом языке, которое значило бы столь совершенно разное и даже непохожее, как эта «любовь» (Ф. Кнорре. Каменный венок. НКРЯ); (2) А вот Мишка – пастух, который с коровами говорит на коровьем, не похожем на человеческий, языке, по-человечески говорит с трудом, – нашел в лесу землянку <… > (Б. Пильняк. Мать сыра-земля).
Кроме того, сочетание человеческий язык обозначает уважительную, без агрессии манеру общения (3), указывает на перевод высказывания на «язык смысла» (4), служит средством усиления, экспрессивного подчеркивания (5) и называет особую разновидность языка – обыденную, повседневную (6):
(3) И был теперь Андрей Колчагин на виду, – все пути ему открыты; не серый солдат, один из тысяч и миллионов, а избранная единица, с которой говорят человеческим языком, которую величают товарищем (М. Осоргин. Сивцев Вражек); (4) – Я тогда был зелен, как огурец. Когда при мне говорили: «Он просил у нее руку и сердце», – я и не предполагал, что в переводе на человеческий язык это только и означает: «Поспим вместе» (А. Мариенгоф. Бритый человек. НКРЯ); (5) Ну что вы глядите, чисто пуганая? Говорю вам человеческим языком, надо итить (Б. Пастернак. Доктор Живаго); (6) На языке науки это называется смещенным действием, а на человеческом языке — жестом смущения. Большинство моих знакомых в случае замешательства, в ситуации любого душевного конфликта делают одно и то же – достают сигареты и щелкают зажигалкой (П. Крусанов. Другой. НКРЯ).
Изучение обыденной лингвистической «терминологии» имеет, помимо теоретического, и очевидное прикладное значение. Можно обратить внимание на лексикографические последствия такого изучения. Большое количество примеров использования терминов в нетерминологическом значении заставляет говорить не просто об употреблении, отступающем по тем или иным причинам от лексической нормы, но о существовании этих нетерминологических значений как явления узуса. В то же время такие значения в общих толковых словарях русского языка, как правило, не фиксируются. Толковый словарь, адресованный широкому кругу читателей, представляет собой «модель наивного языкового сознания», поскольку «толкование в нем … максимально приближено к тому, как склонны понимать то или иное слово обычные носители русского языка» [Фрумкина 2001: 44]. Отсюда следует, что и в толковании слов, которые являются терминами, необходимо учитывать возможное наличие у них нетерминологических значений.
Иллюстрацией к данному положению может служить анализ употребления слова диалект в художественных текстах. В литературе XIX и даже начала XX века практика употребления термина диалект несколько отличалась от современной. Обратимся к следующему фрагменту:
Марфа встретила его ревнивыми упреками на прелестном малороссийском диалекте (А. Осипович (Новодворский). Мечтатели).
«Среднестатистический» читатель, обратившись за справкой к толковым словарям, которые принято называть «массовыми» [см.: БТС; СОШ; ТСП и под.], не обнаружит там иного значения лексемы диалект, кроме терминологического (с соответствующей пометой): «ДИАЛЕКТ <…> Лингв. Местное наречие, говор. Рязанский д. Северные диалекты» [БТС: 257]. У такого неискушенного читателя может сложиться впечатление, что автор квалифицирует украинский (малороссийский) язык как диалект русского, а не как самостоятельный язык. Однако, при всей кажущейся недвусмысленности формулировки малороссийский диалект, ответ на этот вопрос далеко не так прост. Исследователи неоднократно указывали на возможные ошибки в понимании и интерпретации текста, которые возникают в результате «доверия» к единственному контексту [см., напр.: Добродомов 2009; Добродомов, Шаповал 2007], поэтому для выяснения семантики слова диалект следует рассмотреть большее количество примеров.
Довольно часто в литературе XIX – первой трети ХХ вв. термин диалект используется применительно к французскому языку:
Носились, распространяя аромат духов и звуки французского диалекта, веселые пары (Г. Данилевский. Воля. НКРЯ); Она уж очень чувствительна и все говорит на французском диалекте (И. Панаев. Опыт о хлыщах).
Обозначение французского языка как диалекта находим во множестве произведений русской литературы XIX века: «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Однодворец Овсяников», «Месяц в деревне», «Новь» И. С. Тургенева, «Приезд ревизора» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевского, «Приваловские миллионы» Д. Н. Мамина-Сибиряка и др.
Слово диалект в художественных текстах XIX века используется и по отношению к другим языкам:
Как вправду говорили Вы, братец, что я по-французскому начну. Только сей миг вспомнила, что обещание Вам дала писать на российском диалекте (Б. Садовской. Из бумаг князя Г. НКРЯ); <…> хозяйка-чухонка <…> испугалась, испустила какое-то восклицание на своем непонятном диалекте и послала девочку за доктором (В. Гаршин. Художники. НКРЯ); Ну, был бы просто дурак на русском языке, а то дурак на французском, дурак на немецком, дурак на итальянском, легко вымолвить – дурак на четырех диалектах! (М. Загоскин. Москва и москвичи) и мн. др.
Таким образом, в текстах XIX (и начала XX вв.) этот метаязыковой термин оказывается лишённым семы 'ограниченное употребление' и используется как абсолютный синоним термина язык.
В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова приводилось с пометой устар. и шутл. второе, нетерминологическое значение слова диалект: «То же, что язык, речь» [СУ]; в так называемых «Большом академическом» [БАС-17 и БАС-20] и «Малом академическом» [МАС] словарях давалось второе значение 'язык', с дополнением (в БАС): «обычно иностранный». В современных же массовых словарях значение 'язык' для слова диалект не приводится. Вероятно, оно сочтено составителями словарей устаревшим, а потому недостаточно актуальным для современного читателя, однако изучение практики обыденного употребления[68] слова диалект позволяет найти аргументы в пользу сохранения в словарях указания на это значение: не только высокая частотность данного лексико-семантического варианта в текстах XIX – первой трети XX вв., но и сохраняющаяся традиция метафорического употребления слова, при котором актуализируется семантическая «платформа» 'язык', а не только сема ограниченного употребления.
Третья группа «терминов» обыденной лингвистики представляет собой слова и выражения, лишенные метаязыкового значения, но приобретающие такое окказиональное значение в составе рефлексивов. Ср.:
Некоторые родители уходу ЗА ребенком предпочитают уход ОТ ребенка. Лицемерно похожие существительные – уход и уход, но зато – ЗА и ОТ – откровенно различные предлоги. Когда молчат существительные, говорят служебные слова (Ф. Кривин. Хвост павлина; разрядка авторская); Глупые у меня названия были – «Полчаса чудес», «Фокусы, изжившие себя». – все «с отношением», а зачем оно – отношение? Не надо мир обольщать – и воевать с ним не надо, надо вот так: ассорти. (Е. Клюев. Андерманир штук) и т. п.
Особенно многообразны способы обозначения различных видов маркированности слов – устаревших (1), разговорных (2), узуальных (3), обладающих положительными (4) или отрицательными коннотациями (5) и т. п.:
(1) Наречия «грешно» или «благородно» пахнут сыростью графских развалин. Попытки реанимации не удаются (М. Мишин. Период полураспада); (2) [Словари] совершенно не выражают разнообразия будничной лексики (С. Довлатов. Переводные картинки); (3) Слово «милосердие» пестрит и мелькает, но приживается пока лишь в смысле: пусть скажут спасибо, что вообще не убили (М. Мишин. Период полураспада); (4) Как волшебная музыка звучало для маленького мальчика слово «поход» <…> (А. Варламов. Купавна). (5) К счастью обнаружилось, что гражданская война не причинила разрушений всем основным централам или острогам. Не миновать только было отказаться от этих загаженных старых слов (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Термины первой группы именно как единицы «естественного» метаязыка получали освещение в целом ряде лингвистических работ [см., напр.: Язык о языке 2000; Демьянков 2001 и некот. др.]; семантика и функционирование терминов второй и третьей группы в обыденном метаязыке пока не становились предметом специального исследования. Изучение «естественной» терминологии как части метаязыка представляется перспективной задачей теории обыденной лингвистики.
Обратимся теперь к более детальному анализу отдельных «наивных» представлений о языке, воплотившихся в художественной литературе. В этой части работы в качестве иллюстративного материала нередко привлекаются произведения так называемой массовой литературы (в том числе выбранные из Национального корпуса русского языка): в этих текстах достаточно наглядно отразилось современное общественное метаязыковое сознание.
Обыденные метаязыковые представления реализуются в текстах как в форме эксплицированных суждений, так и в виде «подразумеваемой базы высказывания», то есть в виде «пресуппозиций, коннотаций, «фоновых» представлений и т. п.» [Шмелёв 2009: 37], поэтому мы прибегнем а) к интерпретации вербальных метаязыковых комментариев и б) к реконструкции «фоновых» представлений.
2.2. «Стихийная» социолингвистика
Одной из составляющих обыденного метаязыкового сознания является представление о формах и социокультурных вариантах языка, о разнообразии языковых образований (идиомов) и их соотношении. Подобное представление позволяет языковой личности ориентироваться в доступном ей арсенале языковых средств, варьировать используемый языковой инструментарий адекватно конкретным коммуникативным условиям.
В научной социолингвистике сложилось представление о русском общенациональном языке, основным вариантом которого выступает литературный язык, противопоставленный территориальным и социальным диалектам. Среди социальных диалектов выделяют городское просторечие, профессиональные жаргоны, молодёжный жаргон (сленг) и групповые жаргоны (арго) [см., напр.: Крысин 1989: 32–79]. Внутри литературного языка существенным является противопоставление кодифицированного языка (характеризующегося стилевой дифференциацией) и некодифицированной литературной разговорной речи. Эта общая схема в различных исследованиях может варьироваться [напр.: Бондалетов 1987: 66–74; Мечковская 2000: 33 и др.].
Представление рядового носителя о «наборе» вариантов языка и их соотношении, видимо, должно отличаться от научной модели, как, например, отличается принцип расстановки книг в домашней библиотеке от принципа размещения единиц хранения в библиотеке научной. Подобное предположение согласуется с тезисом о том, что для обыденного сознания характерна высокая степень прагматичности, под которой в данном случае понимается детерминированность метаязыковых представлений практическим опытом дискурсивной деятельности.
Для обыденного метаязыкового сознания не характерна понятийно-терминологическая чёткость, к которой стремится научный дискурс. Метаязыковые операторы, используемые рядовыми носителями языка, довольно регулярно не совпадают в своём значении с соответствующими лингвистическими терминами, что следует учитывать при анализе.
В ряде случаев для обозначения тех или иных социальных вариантов языка говорящий использует термин язык с конкретизирующими распространителями:
Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке (В. Шаламов. Колымские рассказы); Я не имел понятия о том, что слово «лабух» означает «музыкант». На особом и тайном лабухском языке, который изобрели музыканты, чтобы на нем разговаривать между собой и понимать друг друга, а их чтобы никто не мог понять (А. Рекемчук. Мальчики).
Рядовыми носителями регулярно используются для обозначения разновидностей языка и термины с более узким значением.
Например, слово сленг в рассматриваемых текстах демонстрирует более широкие возможности семантического варьирования, нежели в научном дискурсе. Так, под сленгом может пониматься: грубоватый язык, отличный от литературного (то же, что просторечие в строгом терминологическом смысле) (1), грубая речь, допускающая обсценизмы (2), манера, стиль речи, отличные от повседневной, разговорной (3), язык небольшой социальной группы, в частности – семейный язык (4):
(1) Строительство трубы, по существу, приостановлено. Банковские деньги, извини за сленг, раздрючены (С. Данилюк. Бизнес-класс. НКРЯ); (2) Смотреть невыносимо. Я и не смотрю: лежу и слушаю сленг играющих Сашек – их мрачные мать-перемать, если мало козырей или карта идет не в масть (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени); (3) Как расколоть его защитный панцирь? Юмор не проходит – сразу насторожится. Только на официальном строгом языке, к какому он привык. Любая чушь на казенном сленге дойдет до него прямо, как наркотик в вену… (Р. Солнцев. Полураспад.); (4) Нина точно знала, как и когда накрывать стол. За семь лет семейной жизни у них выработался определенный внутрисупружеский сленг. «Подсуетись» – это значит важный деловой разговор под рюмку водки и еда без особых изысков и излишеств, чтобы голодный не умер с голоду, а сытый не умер от переедания (Е. Козырева. Дамская охота).
При этом одно и то же языковое образование в «естественном» метаязыке может именоваться при помощи «смежных» терминов. Ср. употребление терминов сленг – жаргон – диалект – просторечие для обозначения профессионального жаргона:
– Амба, говоришь, в розыске? / – Ага, по нескольким «висякам» проходит, – подтвердил Кострецов, называя на служебном жаргоне нераскрытые уголовные дела (В. Черкасов. Чёрный ящик. НКРЯ); – Мы предлагаем вам перейти в Управление по борьбе с терроризмом. На сленге оперов, просто БТ (А. Михайлов. Капкан для одинокого волка. НКРЯ); Я в это время был в Особом лагере. И познавал иные науки, в том числе лагерные слова и диалекты (А. Жигулин. Обломки «Чёрных камней»); Модернизированная кассетная СС-21, в просторечии СС-очко, и впрямь кого хочешь могла успокоить (В. Маканин. Однодневная война).
Очевидно отсутствие равенства между научным понятием «просторечие» и содержанием этого слова в обыденном метаязыковом сознании. В отечественной стилистике и социолингвистике термин просторечие закрепился в двух основных значениях: «…с одной стороны, просторечием называют совокупность стилистических средств сниженной экспрессии, с другой – имманентно нейтральные с точки зрения стилистики и не закрепленные территориально особенности речи лиц, не владеющих в необходимой мере нормами литературного языка» [Городское просторечие 1984: 3]. Итак, для лингвиста существуют просторечия – «сниженные, грубоватые элементы в составе самого литературного языка» [Там же: 5] – и так называемое городское просторечие – «ненормированная, социально ограниченная речь горожан, находящаяся за пределами литературного языка» [Там же]. В научной модели языка просторечие как социальный вариант противопоставляется не только литературному языку, но и некодифицированной литературной разговорной речи [Мечковская 2000: 33]. Носителями просторечия выступают «горожане по рождению или лица, долго живущие в городе, но не владеющие совсем или не овладевшие полностью литературными языковыми нормами» [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 23].
Однако в материале, которым мы располагаем, примеры употребления термина просторечие в значении, которое закрепилось в социолингвистике («ненормированная, социально ограниченная речь горожан, находящаяся за пределами литературного языка»), составляют лишь небольшую часть. Ср.:
Ефим <… > обязан проводить в жизнь свои планы чужими руками и из-за чьей-нибудь спины. То есть использовать для крупных дел нелегалов, <… > а по мелочам – личностей, именуемых в просторечье «стукачами» (В. Скворцов. Каникулы вне закона); <…> Кинотеатр повторного фильма, в просторечии «Повторка» <…> (Н. Климонтович. Далее – везде).
При том, что содержание понятия «просторечие» в научном и обыденном метаязыковом сознании, как правило, различно, сам термин просторечие демонстрирует в современной литературе высокую активность. Под просторечием может пониматься:
а) обиходная речь – то, что лингвисты относят к разговорной речи или к диалектам:
<…> зачислили Шурку в строительные войска, в просторечии – «стройбат» (Н. Климонтович. Далее – везде)[69]; Зимою над крутобережным скатом Обдонской горы, где-нибудь над выпуклой хребтиной спуска, именуемого в просторечье «тиберем», кружат, воют знобкие зимние ветры (М. Шолохов. Тихий Дон);
б) сфера неофициальных наименований, противопоставленных официальным:
Мы в тот день впервые узнали о том, что бульвар Белы Куна, именовавшийся Варшавским, в просторечии был Меринов бульвар — с намеком на кавалерийское училище: оно квартировало в конце бульвара (А. Дмитриев. Закрытая книга);
в) более известные наименования в противопоставлении менее известным:
Под ним как-то один принц сидел – Гаутама, в просторечьи Будда (С. Осипов. Страсти по Фоме);
г) более экономичные выражения, противопоставленные другим способам наименования не по стилистическому признаку, а именно как более краткие:
<… > на место погибших в неравном бою воинов ПВО заступили представители внеземной цивилизации, в просторечии называемые гуманоидами (В. Тучков. Русская книга военных);
д) жаргон:
Ночная ручная стрижка колосков в поле <…> десять лет как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года (в арестантском просторечии закон семь восьмых) (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг); после бессонной ночи дописывания так и неоконченного памятника я отнес-таки его в издательство, в просторечии в «Совпис» (А. Битов. Азарт, или Неизбежность ненаписанного);
е) «обычная», простая, общепонятная речь – в противопоставлении более сложно организованной речи: научной, философской[70] и т. д.:
У вас, говорят, так сказать, удлинилась… кость копчиковая: говоря в просторечии, – появился хвостик… (А. Белый. Начало века);
ж) речь, используемая в прямом смысле, лишенная иносказательности:
В тридцатые годы, когда многие знаменитые художники покинули, так сказать, поприще (а в просторечии – сели), кто-то должен был прийти им на смену (Э. Радзинский. Наш Декамерон. НКРЯ);
з) речь вообще, языковой узус:
<… > из его большого красного рта <…> полились звуки, называемые в просторечии смехом (Ю. Мамлеев. Чарли. НКРЯ); Явления, называемые в просторечье «мороз по коже» и «волосы встали дыбом», случились с ним <…> (Э. Лимонов. Молодой негодяй).
Наконец, под просторечием может пониматься не просто разновидность языка, но и соответствующий в и д с о з н а н и я, способ осмысления действительности. Ср.:
<… > это, безусловно, вторжение извне в мое сознание, либо в сознание моих партнеров, либо в то и другое одновременно. Вторжение очень мощного экстрасенса, по сути дела, то, что в просторечии именуется магией (Н. Подольский. Книга Легиона).
Слово магия отнюдь не оценивается говорящим как просторечное – в данном случае речь идет не о слове, а о стоящем за этим словом упрощённом, «бытовом» понимании (и – соответственно – номинации) сложного явления. Подобные представления, кстати, свойственны носителям просторечия и характерны для специфической картины мира, отражённой в просторечии[71].
Таким образом, в обыденном метаязыковом сознании слово просторечие соотносится не столько с нелитературным, ненормированным вариантом языка, сколько с общепонятной, преимущественно обиходной речью.
Наиболее последовательно и близко к терминологическому значению употребляются в современной речи метаязыковые термины жаргон, жаргонное слово. Эти единицы высокочастотны в современной беллетристике, поскольку жаргонизация речи регулярно становится стимулом языковой рефлексии носителя языка. «Стихийный лингвист» не только отмечает сам факт существования жаргона, но и осмысливает динамику его развития в современных условиях. Так, отмечается активизация жаргона и роль средств массовой информации в его распространении:
Юридический сленг журналисты научились понимать довольно давно – как только в прессу пришла мода на подробные отчеты о громких преступлениях. <…> Этот сленг уже и обывателям знаком, которые внимательно смотрят телевизор (Е. Козырева. Дамская охота).
В современной беллетристике подвергается комментированию и, как следствие, популяризации лексика профессиональных жаргонов. Среди них компьютерный жаргон (1), сленг журналистов (2), язык коллекционеров (3), внутрикорпоративные жаргоны (4) и другие:
(1) Коллеги по отработанному заданию автоматически, говоря компьютерным сленгом, отправляются в «корзину» (В. Скворцов. Каникулы вне закона); (2) Все телевизионщики знали Зотова как законченного ликоблуда. (Далеко не каждый знаком с телевизионным жаргоном, поэтому следует пояснить: ликоблудом именуется человек, получающий колоссальное наслаждение от вида собственного лица на экране и потому готовый сниматься где угодно и в каком угодно качестве.) (М. Баконина. Школа двойников); (3) Легким щелчком Роман посылает монету по столешнице ко мне. / – Фуфел, он же фальшак, он же новодел. / – Это плохо? – спрашиваю я, замороченная нумизматическим сленгом. / – Куда хуже, – говорит Роман, <…> – Твой рубль – подделка (В. Синицына. Муза и генерал); (4) – Ладно, проведу, хоть и не ко времени вы – правление вот-вот начнется. – <…> и он шагнул в небольшой зал, в просторечии именуемый залом ожидания и даже – в зависимости от причины вызова – пыточной (С. Данилюк. Рублёвая зона. НКРЯ).
Как показывают тексты современной массовой литературы, для обыденного метаязыкового сознания бесспорна необходимость особого языка как атрибута той или иной социальной группы. Даже писатели, создающие ирреальные миры (фантастика, фэнтези) и основывающие в этих мирах «силовые структуры» и профессиональные сообщества, создают специфические жаргоны таких сообществ. Ср., например, жаргон АСБ – Агентства социальной безопасности:
Валюшок должен был к сегодняшнему дню закончить месячный курс тренировок со штатной амуницией. Но конечно, легкий бронекомплект, на жаргоне сотрудников АСБ – «комбидресс», еще не стал его второй кожей (О. Дивов. Выбраковка).
Словообразовательные типы и когнитивные модели, которые лежат в основе создания «авторских» жаргонных слов, являются результатом осмысления закономерностей «жаргонообразования» в современном русском языке. Так, слово комбидресс в значении 'лёгкий бронекомплект' является результатом метафорического переноса, при котором утрачиваются семантические компоненты, связанные с «серьёзностью» объекта; в качестве «второго члена» сравнения привлекается безобидный предмет бытового характера (Ср. жаргонное наименование синхрофазотрона – кастрюля).
Как правило, слова и выражения ограниченного употребления в текстах не только семантизируются, но и снабжаются комментариями энциклопедического / лингвокультуроведческого характера. Актуализация новой для читателя лексики является средством воссоздания особой (профессионально или социально обусловленной) картины мира. За каждой такой единицей стоит особый взгляд на мир, система ценностей, «своеобразное языковое мировоззрение» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 161], отражённое в экспрессивной жаргонной лексике и ощущаемое «стихийным лингвистом». Ср.:
Он привык общаться с ограбленными, обокраденными, обманутыми. Он давно усвоил милицейский сленг, давно пользовался пренебрежительно-уничижительным словечком «терпила» – так в милиции называют потерпевших. С ними следует быть жестким, деловитым, неуступчивым. Сначала надо убедить «терпилу», что не такой уж он и пострадавший, – дабы не подавал заявления. Потом попробовать отказать в возбуждении уголовного дела – мол, либо сам виноват, либо ущерб невелик, либо содеянное не представляет общественной опасности (М. Баконина. Школа двойников).
Носители языка пытаются объективно осмыслить свойства жаргонизмов, понять причины роста их популярности. При безусловно отрицательной оценке жаргонизации современного дискурса «наивный лингвист» обнаруживает, что жаргонная лексика придаёт речи «современный» характер (1), делает поведение более демократичным (2), способствует установлению контакта, сближению (3), служит социальным знаком «своего» (4):
(1) <…> раз я будущий филолог, то и писать должна, как филолог, не засорять язык сленгом или, того хуже, употреблять ненормативную лексику, как это любят делать ради «осовременивания» нынешние авторы (Н. Катерли. Дневник сломанной куклы); (2) Почему интеллигенция так западает на бандитский жаргон? Наверное, хочет быть ближе к народу (В. Левашов. Заговор патриота); (3) Достигнув предварительного соглашения, дядя и вовсе «раздухарился» (племяннику этот его сленг казался устаревшим, а значит – чем-то неловким, он стыдился за дядюшку, который, разговаривая так, будто заискивал перед молодежью) <…> (Н. Климонтович. Фотографирование и прочие Игры); (4) «Навороченный», «крутой»! Забелин поймал себя на въевшемся сленге. Он со стыдом вспомнил, как на последнем фуршете в «Президент-отеле», желая подольститься к собеседнику – нефтяному «генералу», <…> то и дело вслед ему козырял выражениями типа «Лужок выволок Евтуха на стрелку» – подобно тому как высшее общество конца восемнадцатого века переходило на французский, признаком принадлежности к истеблишменту конца двадцатого становилось умение «ботать по фене» (С. Данилюк. Рублёвая зона. НКРЯ).
Носители языка подмечают новое явление – генерализацию жаргона, преодоление им социальных границ:
<… > употребление ненормативной лексики все менее четко определяется социальными, географическими, цеховыми рамками. Все шире растекаются потоки брани, уличного арго, групповой лексики, тюремной фразеологии. Раньше жаргон был уделом четких социальных и профессиональных групп. Теперь он почти национальное достояние. Раньше слово «капуста», например, мог употребить только фарцовщик. Слово «лажа» – только музыкант. Слово «кум», допустим, – только блатной. Теперь эти слова употребляют дворники, генералы, балерины и ассистенты кафедр марксизма-ленинизма (С. Довлатов. Переводные картинки).
Замечание о том, что жаргон преодолевает социальные рамки, – это не просто метафора, а довольно точное наблюдение «стихийного лингвиста» о формировании новой разновидности языка, которую исследователи называют общерусским жаргоном [Хорошева 2002] или общим (русским) арго [напр.: Елистратов 2000]. Это «тот пласт современного русского жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке средств массовой информации и употребляется (или, по крайней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности образованными носителями русского литературного языка» [Ермакова, Земская, Розина 1999: 4]. Специалисты отмечают, что в настоящее время без знания жаргона «уже (увы или, наоборот, к счастью) невозможно читать нашу современную литературу и периодику, слушать радио, смотреть телепередачи, общаться по Интернету или наблюдать за политическими дебатами в Думе» [Мокиенко, Никитина 2000: 3].
Носитель языка осознает и такое явление, как территориальное варьирование языка: в текстах художественной литературы XIX–XX вв. регулярно обращалось внимание на особенности речи жителей разных мест России; ср.:
Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании, ироничный, громадный, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойствен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску и в особенности Ростову-на-Дону – вечному сопернику Одессы (В. Катаев. Алмазный мой венец).
В то же время «наивный» взгляд на диалектную речь отличается определенным своеобразием. Так, «стихийный лингвист» отмечает свойство диалекта, на которое позже обращали внимание и профессиональные языковеды [Жирмунский 1969: 23; Крысин 1989: 46]: территориальные диалекты противопоставлены другим идиомам не только по локальному признаку, но и по социальному. Наблюдения показывают, что предметом комментирования для носителя языка становится чаще всего не территориальная ограниченность того или иного диалекта, а возможность интерпретации диалектной речи как социального знака. Поэтому часто при ее упоминании в художественных текстах диалектная речь обозначалась как «деревенская» без уточнения ее локализации:
Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке (А. Платонов. Эфирный тракт); – Как хлеба-то ноне удались? – единственно от жгучего стыда спросил Векшин, с досадой поймав себя на льстивом подражании деревенскому говору (Л. Леонов. Вор).
«Деревенская» речь самими носителями издавна воспринималась как менее ценная и даже менее красивая на фоне языка образованных горожан:
<…> они [барчата] разговаривали на особом, не деревенском языке – певучем, легком, приятном. Кузярь очень ловко передразнивал их, и даже голос у него пел звонко и чисто. Он называл их язык «благородным» (Ф. Гладков. Повесть о детстве).
Это противопоставление «деревенской» и «благородной», городской речи в ХХ столетии приобрело новые оттенки. Отрицательное отношение к языку деревни соответствовало идеологическому вектору эпохи: критика диалектов органично вписывалась в контекст негативной оценки всего «деревенского» как отсталого[72]. На общественное мнение о диалектной речи оказала значительное влияние точка зрения М. Горького, который считал, что писатель должен «писать по-русски, а не по-вятски» [Горький 1953: 388]. Тезис (сам по себе небесспорный), касавшийся языка художественной литературы, благодаря авторитету М. Горького и обыденному представлению о тождестве языка художественной литературы и литературного языка, подвергся расширительному толкованию: диалект как форма существования языка в целом был признан общественным мнением явлением бесперспективным и порицаемым. Эта идея, ставшая достоянием коллективного метаязыкового сознания, получила разнообразное отражение в текстах художественной литературы. В авторской речи могла быть выражена поддержка указанного мнения – как правило, через отрицательную оценку диалектной речи вообще или отдельных диалектных слов:
<… > например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно». По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы: – Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! (К. Паустовский. Золотая роза).
При этом другие диалектные слова могут получать у того же автора одобрение. Ср. там же:
Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанский областях, часть, конечно, непонятна и малоинтересна. Но попадаются слова превосходные по своей выразительности – например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоём» – горизонт.
В контексте обсуждаемого в настоящем параграфе вопроса важна принципиальная позиция автора (выражающего коллективное мнение): диалект нуждается в строгой оценке с позиции литературного языка, в квалификации и классификации элементов говора (какие-то признаются самобытными и выразительными, а какие-то – грубыми, неэстетичными, не имеющими права на существование). Ср.:
Существует вершина – чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами – подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных (К. Паустовский. Золотая роза).
Такое мнение основывается на представлении о диалекте не как о высокоорганизованной языковой системе, а как о «пережитке» давно ушедшего прошлого, своего рода «куче языкового старья», из которой можно выбрать несколько забавных вещей и даже полюбоваться ими, но в целом – все устарело и не имеет никакой ценности.
Вероятно, негативная общественная оценка местных говоров как «отсталой» формы языка послужила в ХХ веке одним из факторов вытеснения представления о диалектах на периферию коллективного метаязыкового сознания.
В конце XX – начале XXI вв. в общественном сознании актуализируются оппозиции «норма – свобода», «догматизм – творчество», «официоз – народность» и т. д. В оценке диалектной речи, тяготеющей ко второму полюсу перечисленных оппозиций, появляются новые оттенки: она противопоставлена литературному языку не только по признаку нормативности, но и по наличию болыпих экспрессивных возможностей. Ср.:
<…> всю жизнь изучая цветистые, избыточные русские говоры и диалекты, сама она говорила стертым голосом, стертыми словами, точно раз навсегда испугавшись всех этих народных художеств и противопоставляя им холодную петербургскую норму (Д. Быков. Орфография).
Нередки стали рассуждения авторов о территориальных диалектах как источнике обогащения современного русского литературного языка (Подобные идеи воплощены как в художественных текстах, так и в проектах «языкового расширения» [см.: Солженицын 1990]). Авторы текстов обращают внимание на диалектные лексические единицы, обладающие большей смысловой сложностью, нежели слова литературного языка:
– И сам не увлекайся, – Попугасов опять застрожился. <… > «Застрожился» – это нечто такое сибирское, емкое и отнюдь не адекватное расхожему «посерьезнел». В «областных» словарях есть много изумительных слов, которые нехудо бы ввести в русский литературный язык, с каждым годом теряющий эластичность. «Чё мшишься?» – спрашивает мужик мужика где-нибудь на Ангаре. Это означает: «Ну чего ты суетишься, нервничаешь, волнуешься, предаешься пессимизму, угрюмо смотришь в будущее и неласково на мир, когда мир прекрасен, будущее – светлое, пессимизм не имманентен русскому менталитету, волноваться – себе вредить, нервные клетки не восстанавливаются, и вообще все на свете есть суета и томление духа» (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
В целом сегодня для рядовых носителей языка территориальные диалекты не выглядят актуальной формой существования русского языка и не привлекают внимания «естественного лингвиста» в связи с оценкой социокультурной ситуации. Однако это не свидетельствует о том, что наш современник, в отличие от россиян предшествующих поколений, «не замечает» территориального варьирования языка. Дело в том, что сами традиционные народные говоры претерпели в последние десятилетия значительные изменения: в силу естественных причин резко уменьшилось количество носителей «чистых» диалектов; под влиянием литературного языка и городского просторечия утратились многие черты языкового своеобразия. И хотя говоры как объект научного исследования не потеряли своей привлекательности для лингвистов, ученые тем не менее отмечают, что в современных условиях актуализируется новая форма территориального варьирования языка – региолект [см.: Герд 2005: 23], сочетающий в себе черты диалекта и просторечия и бытующий не только в сельской, но и в городской местности. Яркие признаки речи, отличавшие носителей диалекта, нивелировались, и рядовые носители языка не оценивают диалект как самостоятельный идиом. Для такой квалификации «наивному лингвисту» необходимо наличие соответствующего «эмпирического материала» – непосредственно наблюдаемой группы людей, которая демонстрирует ярко выраженные особенности речи.
Гораздо чаще, чем диалектные различия, подмечаются «стихийными лингвистами» черты языкового своеобразия отдельных городов. Так, авторы художественных текстов неоднократно высказывали суждения о специфическом языке (преимущественно лексике) разных городов; ср.:
(1) Мы не знаем, как был создан одесский язык, но в нем вы найдете по кусочку любого языка. Это даже не язык, это винегрет из языка (В. Дорошевич. Одесский язык); (2) Если на гору шел один номер трамвая (в Харькове их вопреки здравому смыслу звали «марками»), то к развалинам вокзала, на Красноармейскую, поворачивал другой (Э. Лимонов. У нас была великая эпоха); (3) Он любил полуподвальные рюмочные, в питерском просторечии – низок (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны); Я действительно совсем ополоумела: после пытки тюремной камерой позволяю себе капризничать, кобениться и перебирать харчами, как сказали бы мои питерские друзья (В. Платова. После любви).
Таким образом, в массовом сознании существует убеждение в социальной и территориальной неоднородности языка. В то же время состав идиомов и границы между ними в «наивном» представлении не выглядят такими четкими, как в лингвистической теории. Эта нечеткость представлений получает свое отражение и в «размытой» семантике соответствующих метаязыковых терминов. При этом контексты употребления обозначений сленг, просторечие, жаргон, диалект, наречие и т. п. не всегда позволяют с полной определённостью сказать, в каких случаях их использование является осознанно метафорическим (то есть намеренно выводимым за границы осознаваемой лексической нормы), а в каких авторы понимают значение этих слов достаточно широко. Однако совокупность всех обнаруженных примеров употребления терминов позволяет выявить некие инвариантные значения рассматриваемых единиц, характерные для неспециального употребления. Видимо, их можно сформулировать следующим образом: а) для терминов сленг / жаргон / диалект – 'языковые средства, находящиеся за пределами обычной, привычной, «нормальной» речи'; б) для термина просторечие – 'обыденная, повседневная, простая речь – в отличие от более сложных форм речи, использующихся в особых случаях'. Налицо расхождение обыденного и терминологического значения, однако такое расхождение в семантике метаязыковых терминов свидетельствует не столько о «неправильности» наивно-лингвистических воззрений, сколько об их своеобразии.
Понятие «литературный язык» также получает своеобразную «наивную» интерпретацию, отличную от научно-лингвистической.
Специфическим показателем особенностей рефлексии является частотность соответствующих метаязыковых терминов. Поиск в Национальном корпусе русского языка (подкорпус художественных текстов) дает чуть более 40 вхождений на ключевые слова (в различных комбинациях) литературный язык, литературная речь, литературное слово и т. п. В то же время поиск по ключевым словам жаргон, сленг (и родственные им) дает 360 вхождений. В данном случае соотношение количественных данных свидетельствует не столько о равнодушии говорящих к литературному языку, литературной речи, сколько о том, что эта форма речи реже является «раздражителем», стимулом для метаязыковой рефлексии.
Анализ контекстов употребления сочетаний литературный язык[73], литературная речь, литературное слово позволяет установить круг представлений, связанных в коллективном сознании русских с понятием литературного языка / литературной речи. Эти представления можно соотнести с тремя видами суждений (эксплицитных и имплицитных), являющихся ответами на вопросы: 1) Что такое литературный язык? 2) Какими свойствами обладает этот язык? 3) Какая роль отводится ему в дискурсивной деятельности человека?
Итак, что такое литературный язык для коллективного метаязыкового сознания (отразившегося в текстах художественной литературы)? Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что выражение литературный язык в сознании говорящих устойчиво связано с художественной литературой: буквально литературный язык – это то же, что и язык художественной литературы. Ср.:
«Так началась его жизнь.» – написал я и остановился. Проклятье литературного языка, коварство повествовательного процесса тотчас дали о себе знать, как будто меня поймали с поличным (Б. Хазанов. Далекое зрелище лесов).
Очевидно, что в приведенном примере сочетание литературный язык обозначает язык, при помощи которого создается литературное произведение[74]. Регулярность соответствующих контекстов лишь отчасти обусловлена тем, что авторы анализируемых в данной работе метаязыковых комментариев – профессиональные литераторы; видимо, гораздо большее влияние на содержание понятия «литературный язык» оказывает прозрачная внутренняя форма прилагательного литературный (а литература для представителей русской культуры – это в первую очередь художественная литература)[75].
Литературный язык – это, в представлении «наивного лингвиста», язык культуры, цивилизации (1), он отличен от диалект а, противопоставлен ему (2), это эталон, высший уровень развития языка (3):
(1) <… > у моих ног лежал Федоров, молоденький солдат нашей роты, побывавший в Петербурге, хвативший цивилизации и выражавшийся почти литературным языком (В. Гаршин. Аясларское дело. НКРЯ);
(2) В «областных» словарях есть много изумительных слов, которые не худо бы ввести в русский литературный язык, с каждым годом теряющий эластичность. Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»); (3) Существует вершина – чистый и гибкий русский литературный язык (К. Паустовский. Золотая роза).
Каким же представляется литературный язык «естественному лингвисту»? Говоря о языке, авторы метаязыковых высказываний, как правило, имеют в виду «язык в действии», поэтому выражения литературный язык и литературная речь являются в рассматриваемых контекстах синонимами и обозначают речь. Прежде всего, литературный язык (речь) – это нечто совершенное, безупречное, рафинированное, заслуживающее высшей степени одобрения.
В художественных текстах традиционно часты эпитеты, которые указывают на эти качества:
Каждую неделю Ариадна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересные, написанные прекрасным литературным языком (А. Чехов. Ариадна); Прекрасная <… > статья, написана великолепным литературным языком, и очень полезная для всех нас (Борис Левин. Инородное тело); Вслушиваясь в образцово-литературную речь бывшего одноклассника, Карпов перебирал в уме события, которые могли бы так изменить человека (Е. Прошкин. Эвакуация. НКРЯ) и т. п.
Важнейшие признаки литературного языка (речи), которые осознаются «естественным лингвистом», – это чистота и правильность:
<… > но вопрос был задан на чистейшем литературном языке, и она ответила <… > (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды. НКРЯ); Великовозрастные германки не возбуждались от случайного прикосновения и не будили во мне воображение, потому что были чинны и благородны, как правильная литературная речь (И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя. НКРЯ).
Отмечаемое обыденным сознанием противопоставление литературного языка (как «высокого») и «обыкновенного» языка основано на коммуникативном опыте говорящего и на осознании необходимости подбирать адекватные теме языковые средства. Литературный язык неуместен при обсуждении «низких» тем (1), и напротив, есть темы, которые требуют использования литературного языка, противопоставленного «обычному» языку повседневного общения (2):
(1) <…> между тем предмет таков, что о нем, может быть, вовсе невозможно рассказывать благопристойным литературным языком (Б. Хазанов. Праматерь); (2) Я испугался того, что меня все присутствующие <… > не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d'honneur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о «пункте чести» не упоминается (Ф. Достоевский. Записки из подполья).
Во всех рассмотренных примерах обращает на себя внимание характер атрибутивных распространителей словосочетания литературный язык. Известно, что определение чаще всего выполняет «ограничительную функцию, выделяя обозначенный им предмет из ряда однородных» [Кручинина 1990: 349], использование распространителя-определения в таких случаях подразумевает, что существует целый класс однородных предметов, в их числе – и предметы, противопоставленные по признаку, названному определением (ср.: хорошие стихи – следовательно, бывают и плохие стихи; сложное предложение – значит, есть и простое предложение; деревянный дом – соответственно где-то существует кирпичный дом и т. д.). Однако определения к сочетанию литературный язык явно играют иную роль. Ср.: благопристойный литературный язык, чистая литературная речь при явной аномальности выражений ^непристойный литературный язык, *грязная, засоренная литературная речь; можно даже сказать послал их к черту на прекрасном литературном языке (А. Азольский. Глаша), но невозможно послать к черту на *ужасном литературном языке, *плохом литературном языке.
Все определения к сочетанию литературный язык обязательно выражают мелиоративную семантику – они выполняют так называемую описательно-распространительную функцию, при которой «предмет может получать дополнительную, часто оценочную характеристику (дорогая сестра, милые друзья)» [Кручинина 1990: 349]. Исследователи народно-поэтического творчества отмечали, что такие «распространительные» определения могут выступать «как интенсификаторы значения существительного: в этом случае прилагательное в определении экспрессивно повторяет лексическое значение определяемого» [Там же]. Однако подобные «интенсифицирующие» определения, в которых повторяется (и усиливается, акцентируется) семантика определяемого компонента, возможны не только в фольклорном дискурсе. Как показывают рассмотренные выше примеры, семантика определяемого литературный язык может предъявлять особые требования к распространению качественными прилагательными: они должны подчеркивать и усиливать элементы значения определяемого. Следовательно, есть основания утверждать, что понятия «литературный язык», «литературная речь» в сознании «естественного лингвиста» обладают оценочно-характеризующими компонентами, которые эксплицируются в естественной речи при помощи «интенсифицирующих» определений общеоценочной и частно-характеризующей семантики хороший, великолепный, отличный, прекрасный, чистый, образцовый, отличный, гибкий, правильный, благопристойный и т. п.
Если в терминологическом значении прилагательное литературный (как определение к словам язык, речь, слово, выражение) является относительным, то в обыденном метаязыке оно стремится к «качественности»: об этом свидетельствуют не только очевидные мелиоративные коннотации, но и целый ряд формальных показателей: возможность образования краткой формы (1), сочетание с показателями степени выраженности признака (2), образование форм сравнительной степени (3), образование качественных наречий на-о, которые, в свою очередь, функционируют в формах сравнительной степени (4):
(1) <…> я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива (А. Чехов. Скучная история); (2) Однако, нынче это слово – довольно литературное (Ф. Сологуб. Капли крови (Навьи чары); <… > выражавшийся почти литературным языком (В. Гаршин. Аясларское дело. НКРЯ); (3) Сам Штааль намеревался писать свои мемуары столь же чувствительно и тонко, но гораздо более литературным, отборным и благородным языком (М. Алданов. Девятое термидора); (4) А что тогда Ловеласом-то он меня назвал, так это все не брань или название какое неприличное: он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит проворный малый, и если покрасивее сказать, политературнее, так значит парень – плохо не клади – вот! а не что-нибудь там такое (Ф. Достоевский. Бедные люди); Эту мысль надо бы выразить литературнее (М. Алданов. Девятое термидора) и т. п..
В суждениях (и вербализованных, и имплицитных) о литературном языке / речи авторы комментариев, как правило, дистанцируются от этой формы (разновидности).
Во-первых, субъект речи никогда не приписывает себе владения литературным языком. Как литературная оценивается чужая речь, но не собственная. Говорящий (пишущий) субъект может пытаться взаимодействовать с этим языком (и тогда язык диктует свои условия; ср.: проклятье литературного языка, коварство повествовательного процесса тотчас дали о себе знать); человек может стремиться писать (но не «уже» уметь писать) более «литературно» (см. выше примеры из текстов А. Чехова, М. Алданова).
Во-вторых, литературный язык ощущается как далекий от повседневной жизни, «книжный» и, хотя и правильный, но чуждый «обычному» языку. Ср.:
Итак, мои грибные воспоминания начинаются воспоминаниями о маслятах. Кажется, правильно, по-книжному, их называют масляниками, но я никогда к этому не привыкну. Маслёнок, маслята, маслятки – зачем им какое-нибудь другое название? (В. Солоухин. Третья охота); Редкое удовольствие собирать челыши. Так у нас называют подосиновики, или более правильно, более по-книжному – осиновики. <…> Случай исключительный, пожалуй, даже единственный из всех грибов. В самом деле, рыжик, будь он хоть с гривенник, будь он хоть с чайное блюдце, все равно – рыжик. <…> И лишь молодой подосиновик называется по-другому – челыш. <…> подосиновик молодой и подосиновик взрослый это действительно как два разных гриба <…> (Там же).
Признавая правильным «книжный» вариант[76], автор предпочитает использовать в собственной речи «менее правильные» масленок, подосиновик. В этом и подобных примерах обнаруживается одна из антиномий обыденного метаязыкового сознания: с одной стороны, признается наличие (а в целом декларируется приоритет) языковой «правильности», а с другой стороны, при порождении речевого высказывания предпочтение отдается не «правильному», а «привычному».
Вообще, видимо, для обыденного сознания характерно противопоставление двух разновидностей «правильного»: «правильное-идеальное» (нечто эталонное, к чему нужно стремиться, но принципиально невозможно достичь) и «правильное-для-жизни» (правила, которыми следует руководствоваться на практике и которые чаще всего не совпадают с представлением об идеале). Применительно к использованию языка данная оппозиция может выглядеть как противопоставление кодифицированной литературной нормы и привычного (пусть и отклоняющегося от нормы) способа употребления языковой единицы, который признается правильным потому, что «все так говорят».
В-третьих, в светлом поле сознания «наивного лингвиста» постоянно находится идея об «утрате», «гибели» литературного языка. Ср. презумпцию 'литературный язык утрачивается', которая регулярно реализуется как подразумеваемая база в высказываниях различных авторов:
<… > он вдруг осознал, что читать можно лишь те издания, которые прежде одним своим видом вызывали у него зевоту, то есть старые газеты и журналы, сохранившие свои прежние, советские названия. Их авторы сохранили понятие о литературном языке, о стиле и не страдали дефицитом словарного запаса (А. Белозеров. Чайка. НКРЯ); Если бы это [непристойность] сказала его первая учительница, Фома удивился бы меньше; он замер, как памятник погибающей чистой литературной речи (С. Осипов. Страсти по Фоме).
Таким образом, литературный язык для обыденного сознания (в отличие от сознания профессионального лингвиста) вовсе не является центром социальной модели языка. Это язык скорее «редкий», чем привычный. Высказываемый отечественными лингвистами тезис о «литературноцентризме», «художественноцен-тризме» (выдвижение литературного языка и художественной речи в центр картины языкового мира) как об одной из базовых презумпций обыденного метаязыкового сознания [Голев 2008 б: 20; Лебедева 2009 а: 313–314] нуждается, на наш взгляд, в существенном уточнении: при безусловно высокой оценке литературного, книжного языка как правильного, красивого, «культурного» он не становится центром обыденной модели языка и даже не становится наиболее авторитетным вариантом.
Для «стихийного лингвиста» литературный язык – это не только и не столько социальный вариант общенародного языка, использующийся определенной группой носителей, сколько оценочная характеристика образцовой речи, которая ассоциируется с рафинированной культурой и, в первую очередь, с художественной литературой, а также может быть дана «в непосредственном наблюдении» в текстах публицистических жанров, в эпистолярных произведениях, в устном разговорном дискурсе[77]. Автор метаязыкового комментария в художественном тексте всегда соблюдает некую дистанцию по отношению к литературному языку.
Литературный применительно к языку (речи) означает в целом 'хороший, лучший'; это положительное качество, которое может проявляться в большей или меньшей степени, а также при необходимости усиливаться (ср.: надо бы выразить литературнее).
Центральную позицию в обыденной модели общенационального языка занимает та разновидность языка / речи, с которой рядовой носитель языка имеет дело ежедневно и которая обслуживает его насущные коммуникативные потребности. Выше отмечалось, что иногда такую разновидность языка называют просторечие, актуализируя внутреннюю форму данного слова – 'простая речь, без усложнений'. Однако чаще для его обозначения используют «нетерминологические термины» обычный, нормальный, человеческий[78] язык. Ср.:
– У собаки инстинкт, то есть на обычном языке – привычка, – поглядывая краем глаза на Дудырева, внушительно принялся объяснять Митягин (В. Тендряков. Суд. НКРЯ); Я не готовился выступать, я буду говорить не по бумажке, нормальным языком (С. Алексиевич. Цинковые мальчики. НКРЯ); – Стибрили? / – Сбондили? /
– Сляпсили? / – Спёрли? / – Лафа, брат! / Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: украли, а лафа — лихо! (Н. Помяловский. Очерки бурсы).
При этом в соответствии с особенностями «обыденной» лингвистики эти термины недифференцированно обозначают и язык, и речь, в которой он реализуется.
«Нормальный» язык – это немаркированная, основная форма речи, которая противопоставлена иным, маркированным формам, используемым в особых случаях: официальному дискурсу (1), специальной речи (2), социально маркированной (3) и территориально ограниченной речи (4):
(1) <… > она «нанесла директору несколько ударов тупым предметом по голове», говоря нормальным языком, обломала об него стул (В. Доценко. Срок для Бешеного. НКРЯ); (2) «Произвольные параметры» в переводе на человеческий язык – это все, что в голову взбредет (Г. Гуревич. Нелинейная фантастика. НКРЯ); (3) Ты, Эдик, человек умный, а поэтому, если тебя мое мировоззрение заинтересовало, то я не буду по-жигански мурчать блатные истины. Расскажу нормальным человеческим языком (А. Ростовский. Русский синдикат.