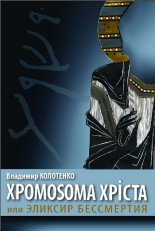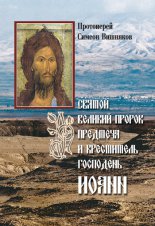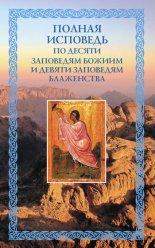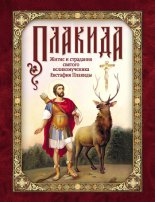Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы Шумарина Марина

НКРЯ); (4) <…> говорю я на обычном русском языке, без какого-либо заметного акцента, присущего определенному региону страны или ближнего зарубежья <…> (О. Гладов. Любовь стратегического назначения. НКРЯ).
В различных контекстах употребления актуализируются те или иные компоненты семантики, связанные в обыденном сознании с понятием «обычного» языка. Во-первых, это язык, который понятен большинству носителей[79] (1) и не отклоняется от того, что принято считать нормой (2):
(1) Чартер является наиболее распространенным видом такого договора, оформляющего перевозку в трамповом (бродячем), то есть нерегулярном, нелинейном судоходстве. Говоря более человеческим языком, когда работаешь по тайм-чартеру, не знаешь времени возвращения в родной порт, не знаешь, куда пойдешь из очередного порта (В. Конецкий. Начало конца комедии. НКРЯ); (2) – Много видели, да мало знаете, а что знаете – так держите под замочком, – сказала она на нормальном русском языке, как в школе на уроке литературы (В. Конецкий. Вчерашние заботы).
Во-вторых, «нормальный» язык – это язык, на котором говорят о самых обычных для человека вещах:
Об этих. ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. <…> А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи (Вен. Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. НКРЯ).
Наконец, это речь, которая лишена иносказательности и уловок (1) и восприятие которой не затруднено излишней замысловатостью формы (2):
(1) – А в то же время – определенные круги на Западе его имя используют в неблаговидных целях… / – Ох, не надо про «определенные круги на Западе», – сказала мама. – Не надо про «неблаговидные цели». Это уже не человеческий язык (Г. Владимов. Не обращайте вниманья, маэстро. НКРЯ); (2) <…> на шум вышел из дому сам Чмоков Хозяин. / – Мой четвероногий друг, не будешь ли ты так добр кратко изложить мне причины этого с трудом выносимого нарушения тишины? – сказал Хозяин. Конечно, не всякий догадался бы, что все это значит, но Чмок привык к тому, как выражается Хозяин, и он сразу перевел его слова на простой человеческий язык. Получилось: / – Ты что тут шумишь? / – Я кошку прогоняю, – ответил Чмок и залаял вдвое громче. / – Прогоняешь Кошку? – удивился Хозяин. – А каковы мотивы этих странных действий, мой юный друг? / В переводе на простой человеческий язык это означало: / – А зачем? (Б. Заходер. Сказки для людей. НКРЯ).
Особое, центральное положение «обычного» языка в обыденном метаязыковом представлении подтверждается и тем обстоятельством, что в сознании носителя именно этот язык имеет статус «первичного» кода. В тех случаях, когда адресат воспринимает речь на одном из «вторичных» кодов (маркированные разновидности языка – социальный или территориальный диалект, профессиональная речь и т. п.), ему требуется обязательное перекодирование средствами «обычного» языка[80]. Ср.:
<…> в целях принятой в телефонных разговорах предосторожности он докладывал сложившуюся к исходу дня обстановку на замысловатом армейском арго, Бессонов легко переводил его доклад на обычный язык (Ю. Бондарев. Горячий снег); Их просто-напросто бросил наш конвой, когда они шли к вам. Наше милое адмиралтейство приказало командиру конвоя предоставить транспортам «право самостоятельного плавания». В переводе на нормальный язык это означает: «Спасайся кто может!» (Ю. Герман. Дорогой мой человек).
Итак, общенациональный русский язык представлен в обыденном метаязыковом сознании совокупностью вариантов (см. схему 3 на с. 154).
Основным вариантом выступает обычная, повседневная и общепонятная, «обычная» речь («обычный», «нормальный», «человеческий» язык), которую часто называют просторечием, хотя содержание этого понятия не равно содержанию лингвистического термина просторечие. «Обычный» язык – это немаркированная, основная форма повседневной речевой коммуникации рядовых носителей языка, допускающая индивидуальное варьирование, которое обусловлено личным опытом говорящего. «Обычный» язык – это наиболее понятная, ясная форма речи, и представление об этой форме как «первичном коде» соотносится с идеей внутриязыкового перевода сообщений, созданных во «вторичном» коде, на «нормальный» язык.
Схема 3
Научная и наивная модель социальной дифференциации языка
Научная модель Наивная модель
Основному варианту противопоставлены, с одной стороны, усложнённые формы речи, используемые в особых случаях (официальная, научная, профессиональная, философская, торжественная и др.), а с другой, – более грубая, жаргонизированная речь. Такое противопоставление органично вписывается в наивную картину мира, поскольку «в рамках наивной эпистемологии часто… «заумное» противопоставляется «простому и понятному»» [Кашкин 2008: 30].
Отличается от «обычного» языка (речи) и литературный язык (речь), которая занимает в системе коммуникативных вариантов особое место – это образцовая, правильная, красивая речь, вызывающая одобрение. Само прилагательное литературный в сочетании литературный язык используется как качественное, обозначая признак речи, который может быть ей присущ в большей или меньшей степени. Литературный язык – это безусловная ценность, оазис чистоты, предмет гордости и восхищения, некое совершенство, однако подверженное опасности утраты, забвения.
Осознание того, что родной язык представлен в действительности целым рядом вариантов, разновидностей, побуждает «естественного лингвиста» к рефлексии о своеобразном «билингвизме» носителей языка, которые в разных ситуациях переключаются с одного кода на другой, осуществляют перекодирование информации, чтобы сделать сообщение более понятным для себя (или своего адресата). Некоторые наблюдения над таким «билингвизмом» весьма тонки и метки. Ср.:
По сей день выстрел для меня не громкий звук огнестрельного оружия, а рангоутное дерево, поставленное перпендикулярно к борту; беседка – не уютная садовая постройка, а весьма неудобное, шаткое висячее сиденье; кошка в моем представлении, хотя и имеет от трех до четырех лап, является отнюдь не домашним животным, но маленьким шлюпочным якорем. С другой стороны, если, выходя из дому, я спускаюсь по лестнице, на бульваре отдыхаю на скамейке, а придя домой, разогреваю чай на плите, то, стоит мне попасть на судно (хотя бы и мысленно), эти предметы сразу превращаются в трап, банку и камбуз соответственно. Поразмыслив над этим, я решил было вовсе изгнать все морские термины из своего лексикона, заменив их теми словами, которые с давних пор существуют в обычном нашем живом языке. Результат, однако, получился весьма нежелательный: первая же лекция, прочитанная мною в соответствии с принятым решением, доставила много ненужных огорчений как мне, так и моим слушателям. Начать с того, что лекция эта продолжалась втрое дольше против обычной, ибо оказалось, что в морском языке есть немало терминов, вовсе не имеющих замены. Я же, не желая отступать от принятого решения, каждый раз пытался заменить эти термины их пространными толкованиями (А. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля).
В приведенном рассуждении затронут ряд сугубо лингвистических и психолингвистических вопросов. Так, обращается внимание на то, что структура тезауруса языковой личности связана с индивидуальным, в том числе профессиональным, опытом человека: при назывании многозначного слова (или одного из слов-омонимов) первыми актуализируются значения, наиболее значимые для данной личности. Действительно, как отмечают специалисты, «добываемые в соприкосновении с внешним миром знания и впечатления перерабатываются на разных уровнях индивидуального сознания, превращаясь в «глубинные» и «поверхностные» познавательные структуры» [Дридзе 1980: 110], и своеобразие этих структур обусловлено характером опыта личности. Поэтому «механизм восприятия может носить индивидуальный характер, т. е. в большой степени зависеть от индивидуального опыта реципиента» [Леонтьев 1997: 134]. Поэтому для профессионала «обычный» язык, о котором говорилось выше, обладает «смещенным центром тяжести»: для моряка «первичным» кодом, определяющим зону ближайших ассоциаций, является специальная, «морская» речь.
Использование в разных ситуациях параллельных наименований (лестница – трап, скамейка – банка, плита – камбуз) свидетельствует о способности носителя языка к переключению с одного кода на другой.
Интересно и соображение персонажа об отказе от одного из кодов. Нередко для носителя обыденного сознания характерно представление о том, что существование многих кодов (разные языки, стилевая дифференциация, социальные и территориальные разновидности языков) – это отрицательное явление, которое является досадной помехой взаимопониманию и может быть при желании устранено каким-либо способом (например, созданием искусственного международного языка или выбором одного языка общения). Бывший моряк и преподаватель навигации Х. Вругнель решается на лингвистический эксперимент – отказывается от профессиональной лексики, но сталкивается с последствиями, которые неизбежны при устранении из общения одного из языков. Сразу обнаруживается лакунарность «обычного» языка в сравнении с профессиональным. Отсутствие необходимого термина заставило лектора прибегнуть к пространным толкованиям, что не только удлинило лекцию, но и затруднило ее восприятие. Как видим, в художественном тексте в виде рассказа о забавном случае выражено представление «стихийного лингвиста» об оправданности существования функциональных разновидностей языка, о невозможности полной эквивалентности средств выражения в разных языковых вариантах, о коммуникативной целесообразности выбора тех или иных языковых средств.
Тексты современной литературы свидетельствуют также о том, что разнородные языковые элементы в речи одного говорящего перестали выглядеть эклектично. Таким образом, рядовые носители языка заметили и закрепили в метаязыковых суждениях одну из тенденций развития современного русского языка – стремление социальных диалектов к превращению в регистры, то есть такие варианты языка, которые различаются не «по использователю», а «по использованию» [Вахтин, Головко 2004: 45].
2.3. Лингвистический миф
В общем употреблении мифом называют «вымысел, измышление; ложь» [БТС: 546]; Филология и история издавна пользуются термином «миф», обозначающим «древнее народное сказание о богах и обожествлённых героях, о происхождении мироздания и жизни на Земле» [Там же]. Миф как вымысел противопоставляется «истинному» знанию и осмысливается как «достояние «темного», «неразвитого», «непросветленного» сознания» [Гудков 2009: 79]. В современных гуманитарных науках под мифом понимается сложный феномен общественного сознания – «не подвергаемая рефлексии[81] высшая истина, личностно и конкретно переживаемая индивидом, объясняющая ему мир и задающая модели поведения в этом мире, она почти непроницаема для эмпирического опыта и «чистой» логики» [Гудков 2009: 80]. Приведенному определению отвечают и развернутые нарративы, и лаконичные суждения типа У бабы язык длинный, а ум короткий, и невербализуемые представления, которые оказывают влияние на поведенческий выбор членов социума.
Современное научное знание трактует миф как «диалектически необходимую категорию сознания и бытия вообще» [Лосев 1991: 25]. «Вымышленность» рассматривается как возможный признак мифа, но не обязательный и не главный; более того, вымысел в структуре мифа может носить неосознанный характер [Кассирер 1998: 526]. Мифологизированность / иррациональность, с этой позиции, выглядит как конститутивный признак обыденного сознания, противопоставляющий его рациональному, научному сознанию. Мифологическое мышление свойственно не только обществам с неразвитой наукой – «в современных обществах мифологическое сознание интегрировано в сложную структуру когниции, являясь ее существенной частью» [Резанова 2009 а: 129]. Анализируя особенности «первобытного» способа мышления, Н. В. Крушевский замечал, что «те же самые особенности причастны, хотя и не в равной мере, уму современному» и что «их нельзя считать логическими заблуждениями, аномалиями мыслительного процесса, а напротив, совершенно естественными результатами младенческого ума» [Крушевский 1998: 27]. Таким образом, мифологичность – естественное свойство обыденного сознания [см.: Улыбина 2001].
Миф выполняет целый ряд социально важных функций: «1) объясняет человеку окружающий мир и его самого, 2) санкционирует и поддерживает существующий порядок в том его виде, в котором он отражен в мифе, 3) задает парадигму социального и индивидуального поведения (обязательные, желательные, нежелательные, запрещенные действия)» [Гудков 2009: 80; см. также: Савинов 2009: 78].
Элементы мифологического сознания воплощаются как в соответствующих «сюжетах», так и в семантике языковых единиц [Мазиев 2000], являясь частью языковой картины мира. Исследователями неоднократно отмечалась важность обращения к данным языка при реконструкции целостной картины архаического миросозерцания [Журавлев 2005].
Итак, в данной книге под мифом понимается обыденное представление, для которого характерен ряд признаков. Прежде всего, мифологическое представление, как правило, является упрощенным и схематизированным, поскольку основано не на детальном и всестороннем анализе явления, а на опыте восприятия внешней стороны явления (на освоении результатов коллективного опыта) и на абсолютизации отдельных аспектов этого явления. Мифологическое упрощение достигается двумя способами: а) гипертрофируется один аспект явления, один признак объекта и т. п. и при этом не учитываются другие (например, стереотипное представление о женской болтливости, выраженное в пословице Не ждет баба спросу – сама все скажет, игнорирует существование женщин, обладающих сдержанным, скрытным характером); б) формируется «многослойный» образ-миф, отдельные составляющие которого четко не дифференцированы, границы диффузны, понятийная составляющая размыта, но актуализированы коннотации[82] (например, миф о сложности и непостижимости русского языка для иностранцев, как правило, не включает в свой сюжет мотивов, которые четко объясняли бы, в чем состоит особая трудность русского языка в сравнении с иностранными).
Вторая особенность мифологического представления состоит в том, что оно не нуждается в логическом обосновании и не стремится к научной достоверности (как вариант – в ряде случаев принимаются «наукообразные» аргументы[83], для мифа важна не правда, а правдоподобие с точки зрения обыденного сознания). Миф предполагает полное доверие, веру. Как отмечал А. Ф. Лосев, «миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность» [Лосев 1991: 23–24]. Вследствие этого миф в определенном смысле – искажение реальности: практически о любом из мифологических суждений можно сказать, что это неправда. Однако «неправда» мифа не препятствует обыденной деятельности, а напротив, задает ей необходимое направление.
Третья особенность мифологического представления заключается в его эклектичности. Если научное знание континуально, системно и логично[84], то миф принципиально дискретен и эклектичен: его отдельные мотивы не вытекают один из другого, могут противоречить друг другу и при этом сосуществовать в одном индивидуальном сознании. Так, мифологическое представление о превосходстве русского языка над другими языками, его силе, могуществе и богатстве сочетается в обыденном сознании с представлением о «слабости» языка, угрожающей ему «порче», о необходимости его «защиты». Противоречащие друг другу мотивы мифа в обыденном сознании не вступают ни в отношения противопоставления, ни в отношения комплементарности (в отличие от альтернативных научных концепций) – они существуют независимо друг от друга, и их противоречивость не осознается мифоносителем.
Не совпадая в полной мере с реальностью, миф, однако, отличается и от обычной, бытовой выдумки тем, что имеет определенные культурные последствия: влияет на общественное сознание и поведение, отражается в коллективном (фольклорном) и индивидуальном творчестве. Миф приобретает прецедентность: он более или менее широко известен в социуме, поддерживается его членами, цитируется. Важной характеристикой мифа является его сознательная поддержка социумом, «достраивание» и развитие. Направление такого «достраивания» можно с большей или меньшей вероятностью прогнозировать, учитывая социальные ожидания текущего момента: [см.: Савинов 2009: 79].
Обыденное метаязыковое сознание включает в себя целый ряд лингвистических мифов, касающихся различных аспектов существования, функционирования, изучения языка. Можно сказать, что в коллективном метаязыковом сознании язык в целом представлен в виде некой мифологемы[85].
Лингвистический миф, являясь совокупностью обыденных представлений о языке, может быть представлен в виде отдельных суждений (эксплицитных или присутствующих в виде импликаций). Эти суждения далеко не всегда основаны на вымысле, но они всегда представляют собой некое упрощение реального положения дел, абсолютизацию одного из свойств объекта. В этом смысле понятие мифа пересекается с понятием стереотипа[86].
Таким образом, лингвистический миф – это некий «сюжет», который может состоять из отдельных «мотивов»[87]. Такие «мотивы» представляют собой стереотипы обыденного сознания. Мифы элементарной, несложной структуры могут состоять из одного стереотипа / мотива.
Мифы обыденного сознания, связанные с языком / речью, неоднократно обращали на себя внимание исследователей [см.: DufVa, Lahteenmaki 1996; Мечковская 1998; Ляхтеэнмяки 1999; Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000; Кашкин 2002; 2007 а; 2007 б; 2008; 2009; Гудков 2009; Милославский 2009 и др.]. Отдельный интерес для ученых представляют мифы «любительской лингвистики» [Зализняк 2000; 2009; Базылев 2004; 2009]. Кроме того, стереотипные представления, составляющие лингвистическую мифологию, описывались языковедами как повторяющиеся ошибки, устойчивые заблуждения [напр.: Еськова 2001].
Специалисты находят основания не только говорить о мифах применительно к обыденному метаязыковому сознанию, но и считать любые обыденные представления о языке в той или иной степени мифами: «Представления о языке, слове, действиях со словами обладают качествами мифа, поскольку а) являются элементом общественного сознания и разделяются практически всеми членами социума; б) являются коллективным бессознательным, точнее, не до конца эксплицитно осознанным; в) выполняют регулятивную функцию; г) являются средством «быстрого реагирования», стерео-типизации действий; д) являются потенциальным нарративом, то есть могут быть выражены вербальными прото-теориями; е) метафоричны по способу репрезентации» [Кашкин 2007 а: 101; 2008: 37–38]. Термин «повседневная (бытовая, обыденная) философия языка», в понимании ряда ученых, означает именно «системы мифологем, организующих жизнь и деятельность индивида в языке и с языком (языками)» [Дуфва, Ляхтеэнмяки, Кашкин 2000: 82; см. также: Кашкин 2002; 2009].
Лингвистический миф, как и иные метаязыковые представления, может изучаться двумя способами: 1) интерпретация эксплицированных метаязыковых суждений и 2) реконструкция на основе данных речи глубинных представлений о языке (в том числе не осознаваемых самим носителем).
Анализ метаязыковых суждений в художественных текстах позволяет увидеть разнообразие лингвистических мифов и предложить их типологию. Прежде всего, мифологические мотивы[88] можно разделить на «лингвофилософские» и «практические»[89]. К «лингвофилософским» мотивам в наибольшей степени применимы термины В. Б. Кашкина «бытовая философия языка» [Кашкин 2002] и «обыденная философия языка» [Кашкин 2009][90].
Эти мотивы призваны объяснять языковую реальность, они охватывают наиболее общие вопросы происхождения, сущности, развития языка, утверждают сакральные свойства языка и отдельных единиц, охватывают вопросы соотношения языка и действительности, языка и сознания, языка и культуры, особенностей различных языков, превосходства родного языка над всеми остальными и т. п. Ср. один из таких мотивов, восходящий к идеям В. Гумбольдта и подвергшийся в «наивном» сознании, с одной стороны, упрощению, а с другой, – поэтизации:
<…> всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово (Н. Гоголь. Мертвые души).
К таким «лингвофилософским» мифам относится, например, отраженное во многих текстах представление о том, что в действительности (в той или иной культуре) существуют только те явления, которые обозначены специальным словом. Ср.:
Любая обозначенность сообщает обозначенному статус существования: каждое новое название увеличивает число объектов, втиснутых в данный объем пространства <…> Назови объект – и он возникнет, а не называй – нет объекта! (Е. Клюев. Андерманир штук).
Если в языке обнаруживается лексическая лакуна, то делается вывод о том, что и означаемое в данной культуре отсутствует. Так, различные авторы неоднократно обращали внимание на отсутствие в русском языке эквивалента английского слова privacy. Ср.:
Ни одна американка не позволит себе прочесть чужой дневник. Нарушение privacy. Фурман как-то сказал ей, что слово «privacy» не переводится на русский (И. Муравьева. Документальные съемки).
Нередко в художественных и в публицистических текстах непереводимость этого слова на русский язык интерпретируется как отсутствие в русской культуре такой ценности, как неприкосновенность личной сферы: нарушение границ этой сферы у русских обсуждать не принято, поэтому в лексиконе нет соответствующего слова. Безусловно, это упрощенное представление (а упрощение и есть первый признак мифа), так как категория персональной сферы в русской картине мира все-таки существует, как существует и отрицательное отношение к насильственному вторжению в эту сферу (ср. выражение лезть в душу). Исследования показывают, что русскому коммуникативному сознанию в полной мере свойственна так называемая «негативная вежливость» [Brown, Levinson 1987], которая «выражает дистанцированную позицию, то есть подчеркивает независимость личности, ее потребность в неприкосновенности территории» [Райтмар 2003: 21]. Более того, разнообразные этические и этикетные аспекты «негативной вежливости» отразились в семантике и прагматике целого ряде лексических единиц русского языка (тактичный, деликатный, бесцеремонный, навязчивый и т. п.), то есть получили воплощение в самой глубинной сфере «наивной» лингвистики [см.: Крылова 2004]. Ср. контекст, из которого видно, что, несмотря на отсутствие слова, само чувство «приватности» свойственно носителю русского языка:
Он старается плечом загородить от соседа страницу. Тот больше вытягивает шею, прямо затылком чувствуешь, как он напрягся. Вот нахал! Читающий возмущён: он чувствует, как в нём растёт, раздувается чувство оскорблённой «приватности» («privacy» – английское слово, не имеющее русского эквивалента). А вот взрослый человек в силу необходимости проталкивается сквозь толпу. И снова в нём бушует оскорблённая «privacy». Он почти ненавидит окружающие его плечи, локти, головы (И. Грекова. Знакомые люди).
«Практические» мотивы касаются вопросов использования языка – это мифы-инструкции, которые не только объясняют устройство языка, но и дают рекомендации: как нужно его использовать, какого отношения к языку можно требовать от носителей и т. п. Среди таких мифов-инструкций можно выделить несколько типов: а) ортологические, в) лексикографические, г) лингводидактические, д) металингвистические.
К ортологическим мифам относятся всевозможные «правила» употребления языковых единиц в устной и / или письменной речи. Так, к ортологическим относится «литературноцентрический» миф, который представляет собой «отождествление всего русского языка и литературной нормы» [Лебедева 2008: 309]. Отсюда выражение Нет такого слова, если такого слова нет в литературном языке. Ср.:
– Если я вас подвел, – выдавил он из себя с трудом, – то я извиняюсь!.. / – Нет такого слова, – буркнул Волков, – в природе не существует. / – Какого? – не понял Игорь. / – Извиняюсь. Такого слова нет, по крайней мере, в русском языке. Можно сказать: «извините» или «прошу прощения» (Т. Устинова. Там, где нас нет).
Многие из ортологических мифов связаны с явлением гиперкоррекции («сверхправильности»), которое характерно для носителей просторечия [см.: Крысин 1989: 61]. Одним из источников гиперкоррекции является представление об абсолютной симметрии означающего и означаемого, согласно которому слово должно иметь одно значение, а употребление его в других значениях нарушает «правильность» и логичность языка. Примеры подобных мифов гиперкоррекции приводятся в статье Н. А. Еськовой «Тоже мне профессор: пинжак через Д пишет…» [Еськова 2001] (здесь соответствующие суждения рассматриваются как ошибки). Так, автор среди целого ряда некорректных утверждений носителей языка цитирует и такое:
<…> в последнее время самым расхожим оскорблением слуха стала фраза, употребляемая буквально во всех средствах массовой информации: «в этой связи». Ну как объяснить многочисленным пустобрехам бессмыслицу подобного словосочетания? Что продолжить свою мысль можно только «в связи с чем-то»?! (журналист А. Бурыкин).
Утверждение о ненормативности выражения в этой связи является одним из наиболее живучих ортологических мифов. Ср. аналогичный мотив в тексте современной беллетристики:
– Моя бабушка тоже учительница русского, – сообщила она. – Много лет в школе проработала. Заслуженный учитель России. Она на пенсии давно, и уже. совсем старенькая. Но она меня тоже всегда поправляет. Она иногда не помнит, как меня зовут, но помнит, что говорить «в этой связи» нельзя. Нужно говорить «в связи с этим»! / – «В этой связи» – это когда «кто-то состоит в этой связи уже давно», – с поучительной интонацией сказала Татьяна Ильинична и засмеялась… (Т. Устинова. Отель последней надежды).
Подобные «наивные» рекомендации основаны на глубинном мифологическом представлении о симметрии языкового знака, о ненормативности формального и семантического варьирования языковой единицы[91]. Выражение в этой связи не может использоваться как вариант выражения в связи с этим, так как за ним уже «закреплено» другое значение – когда «кто-то состоит в этой связи уже давно»[92].
Среди ортологических мифов-инструкций есть и такие, которые не являются абсолютным искажением нормативной рекомендации (их можно назвать полумифами). В таких мифологических сюжетах можно условно выделить две смысловые части: собственно рекомендацию и ее мотивировку, то есть объяснение, почему нужно говорить так, а не иначе. При этом рекомендация является вполне корректной, а мотивировка носит мифологический характер[93]. Так, Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв, приводят (в качестве примера обыденного представления о языке) распространенное мнение о том, что ««невежливо» вместо извините говорить извиняюсь, потому что это значит 'извиняю себя'» [Булыгина, Шмелёв 1999: 148]. Данное положение авторы статьи иллюстрируют следующими примерами:
Наступившему на мозоль нельзя говорить извиняюсь (т. е. извиняю себя). Надо сказать: извините меня или простите; ведь пострадавшему не будет легче или приятнее, что вы сами себя извиняете в неуклюжестве» (А.Куприн); …в слове «извиняюсь» есть что-то раздражающее: ведь оно может означать только «извиняю себя», то есть, например, «считаю нормальным, что я вас толкну»… (Б. Тимофеев).
Метаязыковой комментарий о выражении извиняюсь (в перформативном употреблении) состоит, таким образом, из двух частей: 1) утверждения о нежелательности употребления формы извиняюсь и 2) объяснения этой нежелательности тем обстоятельством, что извиняюсь означает 'извиняю себя' (то есть постфикс-ся придает этой словоформе собственно-возвратное значение).
Не останавливаясь на истории этой формы [см., напр., об этом: Скворцов 1980] и не повторяя аргументов против «мифологической» интерпретации ее семантики (они очевидны для языковеда), обратим внимание на источник утверждения о том, что извиняюсь значит 'извиняю себя'. Этот источник кроется в уже упоминавшемся обыденном представлении, что у слова (и, видимо, любой языковой единицы) должно быть лишь одно «буквальное» значение. А в системе значений постфикса-ся «буквальным» является именно собственно-возвратное значение – 'направленность действия на субъекта этого действия'. Другие значения (взаимно-возвратное, обще-возвратное, косвенно-возвратное, активно-безобъектное, пассивно-качественное) находятся на периферии метаязыкового сознания рядового говорящего, поэтому форма извиняюсь соотносится в «наивном» представлении не со словами типа отпрашиваться, учиться, кусаться, обниматься, плавиться и т. п., а со словами типа умываться, бриться. В этом проявляется уже упоминавшееся свойство мифологического сознания: оно игнорирует факты, противоречащие «логике мифа».
Лексикографические мифы обыденного сознания связаны со стереотипными представлениями о словарях. Для обыденного сознания словарь обладает абсолютным авторитетом, поскольку «в хорошем, большом словаре собраны «все» слова языка» [Дубичинский 2009: 32]. Словарь «вбирает в себя всю накопленную человечеством мудрость и … дает довольно определенный, часто однозначный ответ, позволяющий видеть в нем истину в последней инстанции» [Голев 2003 б]. Мифологичность этого представления состоит в абсолютизации «правоты» словаря, который не может ошибаться, в ожидании того, что словарь может дать окончательный ответ по любому спорному вопросу.
Среди словарей, как уже отмечалось, безусловная пальма первенства в обыденном сознании принадлежит толковому словарю В. И. Даля. По наблюдениям специалистов, «современный журналист считает «хорошим тоном» ссылаться на словарь Даля, если нужно объяснить значение слова. Этот словарь окружен особым ореолом «самого главного» словаря» [Еськова 2000]. Почтение к этому словарю демонстрируют и примеры из художественных текстов; авторы и персонажи обращаются именно к словарю Даля (1), поскольку существует презумпция массового сознания, что в этом словаре представлено все, что есть в языке (2):
(1) В русском словаре Даля слова «гафт» нет. Есть – «гафтопсель», т. е. «парус над гафелем»… (Г. Горин. Иронические мемуары); <…> недавно открыл словарь Даля (вот они, четыре тома с позолоченными надписями на корешках, четыре тома из моих примерно трех тысяч книг), нашел соответствующую статью и прочел: «ВИСЕЛЬНИК – удавленник, человек повешенный, либо удавившийся. // Сорванец, негодяй, достойный виселицы» (А. Слаповский. Висельник); (2) <…> несколько десятков существительных и прилагательных, ни одно из которых не найдешь даже в словаре Даля (В. Конецкий. Начало конца комедии).
Безоговорочный авторитет словаря В. И. Даля связан не столько с неразличением нормативных и описательных словарей, сколько с убежденностью носителя русской лингвокультуры в том, что словарь о б я з а н быть нормативным.
Лингводидактические мифы касаются обучения языку (родному и иностранному). Наиболее значимым является «офро-графоцентрический» миф, который отождествляет язык с орфографией, а владение языком – с орфографической грамотностью. «Дочерние» мифологемы развивают основные идеи орфографоцентризма – так, например, в обществе существует представление о том, что грамотность эквивалентна интеллектуальной состоятельности, что все авторитетные персоны обязательно обладали (обладают) высоким уровнем грамотности[94] и т. д. Вопрос о влиянии орфографических представлений на языковое сознание носителей русского языка был поставлен Н. Д. Голевым [Голев 1997], который пришел к выводу, что «орфография, которая многим представляется дисциплиной сугубо прикладной, при определенных условиях приобретает мировоззренческий характер» [Голев 1999: 105] и даже сакральный [Там же: 97].
Отдельный мотив орфографоцентрического мифа – невероятная трудность русской орфографии и наличие «врожденной безграмотности», особой невосприимчивости к ней, которую невозможно преодолеть никакими педагогическими усилиями. Ср.:
Васька всматривался, вытягивал шею, шевелил губами. А потом писал: «керьпичь». Когда учительница поправляла: падежи не «костьвенные», а косвенные, Васька подозрительно хмурил брови, ибо твердо был уверен, что названье это происходит от слова «кость»; Клавдия Петровна в конце концов махнула рукой. Написать правильно «чеснок» его нельзя было заставить никакими человеческими усилиями – другие, более мощные силы водили его пером и заставляли снова и снова догадливо вставлять лишнюю букву и предупредительно озвончать окончание: «честног». Из своего орфографического опыта он сделал незыблемый вывод: в русском языке все слова пишутся не так, как произносятся, причем как можно дальше от реального звучания (А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени).
Металингвистический миф – это обыденное представление носителя языка о лингвистической науке и о деятельности ученых. В специальной литературе отмечалось, что универсальным для различных лингвокультур является миф о лингвистической науке, которая призвана «охранять» язык от его «порчи» и мифологическое представление об ученом-языковеде, который а) знает о языке всё и б) безупречно владеет языком [см.: Yaguello 1988]. Кроме того, с точки зрения «наивного» носителя языка, именно лингвисты являются «законодателями» языковой нормы, которая отождествляется с языком в целом. Таким образом, в сознании обывателя корпус представителей лингвистической науки, «нередко в противоречии с его самопредставлением, оказывается одним из институтов власти и принуждения» [Живов 2005].
Содержание металингвистического мифа складывается из двух сюжетных мотивов: а) что должны делать ученые и б) чем они на самом деле занимаются. Представление о том, что должны делать ученые, выявляется в прямых или косвенных упреках, когда носитель языка обнаруживает недоработки ученых (1); в основном эти упреки связаны с неполнотой словарей (2):
(1) Нужно исследовать не праязык и даже не язык вообще, а язык в связи с производством, по преимуществу там, где явления еще живы (В. Шкловский. Третья фабрика); (2) <…> академических словарей недостаточно. Они совершенно не выражают разнообразия будничной лексики. Тем более ненормативной лексики, давно уже затопившей резервуары языка (С. Довлатов. Переводные картинки) и т. п.
В целом языковеды, по представлениям «наивного» сознания, занимаются изучением с л о в, преимущественно их истории и этимологии. Кроме того, для ученых важно получение точных количественных данных (какой бы скучной ни казалась эта задача). Ср. пример, в котором выражено «наивное» представление о содержании лингвистического исследования:
Знаешь, я хотел высчитать, сколько каждый автор употребил имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий, затем, сколько у него главных предложений и придаточных, многоточий, знаков восклицаний и т. д. Не хватило терпения, да и сделать это может только какой-нибудь немец. Нашелся такой подлец Карл Иваныч, который высчитал, сколько раз у Цицерона встречается союз ut во всех его сочинениях (Д. Мамин-Сибиряк. Черты из жизни Пепко).
Таким образом, мифологичность является интегральным и системообразующим свойством обыденного метаязыкового сознания. Мифологичность, с одной стороны, проявляется как стратегия обработки метаязыковой информации, а с другой, – реализуется в виде значительного фонда лингвистических мифов, бытующих в социуме и поддерживаемых носителями языка.
Среди лингвистических мифов массового сознания есть целый ряд устойчивых «сюжетов», для которых характерна широкая распространенность, полимотивная структура, способность к «достраиванию». Исследование таких мифов может отвечать на следующие вопросы: а) какова мотивная структура мифа; б) как соотносится содержание мифа с системой представлений и ценностей социума, с другими лингвистическими и социальными мифами; в) какие «контр-мотивы» выдвигает обыденное сознание для развенчания мифа, г) как реализованы в данном мифе характерные черты мифологического мышления и т. д.
К наиболее устойчивым мифам русской лингвокультуры, безусловно, относится миф о русском мате, анализ которого предлагается далее.
В течение последних двух десятилетий появилось немало лингвистических работ, посвященных разным аспектам русской обсценной лексики[95]. Среди них антологии и сборники текстов, словари, монографии и тематические сборники, многочисленные статьи [см., в частности: Русский мат 1994; Успенский 1994; Василий Буй 1995[96]; Жельвис 1997; Левин 1998; Плуцер-Сарно 2001; 2005; Мокиенко 1994; Мокиенко, Никитина 2004; 2007; Злая лая 2005 и мн. др.]. В аспекте рассматриваемой темы представляют интерес статьи Г. Ф. Ковалева, который анализирует высказывания русских писателей о мате [Ковалев 2004], и М. Э. Рут, которая анализирует «легенды» о русском мате [Рут 2005]. Обширная литература вопроса позволяет ставить задачу сравнения научных и «наивных» представлений о предмете, выявления точек их пересечения и взаимовлияния.
Миф коллективного сознания можно представить, как своеобразный сюжет[97], который в нашем случае устанавливается (путем лингвистической реконструкции) на основе вербальных суждений носителей русской лингвокультуры. В этих суждениях представления о предмете могут проявляться как вассертивной части (в виде утверждений или отрицаний), так и в виде пресуппозиций, оказывающих влияние на содержание речи и выбор текстовых стратегий.
Прежде всего попытаемся выявить основные мотивы[98] мифа о русском мате.
Обсценная лексика находится в фокусе внимания носителей русского языка и регулярно становится предметом рефлексии. В литературных произведениях отмечается активность лексики данного разряда в современном дискурсе:
Я все думал, какого черта российские люди так уснащают свои устные (а Шура говорил, что сейчас и письменные) рассказы таким количеством ругательств, что иногда на слуху остается один мат, в котором исчезают и сюжет, и идея повествования. А многие общественные или политические деятели даже с трибун матерятся. Чтобы быть, так сказать, «ближе к народу» (В. Кунин. Кыся).
В русской литературе сложилась традиция обозначать брань (помимо слов мат, матерный, матершина, матерщина) при помощи описательных наименований (1) или эвфемизмов (2):
(1) Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе, <…> но этого не можем сделать с Семеновым: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура, – крайне неприличное (Н. Помяловский. Очерки бурсы); (2) Карту, видите ли, штурманский офицер ему не скоро подал… Ну, адмирал и осатанел, да и ругнул, знаете ли, его по-русски… А Иванов, хоть и штурман-с, маленький человечек, а все-таки имел свою амбицию и не стерпел, да и ответил ему на том же русском диалекте-с… (К. Станюкович. Беспокойный адмирал).
Как видим, во втором примере эвфемистической замене подвергается даже не обсценное слово, а соответствующий метаязыковой термин. Во второй половине ХХ – начале XXI вв. в литературных произведениях метаязыковая лексика, квалифицирующая сквернословие, становится более определенной: читатель имеет возможность понять совершенно недвусмысленное указание на ту или иную обсценную лексему – упоминание уступает местоописанию: автор не использует непосредственно обсценного слова, но описывает «адрес» предельно точно. Ср.:
Она с недоумением оглядела кухню и послала ее со всем грубым скарбом в такое место, какового у нее, как у женщины, быть не могло (В. Астафьев. Последний поклон); <…> ужасное слово из пяти букв, которое до конца своей жизни она ни разу не произнесла вслух. Слово это представлялось ей противно-коричневым, с бездонным провалом посредине и похожим на вывернутую наизнанку клизму (Л. Улицкая. Ветряная оспа).
В конце ХХ в. уже вполне обычны тексты, в которых воспроизводятся сами обсценизмы и в которых, таким образом, описание заменяется изображением, воспроизведением[99]. Меняет характер и авторская рефлексия о бранных словах: если до последнего десятилетия ХХ в. это была, как правило, речевая рефлексия (оценивалось использование обсценизмов в речи), то на рубеже веков учащаются случаи собственно языковой рефлексии (комментируются отдельные обсценизмы как единицы языка); бранные лексемы становятся объектом эстетического осмысления. Ср.:
<…> «материальные слова» выстроились как по ранжиру, и аж дрожат от нетерпения. Первый среди всех этот с завитушкой на головке, трехбуквенный забойщик, рядом его дама – толстопятая арка для проезда туда и обратно, с сырыми стенками, потом это слово-действо, меняющееся каждую секунду. Ну, очень выеживающе-побудительное слово (Г. Щербакова. Как накрылось одно акмэ).
В целом же рефлексивы о бранной лексике становятся в литературе более частотными. Носители языка квалифицируют «выход из подполья» матерной брани как один из признаков общего одичания (1); отмечается активизация обсценизмов в речи носителей литературного языка (2):
(1) <… > в Москве очень грязно, Москва одичала, непесенная стала, корявая, матерная (Н. Садур. Сад); (2) Несмотря на всю свою интеллигентность, Шура пользуется матом достаточно часто и свободно. Хотя у него прекрасный словарный запас и без этого. Но я заметил, что в так называемой интеллектуальной среде мат считается неким шиком!
Дескать, вот какая у меня речевая палитра. Могу так, а могу и эдак! (В. Кунин. Кыся).
В этих условиях продолжает активно функционировать и развиваться миф о русском мате. Главные мотивы этого мифа характеризуются высокой степенью повторяемости, о чём свидетельствует анализ многочисленных текстов[100]. Перечислим эти мотивы.
1. Мат – это особый язык, коммуникативно равноправный с «основным» русским языком:
Русский человек должен говорить на двух языках: на языке русском – языке Пушкина[101] и по-матерному (А. Ремизов. Кукха).
Язык брани может «замещать» обычный язык общения, поскольку обладает достаточными коммуникативными ресурсами и является «общедоступным»:
Кстати, я категорически не согласен, когда говорят, что наш народ ругается матом. Он матом не ругается, он на нем разговаривает. Это язык межнационального общения, в который иногда, если есть возможность, вставляется два-три приличных слова (А. Хайт. 224 избранные страницы).
Как и любой язык, для некоторых носителей мат может являться единственным коммуникативным средством, поэтому и носитель литературного языка должен им владеть:
<… > я с этим гадом в диспетчерском управлении два часа битых исключительно матерно объяснялся. Другого языка не понимает, кроме матерного (В. Катаев. Время, вперёд! НКРЯ).
Как особый язык, мат обладает не только собственным словарным составом, но и паралингвистическими характеристиками:
А вот и Варин голосок… Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное (Б. Шергин. Варвара Ивановна).
2. Мат является общеупотребительным коммуникативным средством, которым пользуются абсолютно все россияне, даже интеллигенты и интеллектуалы:
Мое первое представление о морских офицерах постепенно изменялось. Оказалось, что эти благородные люди так же ругаются матерно, как и мужики в нашем селе, и даже дерутся (А. Новиков-Прибой. Цусима); <…> спросила Ольга, снабжая свою речь, как многие современные интеллектуалки, забубенным матом (А. Слаповский. День денег).
Мат – это язык «народного единства», не признающий социальных границ:
<… > русский язык – понятие очень широкое. Ведь у разных групп населения всегда был свой жаргон, свой особый язык: у музыкантов, у военных, у молодежи, у блатных. Но все же есть один язык, который близок и любим всеми, от простонародья до интеллигенции. Я имею в виду матерный (А. Хайт. 224 избранные страницы).
У каждого русского человека обсценизмы всегда актуализированы в сознании и автоматически выступают как ближайшие ассоциативные реакции на подходящий стимул. Подобные ассоциации настолько нормативны, что практически всегда можно предвидеть (1) соответствующие реакции и планировать их (2):
(1) <…> просто неловко вспомнить, как по приезде в Иерусалим я отказалась от прекрасной съемной квартиры <…> только по одной причине: дом <…> стоял на улице Писга. Я представила себе, как сообщаю свой адрес московским друзьям и как, посылая письма, они выводят на конверте: Pisga-street… / Нет-нет, сказала я маклеру, эта квартира мне не подходит. / <…> (Между прочим, «писга» означает – «вершина» <…>) (Д. Рубина. «Я не любовник макарон».); (2) Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти (Л. Измайлов. Миниатюры).
Намеки на обсценную лексику относятся к разряду «регулярных», или «продуктивных» намеков[102], которые «строятся по регулярным правилам реконструкции содержания и основываются на знаниях о мире, присущих подавляющему большинству членов языкового социума» [Баранов 2006]. Содержание, связанное с об-сценизмами, гарантированно воспринимается адресатом с высокой степенью точности, поскольку «намек формирует не альтернативный уровень содержания текста, а его имплицитную составляющую, непонимание которой может привести к коммуникативной неудаче» [Там же]. При замене бранных слов эвфемизмами, при использовании намека на обсценизм читатель легко справляется с «шифром» послания, «испытывая, может быть, особое эвристическое наслаждение от эффекта узнавания закодированного» [Мокиенко, Никитина 2004: 11].
Образованные люди (согласно мифу) пользуются обсценизмами не от бедности словаря, а преследуя определенные коммуникативные цели. Так, нецензурные выражения воспринимаются как проявление демократичности:
Ты материшься, чтобы подчеркнуть свое равенство со мной. Так всякие народники в прошлом веке делали, чтобы показать свою близость к народу (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
Для интеллигенции свободное использование обсценизмов – атрибут свободы:
Еще в СССР <…> шумела дискуссия о праве на литературную жизнь табуированных слов. С ученым видом поднимаясь над интеллигентской неловкостью, полумаститые писатели и доктора филологии защищали в печати права мата на литературное гражданство, светски впиливая в академические построения ядреный корень. Сыты лицемерием, хватит, свобода так свобода (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
3. Употребление мата имеет некоторые гендерные ограничения, которые можно считать своеобразными коммуникативными нормами. Так, вполне органичной (и даже обязательной) выглядит брань в устах мужчины (1). Грубые слова придают мужчине даже некоторый шарм, могут вызывать восхищение как проявление лихости, брутальности (2):
(1) Жили мы, заключённые <…> дружно, и начальство не очень притесняло. Когда выводили нас на работу, конвойные удивлялись: все мужики, а мата нет (И. Грекова. Хозяева жизни); (2) <… > и Долинин выругался таким усложненным многоэтажным матом, что Жанна неожиданно для себя расхохоталась и бросилась в объятия к своему озверевшему любовнику. / – Вот таким я тебя люблю! А ну еще раз заверни по матушке и по батюшке! (Ю. Азаров. Подозреваемый).
Женский мат признаётся противоестественным, поскольку женщинам свойственны иные эмоциональные реакции:
Я подчиненных, будучи редактором газеты, довожу до слез (девушек-корреспонденток) и до нервного мата (юношей-корреспондентов) (Е. Белкина. От любви до ненависти).
Брань в устах женщины вызывает резко отрицательную оценку со стороны как мужчин, так и женщин (1); нецензурные выражения, употребляемые женщиной, – это социальный знак (2): (1)
«Это плохо, что ты матом ругаешься. Девочкам матом ругаться нельзя», – сказал Холмогоров (О. Павлов. Карагандинские девятины… НКРЯ); Она представила себе побледневшие глаза Мур, тихий хрипловатый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика. <…> Самый подлый, самый нестерпимый мат – женский… (Л. Улицкая. Пиковая дама); (2) <…> курила, хлестала водку, ругалась матом – словом, законченная уголовница-рецидивистка (А. Рыбаков. Тяжелый песок).
4. В целом мат воспринимается как естественное средство коммуникации, рождающееся непосредственно из природной потребности человека. Так, брань позволяет снять напряжение, облегчить душу:
Андрей, дождавшись, когда веселая компания скрылась вдали, выскочил на дорогу с облегчающим душу матом и, перехватив дробовик за прохладные стволы, хрястнул им о телеграфный столб <…> (П. Проскурин. В старых ракитах. НКРЯ); Это экспрессия… Очень помогает. Знаешь, как хорошо ругаться матом? Лучше аутотренинга. Выразишься – и легкий! (Г. Щербакова. Год Алёны).
Мат – это уникальное средство выражения эмоций говорящего, отчего он не только органичен, но и необходим (особенно в условиях «нашей» действительности); это самая удобная форма искреннего самовыражения[103]:
Конечно, совсем без мата у нас нельзя. Кто ж кого тогда поймет? Конечно, он нужен. Иначе как реагировать на погоду, на преобразования в стране, вообще на все, что творится? (А. Трушкин. 208 избранных страниц); А вы говорите – зачем мат? а как же иначе? Русский мат есть не что иное, как единственно возможная и адекватная реакция на невыносимую нашу жизнь, а любая другая реакция – сублимация, эвфемизм, ложь (В. Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах).
В силу «природности» и органичности мата – проще и естественнее говорить с использованием бранной лексики; отказ от нее требует дополнительных коммуникативных усилий, делает речь более искусственной, затрудняет процесс речепорождения:
Вот вы замечали, что когда выступают наши руководители, у них всегда такие большие паузы между предложениями. А почему? Потому что они мысленно выбрасывают из речи все матерные слова, которые хотели бы сказать (А. Хайт. 224 избранные страницы).
Брань – естественное поведение живого человека и позволяет «диагностировать жизнь»; так, к персонажам М. Булгакова (1) и В. Астафьева (2) жизнь и способность оценивать окружающее возвращается вместе со способностью материться:
(1) На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру, и немцев, и метель <…> (М. Булгаков. Белая гвардия); (2) После грохота и неожиданного вихря минуту-другую все было в оцепенении, еще не закричали те, кого зацепило, еще не загорелись машины и не запрыгали с них бойцы, еще не объявились храбрые хохотуны и матерщинники, только слышно было, как поблизости проваливается меж сучьев срубленная вершина сосны <…> И сразу забегало по лесу начальство, спинывая с дымящихся костерков каски и котлы с картошкой, послышалось привычное, как для верующих «Отче наш»: «Мать! Мать! Мать!..» (В. Астафьев. Последний поклон).
5. Мат является универсальным и полифункциональным коммуникативным средством, при помощи которого можно выразить разнообразные смыслы:
– Так твою мать! – естественное, что вырвалось из Сашки, и Ашот отвечал ему тем же, выражающим все на свете, кратким, русским, назовем это – выражением (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть).
Мат выражает как «предметные», так и модальные значения. Так, языком брани можно передать диктумный компонент семантики высказывания:
<… > он, крича по-матерному, чтоб давали дорогу, тряско бежал через все депо <…> (В. Чивилихин. Про Клаву Иванову); <…> вдруг расхохотался Водила и стал <…> очень матерно пересказывать мне все, что я знал гораздо лучше него (В. Кунин. Кыся); Мужик оживился на корме, матерно выразился, что должно было означать «Приехали!» (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа); <… > и тогда Антипов горячо и матерно объяснял, что поручик единогласно избран ротой в качестве именно солдатского представителя (Б. Васильев. Дом, который построил Дед).
Еще более широкие возможности предоставляет сквернословие для выражения модальных смыслов. Так, обсценизмы используются для экспликации интенций говорящего:
Меженин, помнилось, непрерывным мрачным матом подгонял подносчиков снарядов (Ю. Бондарев. Берег); Особенно ему понравилась история артельной стряпухи – баронессы Серафимы Барк. <…> Однажды при нём она рыбацким матом пуганула здоровенного верзилу – пришёл за водкой – и тут же повернулась к отцу Андрею и объяснила по-французски: «Это ужасно, как приходится обращаться с этим народом, но, увы (helas, helas), иного языка он просто не в состоянии понять. Теперь он понял, что это решительный отказ, повернётся и уйдёт». И действительно верзила ушёл (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); У меня тогда мелькнула мысль сказать им что-нибудь дружелюбно-матерное – всем четверым, что-нибудь такое международно-притонное, в котором было бы всего понемногу – и моей вроде бы блатной матросской удали («не на того, мол, нарвались, салажата»), и достаточной дозы панибратства («все мы немного подонки и поэтому равны»), и готовности добродушно расстаться тут же («всего, мол, хорошего») (К. Воробьев. Вот пришел великан).
При помощи мата выражается богатейший спектр значений субъективной модальности и различные эмоциональные состояния говорящего:
(1) Работяга <…> матерно поворчал насчет формальностей и отправился выписывать пропуск (М. Веллер. Белый ослик); (2) Тут раздался звук удара во что-то мягкое и одобрительная матерная разноголосица <…> (В. Пелевин. Девятый сон Веры Павловны); (3) Разбудила их Кувалда, матерно горевавшая о загубленных розах (Ю. Буйда. Живём всего два раза); (4) <…> Колька с Маргаритой, даже ссорясь, называли все и всех ласкательно и уменьшительно вперемежку с таким же ласкательным матом <… > (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки); (5) <…> парочка <…> принялась скверно и грязно браниться. Длинный свирепствовал, а маленький лишь что-то хныкал в ответ, но тоже матом (Е. Попов. Водоем); (6) <…> всадник в простой черкеске вдруг бросил стремена и поводья и на том же распаленном лошадином скаку стал выделывать такое, что весь казачий строй ахнул и разразился восторженной матерщиной (Б. Васильев. Были и небыли. НКРЯ); (7) Миша долго не затихал. В его матерщине звучала философская нота (С. Довлатов. Заповедник).
6. Мат далеко не всегда есть выражение грубости. Об этом свидетельствуют многочисленные упоминания о неинвективном употреблении бранных слов:
По дороге мы пели хором, а я изредка матерился, когда в темноте терял протоптанную тропинку и проваливался в сугроб. Но мат этот был скорее попыткой звукового оформления деревенского колорита, чем проявлением недовольства, потому что чувствовал я себя счастливым (Б. Левин. Блуждающие огни).
Обсценизмы могут использоваться и как вполне нейтральные единицы (1), могут свидетельствовать о проявлении теплых, дружеских чувств (2); вообще мат – обычный атрибут русской сердечности (3):
(1) Выпей как следует. И иди на… – лады? Матерное слово не обожгло. Оно было на месте. Оно было по делу (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени); (2) Они целуются долго и смачно, сдабривая поцелуй теплым матерным словом <… > (А. Мариенгоф. Роман без вранья); Новая семья сильно русифицировала меня. <… > стал пользоваться матом не только для ругани, но и для дружеского общения (Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля); (3) И мат – не воплями через весь двор, а просто в голос, в сердечном русском разговоре. Потому и милиция нарушений не видит, дружелюбно улыбается подрастающей смене (А. Солженицын. Пасхальный крестный ход).
7. Существуют особые коммуникативные сферы, где мат необходим и обычен. Так, мат устойчиво ассоциируется:
а) с пьянством:
Гуляки из рабочего люда <…> сквернословят вслух, несмотря на целые толпы детей и женщин, мимо которых проходят, – не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Именно это язык, целый язык, я в этом убедился недавно, язык самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что он совершенно не мог не явиться, и если б его совсем не было – il faudrait l'inventer. <…> Известно, что в хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного, или у всякого не как стелька пьяного человека, почти удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворять этим обоим, противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси (Ф. Достоевский. Дневник писателя);
б) с некоторыми типичными коммуникативными ситуациям и: диалоги в общественном транспорте (1), веселье, празднование (2) и т. п.:
(1) Где ругань, мат, где знаменитое «Куда лезешь, вагон не резиновый. Не нравится – бери такси»? Где все это, родное, московское? (В. Некрасов. Взгляд и Нечто); (2) – Да, во время войны замучились. Бывало, праздник подойдет – водки нет. И ходят все, ровно потеряли что. Матерного слова, бывало, за все святки не услышишь (П. Романов. Дым); Гулянка шла до полуночи – с громкими выкриками, матерщиной от души и даже попытками традиционно в таких случаях песни петь: про то, как шумел камыш, и про два берега у одной реки (Л. Корнешов. Газета. НКРЯ).
в) с процессами интенсивного труда:
Со временем на Усьве появится угольная шахта, <…> сплавные «гиганты» типа «Мыса», «Бобровки» <…> «украсят» дивные берега таежной красавицы, оскорбят ее пустынные пространства трудовым, «ударным» матом. (В. Астафьев. Веселый солдат);
г) с войной:
Прорычав свои обличения пополам с фронтовым матом, никогда прежде и никогда позже им не используемым, он был увезён с известного заседания непосредственно на канатчикову дачу. (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого);
д) с определенной социальной средой (жители деревни, заключенные, обитатели рабочих районов, бараков):
<…> в деревне почти все они, включая Гуркова, вели себя тише сломанной сенокосилки «Вихрь» и ниже местной речушки Вагайка, и даже генетическим матом ругались вполголоса (А. Логинов. Мираж); Крик, мат (лагерный мат, то есть что-то совершенно особое), летят раскалённые кольца, пышет сухим жаром (Ю. Домбровский. Хранитель древностей); В ней [матери] это иногда проявляется, народность происхождения, – матерится до самых черных слов. <…> Барак есть барак. <…> барак имеет свой дух. В этом духе много чего концентрируется. Живет в этом духе и мат. Он там нормален, как нормальна в воде рыба (Г. Щербакова. Три любви Маши Передреевой);.
е) с некоторыми локусами, где «неприличные надписи» обычны, уместны[104] и даже неизбежны – лифт (см. пример на с. 189), общественный туалет[105] и т. п.; они являются непременным атрибутом «городской субкультуры», служат «топографическими ориентирами» для жителей (такими же, как городские постройки) (1); эти надписи в соответствующих локусах живучи и неистребимы, в чем проявляется своеобразная преемственность поколений носителей русской народной культуры (2):
(1) Никита миновал памятник противотанковой пушке, магазин «Табак» и дошел уже до огромной матерной надписи на стене панельного Дворца бракосочетаний – это значило, что до дома еще пять минут ходьбы <…> (В. Пелевин. Спи); (2) Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. / Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев);.
ж) с отдельными профессиями и видами занятий (при этом обнаруживается импликация: 'Именно у представителей этих профессий мат особенно выразителен / груб / ужасен и т. п.'; часто используется стандартная модель атрибутивного словосочетания «качественный распространитель + посессивный распространитель + мат»):
<…> на покушения отобрать гармонь отвечал солдатским зычным матом, задавая при этом вопросы, за кого он кровь проливал и ногу отдал? <…> (А. Слаповский. Гибель гитариста); Вукол выругался ужасающим диггерским матом <…> (В. Черкасов. Черный ящик); <… > по дороге он из конца в конец улицы погонял деревенских мужиков, намотав ремень с бляхой на кулак и сотрясая округу жутчайшим старшинским матом (М. Веллер. Баллада о знамени).
Для представителей некоторых профессий речь без сквернословия выглядит как аномальная:
Поразил он нас тем, что не матерился, – редкость для железнодорожника вообще, для начальника станции в частности. «Порченый», – решили мы единогласно, и такое ему прозвище от нас и прилипло (В. Астафьев. Последний поклон).
Регулярно отмечается непременное использование бранных слов р у к о в о д и т е л я м и всех рангов:
Требуют – все для фронта, все для победы. Приедут – матом кроют. По телефону звонят – матом. И Борисов матом, и Ревкин матом. А из обкома позвонят, тоже слова без мата сказать не могут (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина); От мужского режиссёрского ремесла она [Волчек] взяла все необходимые профессиональные навыки: хриплый голос, сигарету в зубах, твёрдый характер, умение вовремя и по делу употреблять те самые запретные слова, без которых, как выяснилось, в России не может руководить никто, даже президент (Г. Горин. Иронические мемуары).
Данный мотив характеризуется высокой частотностью и в отдельных примерах опирается на аргумент «к авторитету»:
<… > такой умный человек, как вице-губернатор Салтыков, заметил, что первым словом опытного русского администратора во всех случаях должно быть слово матерное (В. Конецкий. Вчерашние заботы).
Миф генерализует явление «командирского мата» (как и положено мифу), распространяя его на в с е х, кто занимает руководящие должности, но отнюдь не является абсолютной выдумкой. Представление о связи социального доминирования с вербальной агрессией является достаточно устойчивым [Жельвис 1997: 56]; по данным исследователей, в состав концепта «Руководитель» входит признак 'кричит' [Попова, Стернин 2006: 47]
8. Мат – отнюдь не примитивное средство общения и требует определенного умения в использовании. Идея «умения» может реализовываться через мотив обучения, как, например, в рассказе Г. Горина «Случай на фабрике № 6». Рассказ начинается так:
Все неприятности младшего технолога Ларичева происходили оттого, что он не умел ругаться. Спорить еще кое-как мог, хотя тоже неважно, очень редко повышал голос, но употребить при случае крепкое словцо или, не дай Бог, выражение был просто не в силах. От этого страдал он сам, а главное – работа.
На обувной фабрике, где работали потомки языкастых сапожников, технолог был белой вороной. Орудие требует умелого использования, и, следовательно, обучения – Ларичев находит репетитора и прилежно осваивает правила использования бранных выражений.
Вершина умения – мастерство. Мастерское владение бранной лексикой вызывает уважение и восхищение (в отличие от «простой» ругани):
– Должен вам с сожалением заметить, – сказал он, <…> – что то, что мне привелось услышать, звучит некрасиво. И, пожалуй, грязно. А грязь, в каком бы виде она не была извлечена наружу, физическом или словесном, обычно вызывает отвращение… В частности, мат, которым вы пользуетесь в своей речи, <…> является неотъемлемой частью русского языка, обогащая его образностью и делая более красочным и емким. Но употреблять его следует умело и с изящностью. Ну, скажем, вот так. – Он задумался на мгновенье, многозначительно поднял палец… и произнес монолог, изобилующий выражениями, которыми я так бездумно перемежал свою речь, ни разу не повторившись и связав их в единое целое витиеватым сюжетом (Б. Левин. Блуждающие огни).
Одной из постоянных характеристик такого «умелого» использования мата является виртуозность и даже художественность:
<…> ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью, которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам (А. Куприн. Поединок. НКРЯ); Ника выругалась предпоследними словами легко и высокохудожественно (Л. Улицкая. Медея и ее дети).
Виртуозность связана с умением вводить в один контекст разнообразные дериваты одной обсценной единицы[106]:
Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривался со старухами – правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку. Старухи Богодула любили (В. Распутин. Прощание с Матёрой).
Такое скопление, нагромождение обсценизмов имеет постоянное обозначение – трехэтажный. Ср.: <…> трехэтажный мат разносится сейчас в салоне <…> автомобиля <…> (М. Милованов. Естественный отбор). В произведениях художественной литературы встречаются разнообразные эпитеты, описывающие виртуозную брань:
Весь этот монолог, как ягоды листочками в корзине, был пересыпан отборнейшим, великолепным многоступенчатым матом, открывающим такой простор воображению Кондаковой, что дух захватывало (Д. Рубина. Любка); Тут, в парикмахерской, Надежда в раю, здесь ее терпят, хохочут над ее загогулистым матом (Л. Петрушевская. Надька); <…> грубил генералам и чинам <…> Вплоть до матерщины в мужской компании, столь затейливо чудовищной, что свечи порою гасли (Б. Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. НКРЯ); Еще раз покрыл диковинным матом всех районных, городских и областных начальников <… > (А. Азольский. Монахи).
Еще один признак виртуозного сквернословия – умение сочетать бранные слова с обозначениями самых неожиданных реалий:
<… > кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку (К. Воробьев. Убиты под Москвой).
9. Мат – уникальное явление русской культуры, он свидетельствует о древности нашего языка:
<…> он <…> просыпался только побраниться на станции, выпить рюмку старой водки у жида и снова залечь в плетеную бричку, лишь по временам покрикивая: «пошел!» и пересыпая это увещание перцем весьма выразительных русских междометий, разнообразие которых неоспоримо доказывает древность и богатство нашего языка, хотя их нельзя отыскать в академическом словаре (А. Бестужев-Марлинский. Вечер на Кавказских водах в 1824 г.).
Данный мотив реализуется также в суждениях о превосходстве русской брани над иностранными «аналогами»[107]:
<…> кораблестроитель академик Крылов – необыкновенный знаток русской обсценной лексики (он считал, что подобные выражения у матросов английского торгового флота знамениты краткостью, но у русских моряков превосходят их выразительностью) (А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени).
Мат – это национальное достояние, и он заслуживает почтительного отношения[108]. Например, Алексей Алексеич, герой одноименного рассказа И. Бунина, употребив в обществе грязное слово, на замечание собеседницы отвечает:
Ведь это же прекрасное старинное русское слово, коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, но даже и при дворе не гнушались. Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже страшно. Ведь это слово у самого протопопа Аввакума в его житии пишется, а уж на что сурьёзный был мужик этот протопоп..
Впрочем, достаточно часто высказывается идея об иноязычном происхождении обсценной лексики, но и в этом случае звучит призыв относиться к ней с уважением:
<…> мат, которым вы пользуетесь в своей речи, достался нам в наследство от трехсотлетнего пребывания под татарским игом и является неотъемлемой частью русского языка, обогащая его образностью и делая более красочным и емким (Б. Левин. Блуждающие огни).
Наконец, мат – это предмет экспорта, это то, чем россияне обогащают иные культуры:
На эскадре было двенадцать тысяч человек. Благодаря длительному пребыванию здесь они [русские моряки] не могли не оказать своего влияния на туземцев: развратили их женщин, научили население, до детей включительно, ругаться по-русски матерно (А. Новиков-Прибой. Цусима); Тосты произносились все бодрые, добрые, с напутствиями, в основном, определенного направления: «Главное, научи их пить! И мату рассейскому![109] (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть).
Однако, несмотря на широкую известность русских бранных слов за пределами России, настоящая, полнокровная жизнь для них возможна только на родной почве, о чем охотно свидетельствуют писатели-эмигранты:
Что касается настоящего русского мата в полнокровной повседневной жизни израильтян, то он тоже имеет место. Да и как же иначе – страну эту строили, главным образом, выходцы из России, люди, поди, не чуждые традиции русского ядреного слова. А условия жизни в Палестине начала века, губительный ее климат и непростые, мягко говоря, взаимоотношения евреев с арабским населением очень и очень располагали к широкому употреблению глубинного матерного пласта русского фольклора. / Правда, с течением времени смысл того или иного выражения сместился, как-то смазался, пожух. / Например, очень распространенное здесь выражение «лех кебенимат» означает всего-навсего что-то вроде – «иди к черту» (Д. Рубина. «Я не любовник макарон».).
10. В целом русские относятся к мату положительно. Этот мотив поддерживается всеми другими мотивами, общий пафос которых – одобрение мата, восхищение, гордость. Ср.:
О! Это мгновение! Первая минута. О, эти исторгшиеся из уст – все те же, любимые и ненавистные, не меняющиеся в веках, неистребимые, невозможные в приличном обществе и все же произносимые, крепкие, крутые, обозначающие все на свете, кроме того, что они обозначают, о, эти слова, без которых не обходится ни одна радостная встреча, они были произнесены. И повторены (В. Некрасов. Маленькая печальная повесть).
Рефлексии о брани в произведениях художественной литературы зачастую окрашены в тона юмора, добродушной иронии. Ср. рассказ К. Станюковича «Смотр», в котором «морским терминам» (так иносказательно называют мат персонажи) отводится центральная, сюжетообразующая роль. В этом рассказе все персонажи разделены авторской точкой зрения на два лагеря – по их отношению к брани. Глупыми, ограниченными выглядят чопорные гости военного судна, которые боятся, как бы матросы и офицеры не оскорбили случайным соленым словцом посетившую корабль даму. Симпатии автора и читателей – на стороне моряков, которые блестяще выполняют свою работу и при этом с трудом удерживаются от привычных словечек. Малейшая заминка в работе, и все предосторожности забыты, гостям предоставляется возможность насладиться цветистыми выражениями в исполнении матросов, боцмана и даже офицеров (что, впрочем, нисколько не обескуражило гостью).
Умелое использование мата оценивается как одно из характерных проявлений талантливости человека:
Другое дело – Шура Плоткин. У него матерные выражения всегда остроумны и составляют ироничную основу почти любой фразы.
Или точно выражают всю степень его неудовольствия и раздражения по поводу того или иного явления. У Шуры мат столь органичен, так прекрасно вплетается в слова, исполненные глубокого и тонкого смысла, что иногда даже не замечаешь, был в этой Шуриной фразе мат или нет! Но Шура – человек талантливый (В. Кунин. Кыся).
А сама брань может доставлять даже эстетическое наслаждение:
<… > матерная, как и всякая ругань, просто как слово, самородно выбившееся, ведь это цельная стопа – стопа – ступ слов, а по звучности – звончей оплеухи, так – прекрасна (А. Ремизов. Кукха. Розановы письма).
Отметим, что для художественной литературы характерно не только воспроизведение стереотипов, но и стремление преодолевать их, критически осмысливать – в этом проявляется, в частности, амбивалентность обыденного метаязыкового сознания, колеблющегося между полюсами стереотипности и индивидуальности. Так, преодоление стереотипов, попытки разрушения мифа о мате обнаруживаются в следующих суждениях и оценках.
А. Русский мат вовсе не так уникален, как об этом говорят: Гордящийся богатством и силой русского мата просто не слышал романского. Католический – цветаст, изощрен – и жизнерадостен (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
Б. Употребление обсценизмов само по себе не является залогом эффективной речи – напротив, чрезмерное и «неумелое» использование бранных слов является коммуникативной помехой; из средства невероятной силы мат превращается в показатель коммуникативного бессилия – в тех случаях, когда выступает как единственное доступное говорящему речевое средство (1). Кроме того, смыслоразличительные возможности мата невелики, что может приводить к коммуникативной неудаче (2):
(1) Матерные слова были неотъемлемой частью речи племянника, без них она утрачивала всякий смысл. Позволить ему свободно материться было невозможно, поскольку в семье росли две дочери <…> Но и запретить было нельзя, так как это было бы равносильно приказанию вообще ничего не говорить (В. Тучков. Смерть приходит по Интернету); (2) – А тебе лежать, нах! – приказал он Хруппу. Хрупп на секунду остолбенел, монахи, наоборот, попадали. Фома давно заметил это параболическое действие русского мата: просишь одно, получаешь другое (С. Осипов. Страсти по Фоме).
В. Пресловутое мастерство в использовании бранной лексики отнюдь не выглядит распространенным явлением, и у этого есть свои причины:
Материться, надо заметить, человек умеет редко. Неинтеллигентный – в силу бедности воображения и убогости языка, интеллигентный – в силу неуместности статуса и ситуации (М. Веллер. Ножик Сережи Довлатова).
Данное утверждение не только развенчивает миф о «мастерстве», но и объективно оценивает предпосылки этого мифа: для малоразвитой языковой личности (наиболее активного «пользователя» обсценной лексики) «характерен очень большой (наибольший из возможных?) разрыв между имеющимися в ее распоряжении мыслительными и речевыми средствами. Результатом этого разрыва является неумение. свободно оперировать своим (как правило, ограниченным) вокабуляром, создавать новые речевые единицы. В частности, еще и потому виртуозная брань воспринимается. как недоступное большинству искусство» [Жельвис 1997: 43].
Г. Несмотря на привычную грубость современного речевого обихода, бранная лексика всё еще может восприниматься как оскорбление, а терпимое к ней отношение – как отсутствие самоуважения:
Он втискивается в лифт, и в который раз матерное слово, нацарапанное большими, как Ш и Б на таблице окулиста, буквами выпрыгивает перед ним. И не увернуться, оно написано на уровне лица, плюет жильцам в самые очи, это непотребное слово, вдолбленное на дюймовую глубину. Скоты, думает он, три месяца смотрят и хоть бы кто замазал. Никто себя не уважает, а впрочем, и не за что (И. Полянская. Твой Чижик).
Д. Писатели отмечают, что употребление бранных слов не всегда уместно и далеко не всегда создаёт ощущение той стилистической лихости, к которой стремится говорящий:
<… > у большинства Шуриных приятелей и приятельниц по университету, по редакции, по Союзу журналистов мат звучит и выглядит в их речи достаточно нелепо. Ну, например, как если бы женщина к вечернему платью, пахнущему дорогими французскими духами, напялила бы вонючие солдатские кирзовые сапоги! (В. Кунин. Кыся).
Е. Носители языка считают сквернословие, в первую очередь, проявлением негативных эмоций и дурных свойст в характера (1); употребление обсценизмов может ассоциироваться с интеллектуальной ущербностью (2):