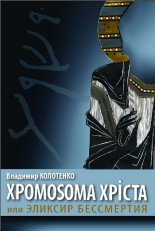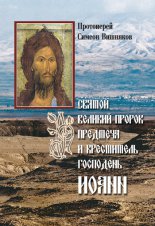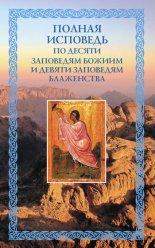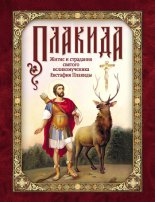Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы Шумарина Марина

Итак, рефлексивы являются важным конструктивным компонентом художественного текста. Находясь в позиции выдвижения, они всегда несут определенную эстетическую нагрузку.
3.3. «Литературный портрет» слова
Лексический уровень, по мнению специалистов, «является наиболее «метаязыковым» для стихийного языкового сознания» [Голев 2009 а: 19]. Этим обстоятельством объясняется и преобладание металексических комментариев в общем массиве метаязыковых контекстов, и большая изученность обыденных рефлексий именно о единицах лексико-фразеологической системы языка. Материал, которым мы располагаем[124] свидетельствует о том, что в фокус внимания «стихийного лингвиста» попадают разнообразные слова и выражения: русские и иноязычные, общеупотребительные и ограниченные в употреблении, узуальные и окказиональные и т. п.
В художественных текстах регулярно приводятся толкования слов (1) и выражений (2), которые не только служат средством выравнивания фоновых знаний автора и читателя, но и служат изобразительным средством:
(1) Другой цыган с каганцом в руках, обыкновенною малороссийскою светильнею, состоящею из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу (Н. Гоголь. Сорочинская ярмарка); (2) «Что это такое авральная работа?» – спросил я другого офицера. «Это когда свистят всех наверх», – отвечал он и занялся – авральною работою. <…> Авральная работа значит – общая работа, когда одной вахты мало, нужны все руки, оттого всех и «свистят наверх!» (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»).
Разнообразие характеристик слов и фразеологизмов коррелирует с различными аспектами описания номинативных единиц в лингвистической науке: в текстах отмечается их многозначность (1) и омонимия (2), указываются синонимы (3) и антонимы (4) слова, осуществляется межъязыковой (5) и внутриязыковой (6) перевод:
(1) Если тебе гражданин говорит, что он «недавно из зоны откинулся», то всякому понятно, что он не на лодке катался в хлорированном пруду «зоны отдыха» Черемушкинского (бывш. Брежневского) района (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»); (2) Командир дивизии и командир артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково: «комдив», хотя дивизией командует полковник, а то и генерал, а дивизионом – в лучшем случае майор (Г. Бакланов. Пядь земли); (3) Древние <…> думали, что частое употребление галлебора, то есть чемерицы, или в просторечии чихотки, может помочь, то есть облегчить, или, лучше сказать, исцелить, повреждение церебральной системы… (А. Бестужев-Марлинский. Фрегат «Надежда»); (4) У слова «подвиг» есть слово-антипод. Это слово – «преступление». Совершить преступление – это значит сделать нечто совершенно обратное подвигу – пренебречь в личных интересах интересами других людей, интересами родины, общества, человечества (А. Крон. Капитан дальнего плавания); (5) Если кто-нибудь из вас ел прямо на базаре <…> приготовленные из рубленого коровьего желудка свежие и пахучие флячки, или по-русски рубцы, тот поймет, как трудно было удержаться <…>(В. Беляев. Старая крепость); (6) Есть и русское слово – «слука». Во всяком случае, у нас, в смоленских краях, так называли вальдшнепов крестьяне (Ю. Коваль. На барсучьих правах).
«Стихийный лингвист» обращает внимание на структурное значение слова – его включенность в ту или иную лексическую парадигму и соотношение его семантики с семантикой других членов парадигмы. Ср.:
<…> защищено все на свете от забвения. Языком защищено: местом, где слово «правый» не может существовать, если нет слова «левый», где каждой Малой улице откликается Большая, каждой Верхней – Нижняя, каждой Северной – Южная… (Е. Клюев. Андерманир штук).
Металексические суждения нередко направлены на анализ разнообразных оттенков значения. Так, носителем языка осознаётся семантическое свойство языковых единиц, получившее в лингвистике название градуальности: тот или иной признак может быть представлен в значении языковых выражений в большей или меньшей степени и оцениваться с точки зрения степени соответствия этого признака условной норме, эталону [Сепир 1985]. Как известно, градуальность в языке имеет статус функционально-семантической категории и, обладая целой системой средств, получает выражение на всех ярусах языковой системы [см.: Колесникова 2010]. Говорящий, осуществляя отбор речевых средств, ощущает наличие в семантике языковых единиц «градосемы» (термин С. М. Колесниковой), которая может актуализироваться в различного рода тропах и фигурах [см., напр.: Тихомиров 2006] и служит основанием для оценки языковой единицы (1) и фактором выбора более точного обозначения (2):
(1) Однако – ничего сверх, всё в меру, всё аккуратно. Скучен и пресен, думала Елена, глядя на него с раздражением. О подобных людях мать Елены говорила: положительный. Или – ещё хуже слово – степенный (А. Слаповский. Гибель гитариста); (2) Не будем, однако, упрекать этих людей, было бы слишком примитивно считать их фанатиками, одержимыми наукой. Слово «одержимость» к ним не подходит. Они служили науке преданно и влюбленно, но и для них многое оставалось превыше науки, например, правила чести и порядочности… (Д. Гранин. Зубр).
В первом примере градуируются значения слов положительный и степенный, во втором – преданный, влюбленный и одержимый, фанатичный.
Метаязыковой комментарий может эксплицировать периферийные элементы семантики слова. Ср.:
Еще думал о том, что охота, промысел, хоть и называется словом «работа», на самом деле совсем что-то другое, что-то гораздо более сильное, сверхработа, запой какой-то. Ну какая это работа – везти-корячиться груз по порогам или биться на снегоходе со снегом? Работа – это что-то размеренное, с обеденным перерывом (М. Тарковский. С людьми и без людей).
В художественных текстах содержатся указания на факты истории слова, выражения: сведения о происхождении (1), о динамике активности слова в языке (2) и т. п.:
(1) Читатель уже несколько раз прочел в трибунальских приговорах <…> «концлагерь» и счёл, быть может, что мы оговорились? что мы неосмотрительно используем более позднюю терминологию? Нет. / В августе 1918 года <…> Владимир Ильич в телеграмме к Евгении Бош и пензенскому губисполкому <…> написал: «сомнительных <…> запереть в концентрационный лагерь вне города». <…> А 5 сентября 1918 года, дней через десять после этой телеграммы был издан Декрет СНК о Красном Терроре <…> в нём в частности говорилось: «обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях». / Так вот где был найден и тотчас подхвачен и утвержден этот термин – концентрационные лагеря – один из главных терминов XX века, которому предстояло широкое международное будущее! И вот когда – в августе и сентябре 1918-го года. Само-то слово уже употреблялось в 1-ю мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг); (2) Говорили, что до войны было много шпионов, но после войны их не стало. Хотя о них продолжали упоминать, но куда меньше, в основном как «о нарушителях государственной границы». Их в этом случае всегда спаривали с «диверсантами». «Шпионы и диверсанты». А уж видеть их и вовсе никто не видел. Вновь слово «шпион» вынырнуло только в 1953 году, когда сам Лаврентий Берия оказался английским шпионом (Э. Лимонов. У нас была Великая Эпоха).
Рефлексивы в художественных текстах содержат сведения о стилевой (1), стилистической (2) и социолингвистической маркированности (3) номинативных единиц, об их сочетаемости (4):
(1) Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, – и как же он был награжден (М. Лермонтов. Максим Максимыч); (2) Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» – из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул (М. Булгаков. Крещение поворотом); (3) – Ну это ты мне не заливай. Дрельщик! – сказал он, искренне не поверив в вагон-ресторан. Это показалось ему настолько фантастичным, что он даже назвал меня этим жаргонным словом «дрельщик», что обозначало фантазер, выдумщик, врунишка (В. Катаев. Алмазный мой венец); Лучи на камнях угасали, в ущельях залегали густые сумерки, насыщенные туманами, которые в Сибири называют красивым словом «мороки» (В. Короленко. «Государевы ямщики»); (4) Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, весёлое – не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти (М. Горький. В людях).
В отличие от толковых словарей, где характеристика употребления дается обобщенно (при помощи помет типа спец. разг. и т. п.), в художественных текстах функциональная и социальная атрибуция единиц более конкретна. Ср.:
Двое суток русский военный клипер «Жемчуг» штормовал, как говорят моряки. Двое суток он выдерживал жестокий ураган в Индийском океане <…> (К. Станюкович. Матросик); То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других <…> Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай (А. Чехов. О любви); <…> мирабилит сушат, или, как говорят химики, обезвоживают (К. Паустовский. Кара-Бугаз); Выдумка теперь значит многое, она стиль жизни, апофеоза, как говорят философы, витрина успеха, водружение знамени над рейхстагом (В. Распутин. Новая профессия) и т. п.
В художественных текстах отмечаются и особые виды маркированности номинативных единиц, которые связаны с некоторыми специфическими особенностями употребления. Укажем на четыре вида подобной отмеченности.
1. Прежде всего, можно говорить об эксплицируемой «естественным лингвистом» связи слова, выражения с определенными типами дискурса: с коммуникацией в определенных сферах деятельности (1) или с конкретными жанрами (2):
(1) <…> директор картины напомнил, что скоро на съемочную площадку, а режиссеру и автору надо еще решить несколько творческих (в кино, которое не искусство, ужасно любят это слово) задач (Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля); <…> я был для неё, если воспользоваться термином из физиологии, просто раздражителем, вызывавшим рефлексы и реакции, которые остались бы неизменными, будь на моём месте <…> любой другой (В. Пелевин. Ника);
(2) Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, «домашнего очага», как говорили в старых романах? (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»); Мама говорила когда-то, что в трудных ситуациях у человека открываются «недюжинные силы». Она так и говорила: «недюжинные», словно в былине!.. (Т. Устинова. Жизнь, по слухам, одна!).
2. Носитель языка указывает на отмеченность номинативных единиц, которую можно назвать персонологической, поскольку она соотносится с определенными типами языковых личностей[125]:
Вот скоро явится к нам «всамделишный», как дети говорят, писатель (М. Горький. Дачники); Шурочка обижался и квелился, как говорят няни. Его накормили и с трудом уложили спать (Б. Пастернак. Доктор Живаго); <…> после младенческого каннибальского языка, всех этих «мням-мням», «тпруа», «бо-бо» и тому подобного <… > (Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля); За это время мы вымыли разбильон тарелок. «Разбильон» – это значит «много – много – много» на сюсюкающем учительском диалекте (В. Набоков. Лолита).
Нередко персонологические характеристики слов и выражений повторяются разными комментаторами в различных текстах, что свидетельствует о достоверности метаязыковых наблюдений. Ср.:
В разговоре он употреблял слова, свойственные маленьким актерам: «волнительно», «на полном серьезе», «на интиме». (К. Паустовский. Дым отечества); Выступать она не умела, сильно путалась, говорила какие-то шаблонные, свойственные «людям искусства» слова: «где-то по большому счёту» и «волнительно» вместо «волнующе» <…> (В. Аксёнов. Пора, мой друг, пора); Да, любовь – это сладко, это волнительно, как почему-то говорят старые актеры; клево и атас – говорят молодые придурки <…> (Г. Щербакова. Актриса и милиционер).
3. Целый ряд номинативных единиц ассоциируется у носителей русской лингвокультуры с конкретными языковыми личностями, употреблявшими соответствующие выражения. Ср.:
– <…> пошлём прямо по месту жительства в районный нарсуд. /
– В нарсуд? – Ей показалось, что Гуляев оговорился. В этих стенах, в этом кабинете, а особенно у этого человека слово «нарсуд» слышалось почти хохмачески, как цитата из рассказов Михаила Зощенко, где оно попадается наряду с другими такими же смешными словами: «милиционер», «самогонщица», «отделение», «карманник», «карманные часы срезал», «мои дорогие граждане» (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); <…> сроки их, выражаясь по Горькому, были Сроки с большой буквы (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг); <…> самая модная болезнь – это депрессия. А я говорю («не для стенограммы» – как, бывало, говаривал незабвенный наш Никита Сергеевич) – с жиру бесятся (В. Некрасов. Взгляд и Нечто).
4. Наконец, некоторые слова и выражения ассоциируются с конкретными текстами, в которых они употреблялись. Ср.:
Она вытянулась и покосилась влево, на полированную поверхность нижнего отсека горки, отображавшую, хоть и смутно, ее распростертую на полу фигуру… Слово «распростертая» почему-то всегда тянуло за собой один и тот же стихотворный ряд: да, ты кажешься мне распростертой, и пожалуй, увидеть я рад, как лиса, притворившись мертвой, ловит воронов…[126] (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды); Был он тихий, робкий, в круглых очечках и на милиционера-то, чудак, совсем не походил <…> Это словосочетание очень любил В. М. Шукшин, и «круглые очечки» непременно попали сюда из «Калины красной», где деревенский дед говорит рецидивисту, выдающему себя за отсидевшего за чужую растрату бухгалтера, что бухгалтеров он знает, бухгалтеры тихие, «в круглых очечках», а «об твой лоб – поросят бить» (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
Перечисленные виды отмеченности обладают разной степенью языковой «системности», неодинаково «освоены» лингвистической теорией и практикой. Так, дискурсивная «привязанность» языковых выражений носит относительно объективный характер, поддается лингвистическому изучению и находит отражение в работах по речеведению и лингводидактике (в частности – в методике преподавания языка как иностранного). Связь языковых единиц с определенными типами языковых личностей имеет характер не закона, а тенденции. Эта связь изучалась в социолингвистике, онтолингвистике (слова «детской речи»), и – отчасти – лингво-персонологии. Осознание «персонологической» маркированности рядовым носителем языка свидетельствует не только о реальности данного феномена, но и о его коммуникативной значимости.
«Личностная» и «прецедентная» маркированность слова (выражения) наименее системны, связь конкретной единицы с определенной языковой личностью или текстом чаще всего обусловлена индивидуальными ассоциациями говорящего. В то же время подобные ассоциации могут носить достаточно регулярный характер – в тех случаях, когда обусловлены либо высокой частотностью тех или иных единиц в индивидуальном дискурсе (например, в поэтическом идиостиле), либо ярким своеобразием используемых единиц (например, авторских окказионализмов).
В художественном тексте слово может получать оценки и характеристики, обусловленные эстетической задачей автора. Так, слово любовь (лидер по количеству комментариев) определяется в различных текстах как сильное, горячее (И. Тургенев. Накануне); нехорошее (М. Пришвин. Колобок); неточное (А. Арбузов. Годы странствий); высокое (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа); шершавое, заезженное, пустое (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве) и др. Несмотря на индивидуальный характер подобных оценок, они интересны не только в аспекте стилистики художественной речи, но и с точки зрения лексикологии, психолингвистики, так как в них актуализируются потенциальные семантические компоненты, связанные с личным и коллективным опытом говорящих[127].
Многообразны в текстах художественной литературы метаязыковые комментарии к плану выражения номинативных единиц. Такие комментарии могут касаться фонетического и / или графического облика (1), особенностей артикуляции (2), грамматического оформления слова (3), формального сходства единиц (4), нормы произношения (5) и соотношения нормы и узуса (6), нормы правописания (7), возможных трансформаций слова (8) и др.:
(1) На Иране жили народы, название которых оканчивалось на «яне»: Бактряне и Мидяне, кроме Персов, которые оканчивались на «сы» (Н. Тэффи. Древняя история); (2) Слово «вагон» резнуло, как нож, так напряженно вышло оно из горла (М. Шагинян. Агитвагон); <…> ей надо пройти через этот мертвый брошенный двор, принадлежавший когда-то егерю, потом через лес, который сторожит этот егерь. Она держится за это красивое слово, ласкает языком, сглатывает горьковатую сладость (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера); (3) <…> питание мое состояло в основном из рожек или рожков, не знаю, как в родительном падеже называются эти макароны, короткие и крученые, похожие на рубленных толстых высушенных червей (В. Войнович. Замысел); (4) В слове «биндюжник» было что-то дюжее, поэтому он представлялся мне большим и сильным человеком (Ф. Кривин. Биндюжник); (5) По говору – не москвичка, так как отчетливо говорит «конечно» и «скучно», а не «конешно» и «скушно», как полагается говорить москвичам; скорее всего – петербурженка <…> (М. Осоргин. Свидетель истории); (6) Один иностранный шпион попался на том, что произносил слово «облегчить» с ударением на последнем слоге (Н. Богословский. Заметки на полях шляпы); (7) Мнят себя Бог знает кем <…> Раньше это слово велено было писать с маленькой буквы, я и писал. А сейчас уже не могу (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»); (8) Один из них <…> доставил в одну из редакций свой дневник, и в нем были такие своеобразные перлы: будуар, например, он называл «блудуар». А в слове «невеста» он «не» всегда писал отдельно. Когда ему указали на эти грамматические ошибки, он сказал: / – Так вернее будет (В. Гиляровский. Москва и москвичи).
Один из видов металексических комментариев в художественных текстах – указание на ассоциативные связи слов. Эти ассоциации могут быть типичными, соотносимыми с ассоциативной нормой (1), или индивидуальными (2):
(1) Коля насторожился по иной причине – ему не понравилось про психический сдвиг. Слово «психический» тянуло само за собой неприятное слово «больной» (В. Маканин. Сюр в Пролетарском районе); У меня с детства слово «дуга» ассоциируется с широкой трехцветной радугой. Какие-то полузабытые стишки из детской книжки: «Ах ты, радуга-дуга!» (Д. Рубина. Этот чудной Алтухов);
(2) И слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, как Валериины флаконы (М. Цветаева. Мать и музыка); Термин «пятилетка» напоминает мне чем-то конский завод (В. Набоков. Встреча).
Лексические и фразеологические единицы нередко получают в художественных текстах лингвокультуроведческий комментарий: языковая единица интерпретируется с точки зрения ее национально-культурного своеобразия (1), или сообщается энциклопедическая информация о факте, явлении культуры, истории (2), который выступает в роли означаемого:
(1) <…> французы взяли у нас слово «степь», да это потому, что их «prairie» и «desert» вовсе не дают верного понятия о том безлесном, но не песчаном, а поросшем травою огромном пространстве земли, которое мы называем степью (М. Загоскин. Москва и москвичи); (2) Певец закончил песню. Сидящие передо мной девушки захлопали, заверещали, забились в падучей. Одна из них побежала вниз с букетом цветов. Я догадалась, что это – сырихи. Слово «сыриха» зародилось в 1950-е годы, во времена славы Лемешева. Поклонницы стояли под его окнами на морозе и время от времени заходили греться в магазин «Сыр» на улице Горького. Сыриха – это что-то глупое и неуважаемое обществом. Зато молодое и радостно восторженное (В. Токарева. Звезда в тумане).
Исследователи неоднократно указывали на существование слов-фантомов [см.: Норман 1994 б; Зеленин 2008 и др.], которые не имеют референта в реальном мире (в этом смысле они противопоставлены лексическим лакунам, для которых, напротив, характерно отсутствие означающего для означаемого). К фантомам, как правило, относят названия сказочных и мифологических предметов, существ (ковер-самолет, домовой), имена литературных персонажей, термины-ошибки (теплород и подобные), наконец, выражения-идеологемы (диктатура пролетариата и т. п.). В художественных текстах мы встречаемся с металексическими комментариями, в которых выражена специфическая оценка слов / выражений: им присваивается статус лексических фантомов. Соответствующая оценка может быть выражена метаязыком обыденной лингвистики при помощи формулировок пустое слово, слово ничего не значит и т. п.:
Не могу отказать авторам в талантливости, а издателям даже в некотором либерализме, но ведь слово «либерализм» – слово не столь опасное, сколько пустое. Мне даже понятнее Пугачевы, мечтающие о власти, чем господа, скорбящие о народе (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов…); Чем они связаны? Любовью? Он поморщился. Слово было шершавым, заезженным, неловким и ни о чём не говорило (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве).
В круг фантомов попадают не только слова тех классов, о которых пишут профессиональные лингвисты (мифологемы, идеологемы и т. п.), но и другие типы номинативных единиц. Так, художник Череванин, персонаж повести Н. Помяловского «Молотов», подвергает критическому анализу и объявляет «пустыми» слова и выражения любовь, дева, поэзия, старина, лучшие люди, среда заела, виноватый, соблазнить, запретить. Рассуждения Череванина не лишены логики и интересны тем, что он критикует стереотипы сознания, воплотившиеся в семантике тех или иных слов[128].
Объектами метаязыковой рефлексии автора и персонажей в художественной речи часто становятся онимы – собственные имена людей и животных, географические названия и т. п. Ономастическая рефлексия касается функций имени, его роли в жизни человека. Так, в пьесе Л.Андреева «Монумент» героиня побуждает гостей к обсуждению данного вопроса:
Ее Превосходительство. Мерси. Вот видите, какая у меня голова! Я, право, не знаю, зачем у меня самой есть имя? Это так ненужно, когда вся душа: не так ли, достоуважаемый Павел Егорович? / Г о-лова. Карпович, Карпов сын. (Потея.) Не могу знать, Ваше Превосходительство. Стало быть, нужно, коли дают. / Гавриил Гавриилович (хохочет). А для вывески-то? «Павел Карпович Маслобойников и сыновья, мука и бакалея».
Метаязыковые комментарии к онимам касаются их происхождения (1), ассоциативных связей (2), фоносемантики (3), описывают культурные коннотации (4), дают ониму общую оценку (5):
(1) Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но она похожа и на сундук, и на фортепиано, и на стену – на что хотите, всего меньше на гору (И. Гончаров. Фрегат «Паллада»); (2) Где эти Кимры – никто толком не знал, но само слово «Кимры» не внушало доверия. Что-то среднее между кикиморой и мымрой (В. Токарева. Своя правда); (3) Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли, бесподобно? Черное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и – Вакх! <…> И там все такие. С такими именами. Односложными. Чтобы было звучно и выпукло. Вакх. Или Лупп. Или, предположим, Фавст (Б. Пастернак. Доктор Живаго); (4) «Шарик» – она назвала его… Какой он, к черту, «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове (М. Булгаков. Собачье сердце); (5) <…> очень нравятся слова: Смоленск, Витебск, Полоцк… <…> Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).
Наблюдения над металексическими комментариями в художественных текстах позволяют сделать ряд выводов о специфике интерпретации слов и выражений «стихийным лингвистом».
1. Так, рефлексивы, посвященные словам и выражениям, могут не содержать вербального комментария: единицы, подвергающиеся метаязыковой оценке выделяются при помощи графических средств и / или акцентирующих метаоператоров, однако сама оценка не формулируется. Ср.:
Я очень хорошо понял, что если стану приставать к нему то нарушу кейф его (Я. Полонский. Квартира в татарском квартале); <…> сам верховный обвинитель охотно разъясняет нам: «почти по всем трибуналам Республики прокатились (словечко-то) подобные процессы…» (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).
Такая «авербальность» характерна только для металексических контекстов – другие явления языка / речи снабжаются более определенным комментарием. В подобных случаях отправитель сообщения уверен (и не без оснований), что адресат правильно поймет метаязыковую импликацию. Исследователи неоднократно отмечали многозначность рефлексивов без вербального комментария [см., напр.: Трикоз 2010 а]. Однако подобная многозначность фактически представляет собой асемантичность: очевидно, что выделение лишь фиксирует внимание на акте метаязыковой рефлексии, но не подсказывает направления «расшифровки» импликации. Нуждаются в дополнительном изучении факторы, которые обеспечивают адекватное восприятие читателем метаязыковых импликаций.
2. Предметом лексического комментирования в художественных текстах становятся не только единицы, которые традиционно рассматривают как явления лексико-фразеологического уровня (слова, составные наименования, фразеологизмы), но и некоторые сочетания слов нефразеологического типа, которые говорящий воспринимает как целостные единицы. Ср.:
У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот носос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца (Н. Гоголь. Мёртвые души); <… > с командиром его у меня сложились, как пишут в воспоминаниях генералы, хорошие отношения (А. Азольский. Диверсант) и т. п.
Выделенные в примерах сочетания не являются фразеологизмами, и если одни из них характеризуются хотя бы высокой степенью частотности[129] (например, сложились хорошие отношения), то другие, напротив, отличаются необычностью, комментируются как чуждые словарю повествователя, а может быть, и неизвестные ему (например, сколот носос). Однако комментаторы выделяют эти формулировки из речевого потока как целостные единицы – как выделяют слова и фразеологизмы. Не будучи в строгом смысле единицами языка, эти выражения представляют собой единицы, которыми оперирует языковое сознание.
Б. М. Гаспаров пишет о существовании в памяти носителя языка особых образований, которые он называет коммуникативными фрагментами. Это «отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он оперирует при создании и интерпретации высказываний» [Гаспаров 1996: 119]. Автор приводит примеры коммуникативных фрагментов и дает следующие разъяснения: «Например, такие выражения, как сам построил дом, строительство жилых домов, в недавно построенном доме, чтобы построить дом, нужно/требуется…, представляют собой различные коммуникативные фрагменты. Они существуют в моей памяти целиком, в качестве готовых к употреблению кусков языкового материала. Я не образую эти сочетания по правилам синтаксического построения именной или глагольной фразы, не думаю о том, какие «падежные формы» имеет лексема дом и какая из этих форм мне понадобится в составе того или другого выражения; я не делаю всего этого… языковая память выносит те или иные из этих выражений на поверхность моего сознания» [Там же: 119]. Коммуникативные фрагменты могут быть различны по структуре и протяженности: от «осколка» слова до предложений и их сочетаний [Там же: 120]. Возможно, восприятие таких единиц как целостных и самостоятельных отчасти объясняет встречающуюся в нелингвистических текстах «неточность», когда термин слово употребляется для обозначения «не-слова». Ср.:
В таком безотрадном положении Иван Васильевич утешался, однако ж, отрадною надеждою отправиться за границу, воображая, что в чужих краях он легко приобретет познания, которые не сумел приобрести в отечестве. Вообще слово за границу имеет между нашей молодежью какое-то странное значение. Оно точно как бы является ключом всех житейских благ (В. Соллогуб. Тарантас); – Значитца, так, – начал с любимой присказки Степанов <…> / – Значитца, так, – отыграл Петренко Степанову его же слово-паразит <…> (А. и С. Литвиновы. Отпуск на тот свет) и др.
Квалификация неоднословного сочетания как о д н о г о слова в приведенных примерах не может быть связана со слитным произношением, поскольку авторы, фиксируя речь на письме, отдают себе отчет в раздельнооформленности сочетания. Однако можно предположить, что обыденным сознанием такие выражения фиксируются как целостные единицы (Возможно, дополнительным фактором такого восприятия является семантический «отрыв», лексикализация словоформы с предлогом за границу – она воспринимается как самостоятельная семантическая единица – ср. современное разговорное заграница).
Идея Б. М. Гаспарова о том, что «вся наша языковая деятельность… пронизана блоками-цитатами из предшествующего языкового опыта» [Там же: 120], подтверждается приведенными примерами метаязыковых комментариев, а также получает дальнейшее развитие: участники коммуникации не только используют и опознают при восприятии готовые «блоки-цитаты», но и интуитивно воспринимают как таковые ранее неизвестные им единицы. Данное обстоятельство служит подтверждением реальности существования коммуникативных фрагментов как единицы практического языкового сознания.
3. Обращает на себя внимание оценка «естественным лингвистом» явлений омонимии и многозначности. То, что специалисты отмечают как силу языка – асимметрию отношений между означаемым и означающим, способность языковой единицы к варьированию, обогащению смысла, – обыденное метаязыковое сознание склонно оценивать отрицательно. Идеальной выглядит определенность значения языковой единицы, не допускающая разночтений, а многозначность часто оценивается как нарушение логики и коммуникативное неудобство. Ср.:
Теперь стоит май… Но почему май «стоит»? Тысячи и тысячи раз подставляется это слово, и вдруг однажды в свежую минуту обнаруживается, что оно совсем некстати. Ни май, ни январь стоять не могут, время не бывает неподвижным. Если уж на то пошло – январь лежит, взбугриваясь снегами и отдыхиваясь вьюгами-метелями, но и лежит не в оцепенении, а медленно и валко перекатываясь в февраль. А март уж поднимается в рост и на затёкших хмельных ногах расхаживает не спеша, заплетаясь и делая кругаля… (В. Распутин. Новая профессия)[130].
«Осуждение» многозначности связано с характерным для обыденного сознания отождествлением языка и речи: именно для речи, понимаемой как «речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом» [Арутюнова 1990: 414], оказывается важной недвусмысленность, однозначность выражаемого содержания. Для языковеда очевидно, что «точечность» семантики языкового выражения в условиях конкретного дискурса не противоречит полисемантичности и даже диффузности семантики данного выражения как единицы языка. Однако «наивное» метаязыковое сознание, отождествляя речь и язык (то есть понимая под языком именно речь), предъявляет и к языковым единицам требование однозначности, считая полисемантичность «ошибкой языка».
Учитывая изложенное, обратим внимание еще на одно обстоятельство. Н. К. Рябцева отмечает, что «носитель языка не осознает, что. слово многозначно, потому что все его значения имеют нечто общее, некоторое глубинное определяющее ядро, неизменное во всех употреблениях слова, объединяющее все значения в единое целое» [Рябцева 2005: 502]. В тех случаях, когда наличие инвариантного значения у полисеманта очевидно, многозначность слова не попадает в фокус внимания носителя языка, а рефлексия по поводу множественности означаемых у одного означающего возникает, как правило, при ощутимой семантической дистанции между значениями, то есть в тех случаях, когда сопоставляются не лексико-семантические варианты слова, а о м о н и м ы. Ср.:
<…> почему на нашем родном языке тряпки и рухлядь называют «добром», а супружество, наоборот, – «браком», тогда как одновременно на том же языке утверждается, что «Бог есть добро», «браком» называется то негодное, что пролетарий выкидывает в мусорную корзину <…> (Ф. Чернин. Вячик Слонимиров…).
В процитированном фрагменте обсуждается наличие разных значений у слов брак и добро. Но если интерпретация единицы брак как омокомплекса традиционна, то слово добро в толковых словарях представлено как многозначное [см.: СД; СУ; МАС; СОШ; БТС и др.]. Однако приведенное рассуждение может служить свидетельством того, что у слова добро осуществляется (или уже произошел) распад полисемии: носитель языка не обнаруживает того инвариантного значения, которое примирило бы «стихийного лингвиста» с наличием у означающего более чем одного означаемого. Думается, что в подобных случаях показатели обыденного метаязыкового сознания могут учитываться лингвистами при решении вопроса о разграничении омонимии и полисемии.
Рефлексия о словах и выражениях, представленная в художественных текстах, играет важную социальную роль. Литература являлась и является для русского читателя своеобразным окном в мир и особым информационным каналом, по которому проникали в язык многие слова – как иноязычные, так и исконно русские (в том числе созданные авторами художественных текстов). Замечания о свойствах языковых единиц, содержащиеся в художественных текстах, могут служить для языковеда не только ярким иллюстративным материалом, но и довольно часто – источником лингвистических сведений.
Логическим завершением исследования той или иной лингвистической проблемы является попытка словарной репрезентации изученного материала. Сегодня лингвисты ставят вопрос о явлении «наивной лексикографии» [Вепрева 2004; Иванищева 2000]. Толкования слов и выражений, предлагаемые рядовыми носителями языка, представляют собой материал, который может быть обработан специалистом и представлен в виде словаря.
Собранный исследователем корпус метаязыковых комментариев может стать основой для словаря «народных» толкований, и даже для целого ряда словарей, ориентированных а) на различные источники материала (фольклорные тексты[131], тексты художественной литературы, СМИ) и/или б) на разные лингвистические объекты и свойства этих объектов. Например, можно ставить вопрос о создании словаря «народной» ономастики, в котором были бы представлены комментарии к именам собственным: антропонимам, топонимам, зоонимам и др. Несомненный интерес может представлять и словарь «народной этимологии», включающий примеры установления словообразовательных и этимологических связей (как истинных, так и ложных), этимологические мифы и т. п. На основе «народных» толкований можно составить словарь нелитературной лексики, поскольку значительный пласт рефлексивов составляют комментарии к словам ограниченного употребления. Среди метаязыковых комментариев часты рефлексивы, которые описывают ассоциативные связи слов и выражений и могут составить своеобразный ассоциативный словарь.
Словари, построенные на таком не совсем обычном материале, могли бы стать инструментом как для исследования обыденного метаязыкового сознания[132], так и для дальнейшего изучения русской лексики и фразеологии. Кроме того, словарь, составленный на материале литературных произведений, отразит художественное метаязыковое сознание, продемонстрирует креативный потенциал метаязыковой рефлексии.
Собранная нами картотека металексических комментариев позволила разработать проект словаря, который будет включать разнообразные характеристики и оценки слов и выражений, сформулированные мастерами художественного слова. Словарь адресован, прежде всего, специалистам-филологам, которых интересуют вопросы изучения обыденного метаязыкового сознания, «наивных» лингвистических технологий, а также вопросы лексикологии, лексикографии, стилистики художественной речи. Кроме того, словарь может быть интересен широкому кругу читателей – любителей русской словесности.
Поскольку для единиц, попадающих в фокус внимания «естественного лингвиста», нет специального терминологического обозначения, мы используем для словаря условное название, которое, на наш взгляд, отражает специфику метаязыковой рефлексии именно в художественном тексте – «Литературный портрет слова».
Как известно, жанр литературного портрета отличается от нехудожественного словесного портрета (например, в официально-деловой речи) целеустановкой. Литературный портрет стремится не столько к точности описания, сколько к художественному изображению наиболее ярких, индивидуальных черт объекта. При этом выбор как изображаемого предмета, так и актуализируемых признаков обусловлен эстетической задачей автора. Таким образом, литературный портрет никогда не является фотографически точным изображением прототипа, но «штрихи» этого портрета всегда эстетически мотивированы.
Литературный портрет слова (или любой другой языковой единицы) также не является исчерпывающим лингвистическим описанием; его нельзя отождествлять со словарной статьей «обычного» словаря, включающей всестороннюю характеристику семантики слова. Как правило, автор художественного произведения обращает внимание на отдельные свойства языковой единицы, но именно на те свойства, которые соотносятся с текущей художественной задачей автора и актуальны для образной системы данного произведения. Таким образом, под литературным портретом слова (выражения) понимается метаязыковой комментарий к слову (выражению), являющийся элементом художественного произведения. Говоря о том, что метаязыковой комментарий является элементом художественного произведения, мы имеем в виду не только формальную включенность такого комментария в текст, но и его роль как экспрессивного средства, компонента «общей образности» (А. М. Пешковский) художественного произведения. Содержанием лексикографического описания этих единиц должен явиться весь спектр толкований и оценок, сопровождающих их употребление в художественных текстах (указание на семантические, стилистические, грамматические, социолингвистические, лингвокультурные и др. свойства слова).
Охарактеризуем основные особенности словаря «Литературный портрет слова».
Словникс ловаря составляют слова и выражения, подвергшиеся метаязыковой рефлексии в художественных текстах XIX – начала XXI вв. Объем словника заведомо меньше, чем у «обычного» толкового словаря, так как метаязыковому комментированию в речи (в том числе – в художественной) подвергаются не все слова и выражения, а лишь те, которые связаны с различного рода «очагами речевого напряжения», которые требуют «особой языковой бдительности говорящего» [Вепрева 2005: 102].
Вход в словарь основан на алфавитном расположении вокабул. Словарная статья состоит из следующих зон (частей): 1) заголовочное слово с соответствующими пометами, 2) описание-иллюстрация, 3) адресная зона, 4) комментарий составителя (см. схему 5).
Схема 5
Структура словарной статьи в словаре «Литературный портрет слова»
Специфика словаря «Литературный портрет слова» особенно наглядно проявляется в центральной зоне словарной статьи – зоне описания-иллюстрации. Под описанием в данном случае понимаются различные виды метаязыковых комментариев (рефлексивы) к слову или выражению, которые и являются основным содержанием словарных статей. В «обычном» толковом словаре данная позиция занята словарной дефиницией (толкованием), в словаре «Литературный портрет слова» металексические комментарии могут содержать толкование, сведения о происхождении и употреблении единицы, обсуждение плана выражения и иные сведения – все эти виды информации мы и называем описанием.
В традиционных толковых (а также в авторских) словарях центральное место в словарной статье занимает метаязыковое описание (толкование, сведения о грамматических и словообразовательных свойствах), к которому примыкает иллюстрация (пример употребления заголовочной единицы). Таким образом, основной текст словарной статьи принадлежит лексикографу, а «чужой» текст (иллюстрация) играет вспомогательную роль. В нашем словаре зона толкования занята тем, что в лексикографической практике принято использовать в качестве иллюстрации, – фрагментом из художественного текста, который совмещает таким образом функции и метаязыкового описания, и иллюстрации. Особая позиция рефлексива в словарной статье подчеркивается и графическими средствами: описание-иллюстрация выполняется более крупным, чем остальной текст, шрифтом Arial. Решение сделать центром словарной статьи именно художественный текст, а не текст составителя противоречит сложившейся лексикографической практике, однако оно обусловлено самим назначением словаря, который призван продемонстрировать особенности «художественных» металексических комментариев: их специфика определяется, во-первых, особенностями обыденной метаязыковой рефлексии, во-вторых, индивидуальностью толкователя, а в-третьих, эстетической задачей создателя художественного текста. Таким образом, авторы метаязыковых описаний – русские писатели XIX, XX и начала XXI в. – являются не просто «иллюстраторами», но и фактическими авторами словаря «Литературный портрет слова».
После зоны толкования располагается адресная зона: в скобках указывается автор и название произведения.
В рефлексивах, как и в статьях традиционного толкового словаря, вербализованы различные виды информации о словах и выражениях: толкование, указание на семантические, стилистические, грамматические, социолингвистические, лингвокультурные и другие свойства. Однако эта информация, выраженная средствами естественного метаязыка, нуждается в дополнительном осмыслении и систематизации в соответствии с задачами лексикографирования.
Во-первых, читатель-нелингвист не владеет навыком интерпретации метаязыковой информации, которая не сформулирована в явном виде и в соответствии с уровнем его понимания. Следовательно, заключенная в рефлексивах информация должна быть переформулирована составителем таким образом, чтобы читатель понял, что именно говорится о слове, выражении в приведенном толковании. Во-вторых, массовый читатель не получил систематической лингвистической подготовкой и не владеет терминологией, выходящей за рамки «наивной» лингвистики. Следовательно, при огромном разнообразии писательских метаязыковых оценок, соотносимых с различными аспектами и проблемами современной науки, составитель словаря должен максимально адаптировать лингвистическую информацию к уровню подготовки «среднестатистического» читателя, знающего терминологию (в лучшем случае) на уровне школьной программы по русскому языку.
Учитывая перечисленные соображения, мы вводим в словарную статью собственный (вспомогательный) комментарий, цель которого – в компактной и доступной для читателя-неспециалиста форме обобщить лингвистическую информацию, содержащуюся в рефлексиве. При этом важно заметить: в данном комментарии не оценивается авторское описание единицы; цель составителя – помочь читателю разобраться, что именно сказал о слове (выражении) автор толкования.
Для удобства восприятия комментариям составителя придана стандартизованная форма. Все виды содержащейся в рефлексивах информации о слове (выражении) сгруппированы по семи модулям и снабжены соответствующими пометами.
Помета Знач. указывает на то, что автором объясняется лексическое значение (Буржуйка[133]), указывается иноязычный эквивалент слова (Cherry brandy), обращается внимание на многозначность слова
Помета Происх. обозначает, что в рефлексиве содержатся сведения о происхождении слова, его современных и исторических словообразовательных связях (напр.: Броневик, Казак I и др.).
Помета Употр. говорит о том, что в авторском тексте обсуждается стилистическая (Легенда) и социолингвистическая (Каймак) маркированность, особенности сочетаемости (Клевета), хронологические рамки активности лексической единицы (Кантон), высказывается суждение об уместности / неуместности использования данной единицы в речи (Товарищ IX) и т. п.
Помета Оц. обращает внимание на различные виды оценок слова: обобщённые (плохое, хорошее, дурацкое слово), эстетические (красивое, тёплое, уродливое слово), эмоционально-психологические (радостное, пугающее, магическое слово) и другие (см.: Антагонизм, Безобразие и др.).
Помета Асс. соответствует описанию ассоциативных связей слова (напр.: Дряхлый).
Помета Форм. свидетельствует о том, что в рефлексиве актуализирован план выражения языковой единицы: особенности грамматического оформления, фонетический и/или графический облик, норма произношения, артикуляционное впечатление или формальное сходство с другими единицами языка; норма правописания и возможные искажения и трансформации внешнего облика слова; языковая игра и шутки, основанные на использовании плана выражения слова и т. д. (напр.: Валишень, Асфальт и др.).
Наконец, помета Культ. указывает на то, что авторское толкование содержит культуроведческий комментарий и / или сопровождается оценкой единицы в аспекте национально-культурного своеобразия языка. При этом под культуроведческим комментарием понимаются разнообразные пояснения, характеризующие денотат слова как факт, явление духовной или материальной культуры (см.: Венера, Авдитор и т. п.).
Для читателя-лингвиста такая система помет выглядит упрощенной, так как под одним обозначением может скрываться достаточно разнородная информация. Так, к особенностям употребления (помета Употр.) отнесены стилевые (В рабочем порядке) и социолингвистические (Вагонки) характеристики единиц, жанровая (Вагон-зак), «персонологическая» (Вот в наше время) и «личностная» (Изюм) маркированность, особенности сочетаемости единицы (Бриллиант), хронологические границы ее функционирования (Кавежединка) и др. Конкретное содержание метаязыковой оценки слова передается не с помощью пометы, а непосредственно в комментарии составителя, который следует за пометой. Однако пометы и комментарии составителя могут оказаться полезными и для читателя-специалиста, например, при первичном поиске необходимой информации.
Считаем важным подчеркнуть: составитель словаря в своих комментариях не характеризует непосредственно заголовочную единицу, а лишь разъясняет содержание оценки, сформулированной писателем в художественном тексте. Поэтому комментарий составителя не исправляет и не уточняет суждения авторов, даже в случае некорректности этих суждений (ср.: Нувориш).
Словарь «Литературный портрет слова» – это словарь нового типа. Он соотносится с особым видом «пользовательского запроса» [Дубичинский 2009: 29], который не попадал ранее в поле зрения лексикографа. С одной стороны, он призван оказать помощь языковеду в изучении «наивных» лингвистических технологий, а с другой стороны, – это в определенном смысле словарь вербализованных в текстах эстетических свойств слова.
Совокупность единиц, составивших словник нашего словаря, может быть охарактеризована как особый лексикографический тип[134]. С одной стороны, употребление данного термина здесь условно, поскольку единицы словника не демонстрируют общих свойств, характерных для каждой помещенной сюда единицы (что объединяет слова одного лексикографического типа). С другой стороны, известно, что всякий (неспециальный) словарь описывает некий фрагмент наивной картины мира. В эту картину мира входит и обыденное представление о языке, языковых единицах. В норме человек пользуется словами, отбирая их посредством подсознательных операций и лишь в особых случаях фиксирует на них метаязыковое сознание. Причины такой фиксации часто связаны со свойствами самих слов (семантическими, прагматическими, структурными, коммуникативными, эстетическими). Таким образом, признаком, объединяющим рассматриваемые слова в один лексикографический тип, является наличие свойств, стимулирующих рефлексию носителя языка. Дополнительным аргументом в пользу объединения описываемых единиц в отдельный лексикографический тип является регулярность рефлексии носителей языка по поводу одних и тех же слов (см., напр.: Друг, Дружба 1, Культура, Любовь, Товарищ и др.).
«Литературный портрет слова» – разноаспектный словарь, поскольку в нем отражены различные свойства лексических единиц: семантика, происхождение, употребление, ассоциативные связи, оценки, особенности плана выражения, национально-культурная специфика и др. Однако он отличается от многоаспектных (толковых) словарей тем, что перечисленные виды характеристик представлены в нем не регулярно, а лишь в случаях, когда соответствующие признаки привлекают внимание создателя художественного текста.
Филологи обратили внимание на то, что в конце XX – начале XXI вв. возросла популярность словарей, жанр которых В. Руднев определил как «авторские словари[135]»: «Надо сказать что «авторский словарь», то есть такой словарь, который дает не объективную безличную информацию, но принципиально неполный, субъективный и концептуальный, – ныне один из самых читаемых жанров: «Словарь Булгакова», «Словарь цитат», «Энциклопедия литературных героев», «Словарь культуры XX века» – всех не перечесть» [Руднев 1999: 232]. Перечисленные словари и подобные им привлекают внимание читателей именно своей субъективностью; привычная для массового пользователя «рекомендательная» функция словаря здесь уступает место функции презентационной. Задача авторских словарей состоит не в том, чтобы дать исчерпывающее описание языковой нормы, а в том, чтобы продемонстрировать возможность нового взгляда на слово.
В. К. Харченко предлагает для подобных словарей особое жанровое определение – «демонстрационный словарь» [см.: Харченко 2006 б] и обосновывает это определение следующим образом: «Почему же не привлечь внимания твоих соотечественников к тому, что тебе приглянулось? Демонстрационный словарь может быть формой привлечения такого внимания» [Харченко 2006 а]. Описываемый в настоящей работе словарь «Литературный портрет слова» также можно было бы назвать демонстрационным, поскольку он, во-первых, включает далеко не исчерпывающий перечень металексических комментариев в художественных текстах, а во-вторых, его задача – продемонстрировать новые возможности лексикографической фиксации речевого материала. В то же время принцип отбора материала для лексикографического описания (рефлексивов) сближает наш словарь с конкордансом, так как в него входят все без исключения обнаруженные исследователем релевантные контексты. В этом отличие, например, от толкового словаря, задача которого – описать инвариантные свойства характеризуемой единицы, выявить наиболее общие элементы семантики слова и дать типичную иллюстрацию. В нашем случае интересно установить не только общие элементы языкового сознания «наивного» носителя, но индивидуальные смыслы, которые приобретает словарная еиница в частном тезаурусе языковой личности, а также все используемые способы комментирования.
Таким образом, словарь «Литературный портрет слова» – это разноаспектный словарь информационного (демонстрационного) типа, описывающий слова и выражения, которые подверглись метаязыковой рефлексии в произведениях русской художественной литературы.
Заключение
Вопросы, рассматриваемые в этой книге, находятся на пересечении целого ряда остро актуальных направлений современной лингвистики. Так, помимо теоретического, очевидно прикладное значение проблемы обыденного метаязыкового сознания. «Стихийная лингвистика» становится все более активной и влиятельной силой в обществе[136]; современная действительность дает примеры не вполне удачного решения сложных и тонких вопросов языковой политики с позиции «бытовой философии языка», без учета накопленных наукой знаний и традиций.
Основные тенденции развития науки и формируемый различными общественными институтами «социальный заказ» требуют от лингвистики «объяснить изучаемый ею объект – язык, – но не только «в самом себе и для себя», а для более глубокого понимания и объяснения человека и того мира, в котором он обитает» [Кубрякова 1995: 224–225]. Исследование обыденных представлений о языке, их источников, факторов развития и устойчивости может помочь ученым и субъектам языковой политики прогнозировать последствия принимаемых решений, предусматривать возможные трудности в их реализации. Сегодня для обеспечения грамотного языкового строительства необходимо изучать механизмы и разрабатывать технологии воздействия на коллективное метаязыковое сознание. Б. С. Шварцкопф, который впервые осуществил специальное исследование отношения говорящих к языку, писал: «Практическое осуществление задач культуры речи требует изучения языкового опыта тех, к кому обращена языковая политика, чтобы знать, на какие черты языкового чутья говорящих можно опираться при пропаганде культуры речи, а с какими чертами следует бороться» [Шварцкопф 1970: 283].
Сегодня в рамках лингвистики было бы целесообразно искать ответы на следующие вопросы: а) каковы возможные источники данных о содержании обыденного метаязыкового сознания; б) какие методы исследования адекватны специфике «наивного» лингвистического знания; в) как выглядит модель языка (как фрагмент языковой картины мира) в сознании неспециалиста (инвариант этой модели и параметры варьирования); г) о каких особенностях метаязыковой деятельности рядового носителя языка свидетельствуют метаязыковые заблуждения (неточные, нечеткие, откровенно ошибочные представления о языке / речи) и др. Перечисленные вопросы носят теоретический характер, однако очевидно и их прикладное значение. Ответы на эти вопросы позволят приблизиться к решению практических задач, которые не только не решены, но, может быть, еще не сформулированы современной наукой с достаточной четкостью.
Актуальность затрагиваемых в монографии вопросов связана также с интересом современной науки к литературе как форме общественного сознания. В частности, современная лингвистика рассматривает художественную литературу как форму репрезентации картины мира (частью которой являются представления о языке / речи).
Литература традиционно выполняет в российском обществе не только собственно эстетическую функцию, но и ценностно-ориентирующую (активно влияет на формирование общественных ценностей, настроений и предпочтений), а также образовательную (служит для читателя источником сведений по истории, социологии, этнографии и т. д.). Безусловно, метаязыковая информация, содержащаяся в художественных произведениях, оказывает влияние на развитие общественного сознания в силу особого отношения к писателю как мыслителю, который знает ответы на многие вопросы, в том числе может квалифицированно рассуждать о языке [Колесникова 2002: 123].
Главная предпосылка высокого авторитета языковой личности писателя – открытое проявление ценностного отношения к языку: в текстах отечественной художественной литературы и художественной публицистики «мы найдем сотни признаний в том, что любовь, внимание и интерес к языку своего народа были одним из мощных стимулов, побудивших их к творчеству» [Караулов 2007: 261].
Метаязыковые комментарии в художественных текстах могут служить ценным источником собственно лингвистической информации. Специалисты справедливо указывали на очевидную важность филологических суждений писателей: «Никто, вероятно, и не станет утверждать, что книги типа «Русские писатели о языке» и «Русские писатели о литературе» при всех трудностях в отборе материала и крайней неполноте конкретных изданий дают исследователям меньше, чем лучшие из филологических монографий» [Григорьев 1975: 10]. Учитывая интерес общества к метаязыковым воззрениям писателей, исследователи неоднократно предпринимали издание различных хрестоматий и сборников поэтических и прозаических текстов для широкого круга читателей; дальнейшее изучение проблемы даст новый интересный материал для подобных изданий. Помимо общелингвистических и лингвофилософских взглядов писателей, языковеду могут быть интересны и содержащиеся в художественных текстах сведения о происхождении, развитии, семантике, прагматике и функционировании языковых единиц.
Наконец, изучение метаязыковых высказываний имеет просветительское значение. Одна из наиболее устойчивых традиций отечественной лингвометодики – обучение языку на образцовом текстовом материале, в частности, на примере высказываний о языке и речи из художественных текстов. Подобные примеры выполняют, прежде всего, дидактическую функцию – являются материалом для различных упражнений и наблюдений, объектом лингвистического и лингвостилистического анализа на занятиях [Шумарина 2007; 2008 а и др.]. Кроме того, метаязыковые высказывания русских писателей используются в аргументативной функции, поскольку могут подтверждать положения лингвистической науки или вступать с учеными в заочную дискуссию; интерес к данному аспекту влечет за собой создание различных хрестоматий [Русские писатели 1953; 1954; 2000; 2004; 2006; Лекант, Гольцова, Копосов 2004], подборок цитат и афоризмов, сборников поэтических и прозаических текстов о языке и речи [напр.: Михайловская 1986; Поэтыо русском языке 1989; 2007; Прямая речь 2007], которые вызывают неизменный интерес у читающей публики.
Представляются очевидными и перспективы изучения проблемы «Язык в зеркале художественного текста». Например, кажутся небезынтересными сопоставительные исследования метаязыковых контекстов в произведениях разных жанров, разных авторов, разных периодов создания.
Всякий языковед, занимающийся вопросами преподавания или языкового строительства, должен иметь представление о закономерностях обыденной метаязыковой деятельности (как врач имеет представление об анатомии и физиологии человека, как архитектор осведомлён о свойствах строительных материалов, как лоцман знает особенности рельефа дна). В связи с подобным положением дел представляется целесообразным ставить вопрос о включении соответствующего круга вопросов в содержание высшего профессионального филологического образования. Думается, назрела необходимость создания учебного пособия по теории обыденного метаязыкового сознания. Работа над пособием не только сделает проблему доступной широким массам филологов, но и позволит осмыслить её на ином уровне.
Для стимулирования исследовательской активности в соответствующей области полезной была бы публикация различного рода выборок (в том числе рефлексивов из художественных текстов), репрезентирующих обыденное метаязыковое сознание[137]. Это могут быть словари «наивных» толкований, тематические подборки высказываний рядовых носителей языка (например, «Грамматика в обыденном метаязыковом сознании», «Современная культурно-языковая ситуация в зеркале «народной» лингвистики», «Национально-культурное своеобразие языка в отражении обыденного метаязыкового сознания» и т. п.).
В дальнейшем развитии, углублении, конкретизации нуждается учение о функционировании рефлексивов в художественных текстах. Метаязыковая рефлексия в литературном произведении может интерпретироваться как особого рода «лингвистика», субъектом которой является автор текста. Выступая в каждом конкретном произведении как «авторская лингвистика», она в то же время демонстрирует некоторые общие черты и закономерности. Это «поэтическое языковедение» 1) характеризуется специфическим составом объектов (который пересекается, но не совпадает с перечнем объектов научной и «наивной» лингвистики), 2) выдвигает собственные принципы интерпретации этих лингвистических объектов, 3) располагает целым арсеналом особых лингвистических технологий и 4) оперирует особым метаязыком.
В книге не затрагивается диахронический аспект проблемы. Хотя привлекаемый к рассмотрению материал имеет широкие хронологические рамки, он не исследуется в динамике. Следование принципу историзма предполагает анализ материала с учетом его исторической изменчивости, выявление социальных факторов, влияющих на направленность, содержание, интенсивность метаязыковой деятельности [см., напр.: Судаков 2006; Трикоз 2010 б]. Реализация намеченных в данной работе принципов анализа метаязыковой рефлексии в историческом аспекте, несомненно, относится к наиболее интересным перспективам исследования.
Рост исследовательского интереса, с одной стороны, к вопросам обыденного метаязыкового сознания, а с другой стороны, – к «лингводицее» художественного текста ставит на повестку дня издание аннотированного библиографического указателя по проблеме.
Внимания исследователей требует вопрос упорядочения терминологии, связанной с изучением различных видов рефлексии о языке (обыденной, научной, эстетической, «любительской»); думается, необходимым шагом на пути к решению этой задачи является создание тематического словаря терминов[138].
Наверное, сегодня есть основания утверждать, что в сознании научного сообщества вопрос о «непрофессиональной» метаязыковой рефлексии все более смещается из зоны дальней периферии в «светлое поле» актуального знания.
Литература
Абрамов Ф. Такой словарь нужен // Русская речь. 1972. № 5. С. 51–53.
Акимова Т. И. «Письма о русской поэзии» Н. Гумилева в контексте споров о языке 1920—30-х гг. // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т. 1. С. 397–401.
Акишева А. Т. Языковое самосознание как измерение социальных моделей речевого поведения в гендерном аспекте // Русская литература в формировании современной языковой личности: СПб., 2007. Т. 2. С. 5—14.
Алимова Г. В. Проблема креативности языковой личности // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 169–174.
Андрусенко Е. А. Стратегии семантизации диалектизмов в художественном тексте (на материале произведений сибирских писателей) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово;
Барнаул, 2008. С. 350–355.
Андрющенко Т. Я. Метатекст и его роль в интерпретации текста // Проблемы организации речевого общения. М., 1981. С. 127–150.
Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. 344 с.
Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2 т. М., 1995. Т. 2. 767 с.
Арнольд И. В. Графические стилистические средства // Иностранные языки в школе. 1979. № 3. С. 13–20.
Арсеньева Муза. Язык мой – друг мой. Филологи, – к барьеру!.. СПб., 2007. 192 с.
Артемова О. Г. Использование графических и паралингвистических средств в создании семантики художественного образа персонажа // Язык, коммуникация, социальная среда. Воронеж, 2002. Вып.2. С. 164–177.
Арутюнова Н. Д. Диалогическая модальность и явление цитации // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992. С. 52–79.
Арутюнова Н. Д. Речь // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: 1990. С. 414–416.
Арутюнова Н. Д. Наивные размышления о наивной картине языка //
Язык о языке. М., 2000 а. С. 7—22.
Арутюнова Н. Д. Показатели чужой речи де, дескать, мол: К проблеме интерпретации речеповеденческих актов // Язык о языке. М., 2000 б. С. 437–449.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М., 2005. 384 с.
Ахапкин Д. Н. «Филологическая метафора» в поэзии И.Бродского: автореф. дис. канд. филол. наук. СПб., 2002. 22 с.
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 607 с.
Ахметова Г. Д. Курсив в повести В. С. Маканина «Где сходилось небо с холмами» // Русская речь. 2006. № 5. С. 41–44.
Базылев В. Н. От парадигм-маргиналий к парадигмам-доминантам в современной лингвистике (лингвосинергетика, палеонтология языка, кондициональная лигвистика) // Лингвистика на рубеже эпох: доминанты и маргиналии. М., 2004. С. 45–77.
Базылев В. Н. Политика и лингвистика: «великий и могучий…» // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2009. Вып. 3 (29). С. 9—39.
Балахонская Л. В. Языковая рефлексия на рекламные тексты в современной художественной и публицистической литературе // Русская литература в формировании современной языковой личности. СПб., 2007. Т.1. С. 115–122.
Баранов А. Н. Намек как способ косвенной передачи смысла [Электронный ресурс] // Диалог—2006: докл. междунар. конфер. URL: http://www.dialog-21.ru/dialog2006/materials/pdf/Baranov.pdf (дата обращения: 12.11.2009).
Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Предисловие // Василий Буй. Русская заветная идиоматика (веселый словарь крылатых выражений). М., 1995. С. VI–VII.
Баранов А. Н., Кобозева И. М. Вводные слова в семантической структуре предложения // Системный анализ значимых единиц русского языка. Синтаксические структуры. Красноярск, 1984. С. 83–93.
Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005. 528 с.
Барчунова Т. В. Уровни языковой реальности и способы рефлексии над языком // Рефлексия в науке и обучении. Новосибирск, 1989. С. 135–143.
Батюкова Н. А. Говоря современным языком (рефлексивы в современных текстах массовой информации) // Вестник Московского университета. Сер.9. Филология. 2007. № 5. С. 156–161.
Батюкова Н. А. Метаязыковые средства современной публицистической и художественной речи: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2009. 24 с.
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 504 с.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979 а. 320 с.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979 б. 424 с.
Белякова И. Ю., Оловянникова И. П., Ревзина О. Г. Словарь поэтического языка Марины Цветаевой: в 4 т. М., 1996–2004.
Бердичевский А. Метаязык как часть естественного языка // Московская студенческая конференция по теоретической и прикладной лингвистике в рамках Международной молодежной научной Олимпиады «Ломоносов—2006». М., 2006. С. 5–7.
Бессознательное: Природа, функции, методы исследования: в 4 т. Тбилиси, 1978–1985.
Блинова О. И. Носители диалекта – о своем диалекте: (Об одном из источников лексикологического исследования) // Сибирские русские говоры. Томск, 1984. С. 3—15.
Блинова О. И. Обыденное метаязыковое сознание как источник лингвистической информации (на материале диалектной мотивологии) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Кемерово; Барнаул, 2008. С. 13–19.
Блинова О. И. Обыденная мотивология и её аспекты // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Кемерово; Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 228–238.
Блинова О. И., Ростова А. Н. Явление мотивации слов по данным языкового сознания носителей диалекта // Лексика и фразеология говоров территорий позднего заселения. Кемерово, 1985. С. 25–33.
Блумфилд Л. Язык. Л., 1986. 607 с.
Богин Г. И. Рефлексия и интерпретация: принцип потенциальной понятности всякого текста // Вопросы стилистики. Саратов, 1998. Вып. 27. С. 62–68.
Бодалев А. А., Куницына В. Н., Панферова В. Н. О социальных эталонах и стереотипах и их роли в оценке личности // Человек и общество: (Ученые записки НИИКСИ). Л., 1971 Вып. 9. С. 151–160.
Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. М., 1963. Т. I. 384 с.; Т. II. 392 с.
Бодуэн де Куртенэ И. А. Введение в языковедение. Изд. 6-е. М., 2004. 320 с.
Божович Е. Д. О функциях чувства языка в решении школьниками семантико-синтаксических задач // Вопр. психологии. 1988. № 4. С. 70–78.
Бокарева Ю. М. Лексикографические материалы Н. В. Гоголя // Слово. Словарь. Словесность: Текст словаря и контекст лексикографии. СПб., 2010. С. 384–388.
Болдырева Е. М. Memini ergo sum: автобиографический метатекст И. А. Бунина в контексте русского и западноевропейского модернизма.
Ярославль, 2007. 497 с.
Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. М., 1987. 160 с.
Борисов С. Б. Роль рефлексии в творческой деятельности (на примере анализа феномена личной переписки) // Рефлексивные процессы и творчество. Новосибирск, 1990. Часть 1. С. 235–236.
Бочаров А. Б. М. М. Бахтин: от филологии к философии, от металингвистики (метариторики) к философии языка [Электронный ресурс] // Русская и европейская философия: пути схождения. СПБ., 1999. URL: http://anthropology.ru/ru/texts/bocharov/ruseur_07.html (дата обращения: 11.09.2010).
Бударагина Е. И. Тенденция к размыванию норм современного русского языка в дискурсе СМИ (на материале рекламы) // Активные процессы в различных типах дискурсов: политический, медийный, рекламный дискурсы и Интернет-коммуникация. М.; Ярославль, 2009. С. 31–33.
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Folk linguistics // Русский язык в его функционировании. М., 1998. С. 13–15.
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Человек о языке (метаязыковая рефлексия в нелингвистических текстах) // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 146–161.
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. «Стихийная лингвистика» (Folk linguistics) // Русский язык сегодня. М., 2000. Вып. 1. С. 9—18.
Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. 414 с.
Бухштаб 2008: Бухштаб Б. Философия «заумного языка» Хлебникова // Новое литературное обозрение. 2008. № 1 (89). С. 44–92..
Вавилова Л. В. Письменные источники реконструкции наивной языковой картины мира // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Лингвистика». 2005. № 7. С. 170–177.
Валитова А. М. Вербальное представление речевых шагов автора в научном тексте: автореф. дис. канд. филол. наук. Уфа, 2001. 19 с.
Валуенко Б. В. Выразительные средства набора в книге. М., 1976. 128 с.
Варбот Ж. Ж. Народная этимология в истории языка и в научной этимологии // Славянское языкознание: XIII Междунар. съезд славистов. М., 2003. С. 49–62.
Василий Буй. Русская заветная идиоматика (веселый словарь крылатых вьфажений). М., 1995. 336 с.
Васильев А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления. М., 2003. 224 с.
Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка.
СПб., 2004. 336 с.
Вашунина И. В. Коммуникативно-функциональные особенности некодифицированных графических средств: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1995. 20 с.
Введенская Л. А., Колесников Н. П. Приемы осмысления внутренней формы слова (виды ненаучной этимологии) [Электронный ресурс] // Respectus philologicus. 2003. № 3 (8). URL: http://filologija.vukhf.lt/3-8/vved.htm (дата обращения: 22.08.2010).
Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8. С. 402–424.
Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 416 с.
Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 99—111.
Велединская С. Б. Проблемы интерпретации лексической мотивации в художественном тексте: автореф. дис. канд. фил. наук. Томск, 1997. 20 с
Вепрева И. Т. Рефлексивы и их функционально-системная организация // Русский язык в контексте культуры. Екатеринбург, 1999. С. 194–203.
Вепрева И. Т. О некоторых особенностях наивной лексикографии // Русский язык сегодня. М., 2004. Вып. 3. С. 55–64.
Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М., 2005. 384 с.
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Изд. 3-е. Л., 2008. 648 с.
Виноградов В. В. Русский язык: грамматическое учение о слове. М., 1947. 784 с.
Виноградов В. В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания // Вопросы языкознания. 1964. № 3. С. 3—18.
Виноградов В. В. О работе Н. В. Гоголя над лексикографией и лексикологией русского языка // Исследования по современному русскому языку: сб. ст., посвящ. памяти проф. Е. М. Галкиной-Федорук. М., 1970. С. 30–53.