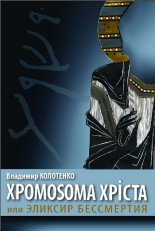Неореализм. Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX – начала XX века Тузкова Инна

3-я часть гл. 8: действие происходит следующим летом в усадьбе Песоцких; к этому времени Коврин выздоравливает (кульминация);
4-я часть гл. 9: действие происходит через два года в Крыму; рецидив болезни, Коврин умирает (развязка)12.
При этом нет смысла оспаривать мысль Д. Шостаковича о том, что архитектоника «Чёрного монаха» – «одного из самых музыкальных, – по его словам, – произведений русской литературы» имеет резко выраженные черты «сонатности»13. Напротив, нам она представляется заслуживающей внимания, тем более, что соната, как и некоторые другие циклические формы (например, симфония), чаще всего состоит не из трёх, а из четырёх частей: 1-я – быстрая, 2-я – медленная, 3-я – быстрая и 4-я – быстрая. Интересно, что в рассказе А. Чехова, соответственно, 1-я, 3-я и 4-я части многособытийны, причём по мере развития тех или иных событий писатель заставляет своего героя вспоминать прошлое и связывать происшествия давних лет с настоящим, т. е. в этих частях рассказа всю жизнь героя обрамляет субъективное время, тогда как 2-я часть диалогична (беседы Коврина с Чёрным монахом и Таней) и включает в себя лишь объективное время повествования.
Художественный конфликт «Чёрного монаха», очевидно, восходит к романтическому конфликту, одной из граней которого является противопоставление идеального и реального14. При этом, как справедливо отметил В. Катаев, «определяющую роль в истории героев «Чёрного монаха» сыграла ситуация «казалось» – «оказалось»15. Эту ситуацию отражают и условно выделенные нами части рассказа, в которых преобладают те или иные лирические мотивы (настроения), связанные с изменением внутреннего психологического состояния героев, и прежде всего Коврина, по мере развития основного художественного конфликта.
Первая часть рассказа (гл. 1–6) – период радости, счастья, любви героев. О мировосприятии Коврина в это время можно судить по следующим фрагментам: «…ему казалось, что в нём каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия» [с. 189]; «Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнившую всё его существо…» [с. 195]; «Я доволен, Таня, – сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. – Я больше, чем доволен, я счастлив!» [с. 201] и т. п.16
Каждый из героев рассказа обладает индивидуальным взглядом на мир, своим пониманием целей и смысла жизни. Их позиции – сфера интересов, деятельности, представлений о мире и о своём месте в нём – определяются главным образом в лирически окрашенных диалогах. При этом позиция Коврина раскрывается опосредованно, через высказывания Чёрного монаха: Коврин верит, что смысл жизни в познании («Истинное наслаждение в познании…» [с. 199]), верит в свою избранность («Ты один из немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими. Ты служишь вечной правде…» [с. 199]), верит, что людей ждёт великое будущее и он – один из тех, кому дано это будущее приблизить («Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы ещё ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введёте его в царство вечной правды – и в этом ваша высокая заслуга…» [с. 199]).
Нездоровые претензии Коврина на собственную исключительность подкрепляются и отношением к нему окружающих: со слов Тани выясняется, что Песоцкий без рассуждений преклоняется перед Ковриным, слепо верит в его величие, в значимость того, чем тот занимается («…мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы учёный, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру…» [с. 187]). В свою очередь, для Тани Коврин является олицетворением её идеала, связанного с представлениями о другой, высокой и значимой жизни («Вы мужчина, живёте уже своею, интересною жизнью, вы величина… Вся, вся наша жизнь ушла в сад. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и ещё чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и всё-таки понимала…» [с. 186–187]). Характерно, что все герои – и Коврин, и Песоцкий, и Таня – живут с иллюзорными, мнимыми представлениями о мире и своём месте в нём. Но они искренни в своем заблуждении и поэтому счастливы.
Во второй части рассказа (гл. 7) герои освобождаются от иллюзий. Осознание ими своего истинного положения приводит к завязке художественного конфликта, в результате чувство радости в мировосприятии героев сменяется ощущением страха: «Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся… Только теперь, глядя на неё, Коврин понял всю опасность своего положения, понял, что значат чёрный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший… «Ты не бойся, Андрюша, – говорила Таня, дрожа, как в лихорадке, – не бойся…» Коврин от волнения не мог говорить…» [с. 205–206].
Третья часть (гл. 8) – период неудовлетворённости, разочарования и взаимной враждебности в жизни героев. Кульминацию в развитии художественного конфликта отражает монолог Коврина: «Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, тёплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг – всё это в конце концов доведёт меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я – посредственность, мне скучно жить…» [с. 208].
Заключительная, четвёртая часть рассказа (гл. 9) включает в себя весь спектр лирических мотивов из предыдущих частей, но разворачивающихся в обратном порядке: от разочарования и ненависти к ощущению радости и счастья. Здесь и окончательное осознание Ковриным собственной посредственности: «Коврин теперь ясно сознавал, что он – посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть…» [с. 213]; и полное ненависти письмо от Тани: «Я ненавижу тебя всею моею душой… Будь ты проклят. Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедший…» [с. 212]; и навязчивое, непокидающее ощущение страха: «Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице кроме него нет ни одной души…» [с. 213]; и, наконец, давно забытое чувство радости и счастья: «…чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди… невыразимое, безграничное счастье наполняло всё его существо…» [с. 214]17.
Характерно, что в «Чёрном монахе» А. Чехов остаётся верен себе, стремясь, как точно подметил А.Чудаков, «прежде всего обозначить общую и вещно-пространственно-временную ситуацию и социальную принадлежность героя, сразу назвать его имя, отчество, фамилию»: «Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы…»18. Повествование начинается в сдержанных, спокойных тонах, однако читатель с первых же страниц рассказа чувствует себя погружённым в лирическую стихию. И все же обманчивость впечатления несомненна: источник лиризма – состояние не автора, а героя, настроенного субъективно, поскольку, как справедливо отметила М. Семанова, в рассказе А. Чехова «вне воспринимающего сознания Коврина почти нет авторских описаний»19. Внутреннее психологическое состояние Коврина накладывает отпечаток на всё, о чём рассказывается в произведении, хотя формально повествование и не ведётся от его имени. В то же время видение героя как бы отягощено его внутренними противоречиями, соответственно, его чувствами оправдывается введение в основной – нейтральный – тон повествования иных тонов, в том числе лирических. Иными словами, авторская оценка в рассказе проявляется как бы исподволь, преломляясь через мировосприятие персонажа: речь героя и автора-повествователя сближаются и порой сливаются в труднорасчленимое стилевое единство20. Резкая разграничительная черта между сознанием автора и героя проведена лишь однажды, в сцене объяснения в любви Коврина и Тани. Восторженное, приподнятое настроение Коврина, его слова: «Как она хороша» — охлаждены трезвым взглядом автора: «Она была ошеломлена, согнулась, съёжилась и точно состарилась сразу на десять лет…» [с. 201]. Обычно же читатель угадывает уровни ковринского и авторского сознания лишь из всей структуры рассказа: проникновение субъективности восприятия героя в авторский нейтральный текст становится одним из важнейших средств лиризации чеховского повествования.
Уже в первой главе «Чёрного монаха», в описаниях парка и сада Песоцких оживают впечатления Коврина, связанные с его прошлым. Это определяет эмоциональную тональность не только начала рассказа, но отчасти и настроение всего произведения: ориентацию на память, на воспоминания с их характерной тенденцией поэтизировать и идеализировать реальность21. С исключительной чувствительностью, почти ностальгически А. Чехов передаёт ощущения Коврина, связанные с его воспоминаниями («Го, что было декоративною частью сада… производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой!..» [с. 185]), которые погружают его в мир, исполненный разнообразных аллюзий, запахов и красок, – в мир поэзии, где нормативные время и пространство перестают существовать. Экспрессивность эпитетов и метафор, характеризующих настроение Коврина, воспринимающего действительность субъективно, придаёт этим описаниям эмоциональную напряжённость, радостную взволнованность. Однако для того чтобы верно оценить их, следует учитывать, что сам А. Чехов стоит как бы поодаль от героя: он не идеализирует ни его субъективность в целом, ни тех образов и впечатлений, которые сквозь фильтр памяти наполняют Коврина трогательными эмоциями. У А. Чехова патетика всегда в той или иной степени ложно-серьёзна, авторитарна, и потому за ней всегда скрывается редуцированная авторская ирония, которая в данном случае связана с восприятием образов парка и сада как неких литературных шаблонов красоты. Не случайно весь строй тщательно подобранных деталей: «угрюмый и строгий» парк у реки с «обрывистым, крутым глинистым берегом», «сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы», розы, лилии, камелии, тюльпаны, – лишён оригинальности, отдаёт шаблоном и потому подсвечивается едва приметной иронией, которая закономерно распространяется на образ Коврина, ведь читатель всё видит в свете его переживаний и оценок.
Характерно, что в описании коммерческого сада так же проступает авторская ирония (имеется в виду фраза «В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семёнычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле чёрный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи…» [с. 186]), но здесь точка зрения А. Чехова совпадает с позицией Коврина, настроенного по отношению к коммерческой стороне деятельности Песоцкого столь же иронично, как и автор-повествователь. В результате уже в начале рассказа обозначается ироническая дистанция между автором и главными героями, которая в ходе повествования постепенно преобразуется, не исчезая окончательно, в элегичность сострадания22. Следовательно, абсолютно правы исследователи, полагающие, что авторский идеал в «Чёрном монахе» не совпадает ни с позицией Коврина, ни с позицией Песоцкого: авторская позиция в рассказе А. Чехова раскрывается через сложное сплетение позиций главных героев23. Таким образом, с точки зрения А. Чехова, постижение истины становится возможным только в диалоге различных сознаний: авторская ирония в данном случае указывает на то, что «правда» каждого героя относительна и недостаточна.
Иронический характер авторской речи проявляется и в постоянных указаниях на суетность жизни героев произведения. В частности, портретная характеристика Песоцкого заканчивается ремаркой автора-повествователя («Вид он имел крайне озабоченный, всё куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!» [с. 188]), иронический эффект которой распространяется и на повторяющиеся реплики героя, – своеобразные эмоциональные константы его художественного образа: «Боже мой! Боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!» [с. 188]; «Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!» [с. 203]. Ту же ироническую функцию здесь выполняют контрастные восклицания («Боже мой!» – «Черти!») и авторские неологизмы («перемерзили», «пересквернили»).
Ироничность тона авторского комментария заметно усиливается в шестой главе рассказа:
• в описаниях, связанных с подготовкой к свадьбе Коврина и Тани («А тут ещё возня с приданым, которому Песоцкие придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы…» [с. 202]);
• в характеристике внутреннего состояния Тани («То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то… бог весть откуда, придёт мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, – и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов…» [с. 202]);
• её отца («В нём уже сидело как будто два человека: один был настоящий Егор Семёныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный» [с. 203]);
• Коврина («А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шёл к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись» [с. 203])
• и, наконец, в описании свадьбы («Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наёмной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы» [с. 204])24.
Характерно, что именно в этих фрагментах рассказа наиболее чётко обозначено – прежде всего интонационно – отделение авторской точки зрения от кругозора Коврина.
Заключительный абзац седьмой главы («В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору…» [с. 206]) переводит Коврина на положение больного: сначала он утрачивает внутреннюю свободу, а вместе с ней – постепенно – и смысл жизни. Описание парка и сада Песоцких в восьмой главе рассказа («Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду…» [с. 207]) исчерпывающе отражает перемену, произошедшую в мироощущении Коврина после того, как и он сам, и окружающие стали воспринимать его как психически больного человека: если в период болезни жизнь Коврина «была полна красок, поэзии, красоты природы», то после его выздоровления «она превращается в унылое, бесцветное прозябание». Это особенно остро ощущается по контрасту с первыми главами, наполненными цветом: цветы, краски, природа в «Чёрном монахе» знаменуют радость и смысл существования.
Характерно, что в последней главе к Коврину возвращается способность адекватно воспринимать красоту природы: «Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зелёным; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!» [с. 212], – ведь перед смертью душа героя вновь пробуждается, и он от состояния унылого равнодушия снова поднимается к радости.
После выздоровления реальная действительность воспринимается Ковриным в искажённом виде, как некая параллель к тому, что было прежде, словно отражённая в «кривом зеркале». Вместо абсолютного счастья и полноты жизни он переживает постоянный душевный дискомфорт, живёт прошлым, без цели в настоящем и без веры в будущее.
Портретная характеристика Коврина в восьмой главе рассказа («…голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело» [с. 207]) – своего рода ремарка повествователя к описанию пейзажа («Угрюмые сосны с мохнатыми корнями (…) не узнавали его»), – акцентируя внимание читателей на изменении внешнего вида Коврина, автор иронически переосмысливает перемену в его внутреннем состоянии. Отсутствие указаний в тексте рассказа на то, что во время болезни Коврин носил длинные волосы, лишь усиливает эффективность этой детали. А её повторение в конце восьмой главы («… она замечала, что на его лице уже чего-то недостаёт, как будто с тех пор, как он подстригся, изменилось и лицо» [с. 210]) усиливает авторскую иронию и порождает дополнительные смыслы, утверждая читателя в мысли, что с утратой иллюзий Коврин лишился и собственной индивидуальности, – ведь эта, на первый взгляд незначительная, случайная деталь явно соотносится с многочисленными указаниями на незаурядность Коврина в предыдущих главах рассказа («… все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен» [с. 192] и т. п.). Здесь необходимо отметить инверсированность чеховской иронии. Писатель обращает читателя к уже прочитанному, заставляет увидеть в новом свете тот или иной фрагмент повествования, переосмыслить, углубить его. Итак, одной из важнейших форм выражения лирического начала у А. Чехова служит иронический подтекст, скрытый вид иронии, который обнаруживается в ходе повествования в результате сопоставлений и ассоциаций, возникающих в читательском восприятии. Известная краткость, фрагментарность чеховского повествования заставляют читателя ощутить важность, неслучайность подтекстных элементов.
Ещё одно средство выражения авторского лиризма у А. Чехова – это экспрессивность символики. Концентрация лирико-символических тем и мотивов в «Чёрном монахе» необычайно высока, причём исследователи справедливо указывают на двойственность основных понятий и символов рассказа: через всё повествование проходят лирико-символические темы парка, сада (декоративного и коммерческого) и Чёрного монаха26. Двойная лирико-символическая перспектива образа сада, который является одним из основных источников лирического плана произведения, намечается уже в первой главе рассказа: если декоративная часть сада дана как воплощение красоты, идеального начала и включена в хронотоп парка, то коммерческий сад связан с материальными интересами героев, с объективной реальностью и входит в хронотоп дома. В этой связи следует отметить, что с самого начала повествования противопоставление Коврина и Песоцкого намечается через их отношение к разным частям сада: Песоцкий декоративную часть сада «презрительно обзывал пустяками», в то время как на Коврина она производила «сказочное впечатление», и напротив, коммерческий сад для Песоцкого был делом всей его жизни, а у Коврина вызывал скуку. Таким образом, между коммерческой частью сада и декоративной, между домом и парком проходит невидимая, но реально существующая ценностная граница, – по терминологии М. Бахтина, её можно обозначить как хронотоп порога.
Хронотопы парка и дома контрастны. В парке герои мечтают о будущем, объясняются в любви, переживают «светлые, чудные, неземные минуты»; в доме же господствует бытовое, циклическое время: точками его отсчёта служат еда, сон, работа («Однажды после вечернего чая…», «После ужина…», «Под утро…», «Под Ильин день вечером…» и т. п.). Связующими звеньями между домом и парком становятся открытые окна, сквозь которые в дом проникает аромат цветов, мотивируя ожидания и раздумья героя («… в открытые окна нёсся из сада аромат табака и ялаппы» [с. 209]), терраса и балкон, куда Коврин выводит Таню, чтобы рассказать ей легенду о Чёрном монахе («Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон…» [с. 190]).
Составляющие чеховского символа мироустройства Дом – Парк в восприятии читателей ассоциируются соответственно с упорядоченной, повседневной жизнью людей и стихийной жизнью природы. Объединяет их лирико-символический мотив циклического движения, образ которого становится в произведении метафорой человеческой судьбы. Осмыслению этой метафоры в значительной мере способствует ритмическая организация повествования, основанная на повторении лирических мотивов, символических образов, изобразительных деталей и др. Исследователи неоднократно отмечали, что «в каждой новой главе рассказа мы как бы возвращаемся к содержанию предшествующей»27. Ритм повторения особенно ощутим в заключительной, девятой главе «Чёрного монаха», где А. Чехов вводит в повествование все мотивы и символы предшествующих глав:
• письма от Тани как обрамление истории любви героев: «Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить» [гл. 1, с. 184] и «… он получил от Тани письмо… и мысль о нём приятно волновала его» [гл. 9, с. 211];
• символический образ «чужого человека» как угроза гибели сада: «…первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек» [гл. 3, с. 193] и «Наш сад погибает, в нём хозяйничают уже чужие…» [гл. 9, с. 212];
• разорванные Ковриным письмо от Тани и диссертация как отражение гибнущей любви и несостоявшейся жизни: «Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря лёгкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику» [гл. 9, с. 213] и «…он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы» [гл. 9, с. 211];
• повышенная работоспособность, бессонница, пристрастие к вину и табаку, оказывавшим на него возбуждающее действие, как проявления болезненного состояния Коврина: «Он много читал и писал. Он спал так мало, что все удивлялись (…) Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары…» [гл. 2, с. 189] и «Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился (…) Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них – это работа…» [гл. 9, с. 211, 213]28;
звуки скрипки и поющие голоса (звуковой лейтмотив), вызывающие у Коврина сонливость, как знак скорого появления Чёрного монаха: «Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову набок…» [2 гл., с. 189] и «Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса…» [гл. 9, с. 213];
• серенада Брага, полная таинственного, мистического смысла, как отражение лирической темы Чёрного монаха: «…вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса» [2 гл., с. 190] и «В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная…» [гл. 9, с. 213–214];
• портрет Чёрного монаха как пример кольцевой симметрии, несущей в себе огромную силу эмоционального воздействия на читателя: во второй и девятой главах портрет Чёрного монаха выдержан в стремительном ритме, отличается повышенной динамикой и напряжением, а в пятой главе та же, в сущности, портретная зарисовка даётся – по принципу контраста – в подчёркнуто спокойных, буднично-сниженных тонах: «На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий чёрный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой (…) Монах в чёрной одежде, с седою головой и чёрными бровями, скрестив на груди руки, пронёсся мимо…» [гл. 2, с. 191–192]; «…из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою седою головой, весь в тёмном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мёртвом лице резко выделялись чёрные брови…» [гл. 5, с. 198] и «Чёрный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту (…) Монах с непокрытою седою головой и с чёрными бровями, босой, скрестивши руки на груди, пронёсся мимо…» [9 гл., с. 214];
• лирический мотив счастья, радости, связывающий все три легенды, включённые в рассказ (серенада Брага, легенды о Чёрном монахе и Поликрате), как символ постижения героем смысла жизни. Обогащаясь лирическими ассоциациями, этот мотив приобретает множество значений (гармония, красота, природа, любовь, наука и др.), сконцентрированных вокруг символа-знака человеческого счастья – Поликрата, с которым сравнивает себя Коврин: «Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую всё его существо…» [гл. 3, с. 195]; «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!» [гл. 5, с. 201]; «… меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить моё счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства» [гл. 7, с. 205] и «… чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди» [гл. 9, с. 214].
Итак, одним из основных принципов построения «Чёрного монаха» являются повторы, при этом авторское отношение к изображаемому выражается посредством сюжетно-композиционных элементов, сопоставлений и контрастов – через «переклички» отдельных эпизодов, реплик, описаний и т. д. Повторение ситуаций, образов-символов, деталей пейзажа и т. п., с одной стороны, позволяет А. Чехову избегать описательности, делает повествование предельно лаконичным и ёмким, а с другой, выполняет роль подтекстных «знаков», благодаря которым автор и без прямых оценок-комментариев даёт читателю почувствовать своё отношение к изображаемому.
Тема Чёрного монаха как важнейший источник лирического плана в художественной структуре чеховского рассказа передаёт движение от объективного к субъективному, от реального к идеальному: Коврин постепенно утрачивает способность ориентироваться в окружающей действительности и оказывается в собственноручно созданном солипсическом мире. Лирико-символический образ Чёрного монаха оценивается исследователями, как правило, двойственно: с одной стороны, как двойник Коврина, его неудовлетворённая потребность жить осмысленно, одухотворённо, иметь высокую цель в жизни (апостольский план), а с другой стороны, как олицетворение болезни, предвестник смерти (апокалипсический план)29.
Диалоги Коврина с Чёрным монахом (5, 7 и 9 гл.) – своеобразная анатомия его души: «…ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, – сказал Коврин. – Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли…» [с. 200], – воспринимаются прежде всего как свидетельство того, что он тонет в своей субъективности. Содержательная сторона этого «раздвоенного монолога» до сих пор оценивается крайне противоречиво. Некоторые исследователи полагают, что беседы Коврина с Чёрным монахом полностью объектны, автор не имеет с ними ничего общего, дистанцируется от них. Другие усматривают в речах Чёрного монаха прямую связь с чеховским словом и оценкой30.
Действительно, в диалогах Коврина с Чёрным монахом затрагивается целый комплекс мотивов, которые в разной степени близки автору: проблемы бессмертия, избранничества, счастья и др. (сама настойчивость обращения к ним разных чеховских героев свидетельствует об этой близости). Однако отношение А. Чехова к содержанию диалогов Коврина и Чёрного монаха не проявляется в форме прямых оценок и комментариев и может быть выяснено только в художественной структуре рассказа в целом, в сцеплении диалогов Коврина и Чёрного монаха с другими композиционными компонентами повествования.
Особое внимание исследователи уделяют финальной сцене рассказа: «Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна…» [с. 214], – полагая, что именно здесь, в потоке сознания умирающего Коврина, звучит голос самого повествователя, даётся авторское понимание идеала, нормальной, здоровой жизни31. Нам же представляется, что в этом лирическом периоде, выделяющемся из окружающего текста интонационно и стилистически, автор-повествователь подводит читателей к мысли, что Коврин променял реальность живого человеческого контакта на воображение, мечту, воспоминания, и усматривает в данном состоянии героя трагедию.
Ключ к чеховскому мировоззрению, очевидно, следует искать в одном из заключительных фрагментов первой главы рассказа, который, несомненно, соотносится с финалом произведения: «Коврин вспомнил, что ведь это ещё только начало мая и что ещё впереди целое лето, такое же ясное, весёлое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями – и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нём впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо» [с. 189]. Если поток сознания героя в финале рассказа определяет вневременный мир Коврина, где всё потеряло реальное значение, то его первоначальная интуиция о гармонизирующем синтезе прошлого и настоящего, движущихся в будущее, приближает читателей к пониманию чеховского идеала. С точки зрения А. Чехова, смысл жизни находится не в изолированности, а в общении, человек должен быть не только погружён в себя, но и открыт вовне; прошлое должно течь в настоящее и направляться к будущему; объективное и субъективное должны пребывать в равновесии, – мечта о гармоничной личности была главным и постоянным источником лиризма А. Чехова32.
Таким образом, анализ лирического плана рассказа «Чёрный монах» показывает, что А. Чехова прежде всего интересуют границы субъективности в мировосприятии героя и опасность, сопряжённая с его бегством от объективной реальности32. Субъективизация реальности закономерно приводит Коврина к отчуждению от окружающих: в конечном счёте он отступает в прошлое, в мир воспоминаний и воображения, – уходит в солипсический, безумный мир и умирает подобно герою гаршинской «Ночи» с блаженной улыбкой на лице. Вместе с тем, как справедливо отмечает Э. Полоцкая, «романтическое звучание финала «Чёрного монаха» не заглушается мотивом душевной болезни… И символы, и подтекст, совмещая в себе противоположные эстетические свойства (конкретного образа и абстрактного обобщения, реального текста и «внутренней» мысли в подтексте), отражают общую тенденцию реализма, усилившуюся в творчестве А. Чехова, – к взаимопроникновению разнородных художественных элементов»33.
В отличие от «Чёрного монаха» рассказ А. Чехова «Дом с мезонином» никогда не называли «загадочным», но тем не менее в центре внимания практически всех исследователей, которые обращаются к его анализу, наряду с такими аспектами чеховской поэтики, как деталь, лейтмотив, принцип контраста и др., оказывается проблема специфики авторской позиции34. Одни интерпретаторы сводят её суть к развенчанию Лиды, к осуждению теории «малых дел», другие – к несостоятельности утопической программы Художника, третьи – к связанной с концепцией В. Катаева идее «равнораспределённости» позиции А. Чехова («равнораспределённость не позволяет видеть в рассказе намерения одну сторону обвинить, а другую оправдать»). В самом деле на уровне «идеологического спора», который ведут герои рассказа, трудно говорить об авторском предпочтении той или иной системы идей: позицию А. Чехова можно назвать диалогической, и с этой точки зрения концепция В. Катаева представляется наиболее приемлемой35. Однако поскольку повествование в рассказе ведётся от первого лица, т. е. сознание повествователя вносит существенные коррективы в изображаемое, нельзя не согласиться и с утверждением И. Сухих, который полагает, что читательские симпатии к непрактичному, мечтательному Художнику и неприязнь к красивой, деятельной Лиде «жёстко запрограммированы в художественном тексте»36. Более того, если попытаться абстрагироваться от сути спора между Художником и Лидой, то несложно заметить, что отдельные главы рассказа объединены лирико-философской темой осуждения узости воззрений и утверждения необходимости их широты для общественного и личного счастья. Столь же очевидно и то, что персонифицированный рассказчик в «Доме с мезонином» весьма близок автору, хотя, конечно, не тождествен ему, – их этические критерии совпадают37. Этим, на наш взгляд, во многом объясняется мягкий лиризм чеховского рассказа: лирическая стихия заполняет его от начала и до конца.
Контур сюжета «Дома с мезонином» образует история несостоявшейся любви Художника. Рассказ делится на четыре главы, каждая из которых содержит один из элементов сюжета, и эпилог:
глава 1 —характеристика внутреннего состояния Художника, его знакомство с семьёй Волчаниновых (экспозиция);
глава 2 —развитие взаимоотношений Художника с Лидой и Женей (завязка художественного конфликта);
глава 3 – спор между Художником и Лидой об отношении интеллигенции к народу (кульминация);
глава 4 – объяснение в любви, неожиданная разлука с Женей (развязка);
глава 5 —эпилог: осознание невозможности счастья…
В плане лирическом уже в экспозиции узость, догматизм отрицаются А. Чеховым с помощью поэтического пейзажа, создающего своеобразную увертюру к произведению: «Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею…» [с. 57–58]38. Указание на субъективную близость Художнику этой картины («… на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве» [с. 58]) удаляет его от дома Белокурова, атрибутами которого являются бесцветность, неестественность, непрочность, неуютность, и приближает к дому с мезонином, который от усадьбы Белокурова отличается целым рядом контрастных признаков39.
В целом всё повествование в рассказе построено на контрастах, оттеняющих симпатии автора. Уже в самом начале рассказа обозначен скрытый контраст между сестрами Волчаниновыми, причём их сопоставительное описание включает не только портретную, но и психологическую характеристику: «А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем ещё молоденькая – ей было 17–18 лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась…» [с. 58]. При этом сходство (тонкость, бледность) лишь оттеняет различие: Лида подчёркнуто неконтактна, строга, она сознательно прячет свои чувства; Женя, напротив, вся открыта миру и не умеет скрывать эмоций.
Характерно, что почти все подробности короткого «двойного портрета» сестёр Волчаниновых в ходе повествования превращаются в лейтмотивные детали, которые, как обычно у А. Чехова, становятся главным характеризующим и оценочным средством: с их помощью в характере Лиды постоянно подчёркивается категоричность суждений, громкая речь, исключительный интерес к земским делам, а в Жене – детскость, непосредственность чувства и мыслей, преданность и подчинённость.
В свою очередь, неотъемлемой чертой психологического состояния Художника, ищущего в жизни цельности, устроенности, покоя, является отказ от работы, праздность. Лирический мотив праздности, возникнув в самом начале рассказа («Обречённый судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего…» [с. 57]), проходит, варьируясь, через первые главы и долгое время не получает никакого объяснения. Интересно, что по главному контрасту с Лидиной деятельностью повествователь и в облике Жени выделяет праздность («…не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я» [с. 62]). При этом из текста второй главы интонационно и стилистически выделяется лирический период – своего рода апология праздности, которая как бы отталкивает Художника от Лиды и связывает с Женей: «Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зелёный сад, ещё влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодёжь только что вернулась из церкви и пьёт чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою…» [с. 62–73].
Этот фрагмент парадоксально сориентирован по отношению к позиции автора: герой так лирически проникновенен, что кажется, будто иронически нарисованная картина всеобщей праздности близка и автору. Между тем здесь позиции повествователя и автора расходятся в наибольшей степени, – автор дистанцируется от своего героя, чтобы затем снова сблизиться с ним («Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни» [с. 68]).
С приведённым фрагментом из второй главы рассказа контрастно соотносится и лирический период из четвёртой главы – внутренний монолог Художника о любви к Жене: «Я любил Женю. Должно быть, я любил её за то, что она встречала и провожала меня, за то, что, смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были её бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, её слабость, праздность, её книги. А ум? Я подозревал у неё недюжинный ум, меня восхищала широта её воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил её сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для неё, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарёю, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадёжно одиноким и ненужным» [с. 71–72]. В порыве увлечения герой говорит о своём желании работать, писать: возникшая любовь стимулирует творчество, придаёт жизни смысл. Характерно, что в следующем эпизоде образ дома с мезонином, влекущий к себе Художника обещанием гармонии и умиротворённости, сохраняя всю свою жизненную конкретность, приобретает символический смысл. В глазах героя он лирически преображается, одухотворяется, оживает: «… милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал всё» [с. 72].
Но в финале рассказа, после того, как надежда на счастье рухнула, герой возвращается к своему первоначальному состоянию («Трезвое, будничное настроение овладело мной…» [с. 74]), которое контрастирует с центральным в его рассказе состоянием влюблённости. При этом грусть рассказчика, осознающего непоправимость потери любви, выражена и в ритмическом слоге «стихотворения в прозе», и в лирико-символическом образе дома с мезонином, и в заключительном пейзаже, овеянном настроением прощания.
Эпилог, в особенности его концовка: «Мисюсь, где ты?» [с. 74], – переводит сюжетный смысл рассказа в лирико-символический план. Полуриторический вопрос повествователя не предполагает конкретного, «географического» ответа: скорее он заключает в себе ожидание любви, способной привнести в серую будничную жизнь героя высший смысл, и, очевидно, осознание невозможности вернуть утраченное счастье. Пронзительный лиризм и открытость концовки, выход за пределы текста ещё больше усиливают значимость лирических фрагментов в художественной структуре рассказа (пейзаж, портрет, лирико-символические описания и др.), поскольку сознательная недоговорённость автора (лучше не досказать, чем пересказать) приводит к появлению сюжетных ситуаций, которые невозможно объяснить однозначно.
Недоговорённость, неоднозначность текста наиболее существенную роль играет в создании лирического плана чеховских произведений, написанных в форме притчи, к которым относятся рассказы «Без заглавия», «Сапожник и нечистая сила», «Пари», «Рассказ старшего садовника» и др. Лирико-романтический колорит этих произведений А. Чехова проявляется не только в их жанровом своеобразии, но и в специфике художественного конфликта, в пейзажной символике и др.40 С точки зрения лиризации повествования наибольший интерес из них представляет рассказ «БЕЗ ЗАГЛАВИЯ». Условно его можно разделить на четыре части, каждая из которых содержит один из элементов сюжета:
• в первой части (1—4-й абзацы) описывается повседневная жизнь монастыря и «необычайный дар» старика-настоятеля (экспозиция);
• центральное место во второй части (5 – 8-й абзацы) занимает лирически окрашенный монолог заблудившегося в пустыне и случайно оказавшегося у стен монастыря горожанина (завязка конфликта);
• третью часть (9—14-й абзацы) составляет рассказ настоятеля о соблазнах порочной городской жизни (кульминация);
• четвёртая часть (15-й абзац) – финал рассказа: выслушав разоблачительную речь настоятеля, все монахи убегают в город (развязка).
Контур сюжета этого чеховского рассказа образует лирический мотив борьбы добра и зла. В художественной структуре очевиден композиционный и смысловой параллелизм: в тексте произведения можно выделить два конструктивных центра – монастырь (обитель веры и правды) и город (средоточие разгула и разврата). Вместе с тем антитеза добра и зла, изнутри организующая всю повествовательную структуру рассказа, проявляется в виде контрастного противопоставления эмоционально-образных сфер: Бог – дьявол, монахи – грешники, монастырь – дом разврата, настоятель – блудница.
Лирическая тема добра сконцентрирована в двух первых частях рассказа, где описывается жизнь монастыря: «Монахи работали и молились богу…»41. Но при этом уже в самом начале повествования тщательным подбором на первый взгляд, казалось бы, случайных деталей лирически окрашенного пейзажа автор-повествователь создаёт у читателей представление об однообразии жизни монахов: «День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча и сердито гремел гром, или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братии, что недалеко от монастыря он видел тигра – и только, а потом опять день походил на день, ночь на ночь» [с. 305]42.
Лирический мотив однообразия жизни монахов, во многом предопределяющий характер развязки художественного конфликта произведения, поддерживается в ходе повествования прямыми авторскими указаниями («Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц…» [с. 306]; «Проскучали они месяц, другой, а старик не возвращался…» [с. 307] и т. п.), в том числе и трёхкратным повторением в первом и четвёртом абзацах рассказа идиомы «День походил на день, ночь на ночь», – которая становится своеобразным обрамлением экспозиции и придаёт ей завершённость.
Яркие эмоционально-экспрессивные эпитеты («зазевавшаяся звезда», «бледный монах») и метафоры («когда с росою целовались первые лучи») придают открывающей повествование пейзажной зарисовке лирико-романтический колорит, который затем проявляется в исключительности характера главного героя рассказа – старика-настоятеля, обладающего особым даром: «Когда он говорил о чём-нибудь, страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали, как его вдохновение сковывало их души…» [с. 306]. Описанию «необычайного дара» настоятеля посвящена большая часть экспозиции, при этом лирические интонации, как всегда у А. Чехова, осложняются мягкой иронией: контрастируя, они углубляют и дополняют друг друга («… в такие великолепные, чудные минуты власть его была безгранична, и если бы он приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю» [с. 306]).
Во второй части рассказа лиризм сосредоточен в монологе горожанина, «обыкновенного грешника, любящего жизнь». Его речь насыщена эмоционально-выразительной лексикой и отличается подчёркнутой ритмичностью, которая создаётся повторением тождественных в интонационном отношении восклицаний и вопросов: «Поглядите-ка, что делается в городе! Одни умирают с голоду, другие, не зная, куда девать своё золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды! Чьё же дело спасать их? Чьё дело проповедовать? Не мне ли, который от утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру бог дал вам на то, чтобы вы сидели здесь в четырёх стенах и ничего не делали?» [с. 307]. Ответная реплика настоятеля выражает идею проповедничества абсолютных истин («…бедные люди по неразумию и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?» [с. 307]), которая парадоксальным образом обыгрывается в третьей и четвёртой частях рассказа, где при описании жизни города получает развитие лирическая тема зла.
Характерно, что рассказ настоятеля о порочной жизни горожан даётся не в форме прямой речи, а строится как авторское повествование «в тоне и духе героя». Такое повествование буквально излучает лиризм, проявляющийся, с одной стороны, в деталях портретной характеристики персонажа, которые даются как прямое выражение его эмоций, а с другой – в характере метафор, сравнений, синтаксисе и особой ритмической организации речи, создаваемой нагнетанием однородных членов предложения и сходных синтаксических конструкций: «Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние три месяца. Голос его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города. На пути, говорил он, ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие, молодые надежды волновали его душу; он шёл и чувствовал себя солдатом, который идёт на бой и уверен в победе (…) Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о городе и людях (…). Опьянённые вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога (…) На столе, среди пировавших, говорил он, стояла полунагая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с чёрными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!' Шёлк и парча красивыми складками спускались с её плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а, как молодая зелень из весенней почвы, жадно пробивалась сквозь складки» [с. 308].
Добавочную эмоциональную окраску рассказу настоятеля даёт один из наиболее ярких фрагментов третьей части произведения, выделяющийся из окружающего текста интонационно и стилистически: «А вино, чистое, как янтарь, подёрнутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел ещё пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости» [с. 308]. Здесь вино становится равноправным партнёром персонажа в эмоциональном общении: вино не только выражает чувства героя, – впитывая их, оно само начинает светиться его эмоциями43.
Авторское отношение к привлекательной, но наивной идее проповедничества, не проявляясь в форме прямых оценок и комментариев, выражается в отчётливой анекдотичности финала чеховского рассказа: «Когда он (настоятель. – И.Т.) на другое утро вышел из кельи, в монастыре не оставалось ни одного монаха. Все они бежали в город» [с. 309]. Таким образом, ещё одним средством выражения чеховского лиризма становится взаимопроникновение анекдотического и притчевого начал44. Характерно, что лирический мотив бессилия, а значит практической бесполезности проповеди, звучит и в других произведениях писателя («Огни», «Припадок»).
В произведениях А. Чехова, как правило, изображаются события обычные, повседневные. Казалось бы, жизнь неудержимо течёт по раз и навсегда проложенному руслу, но чеховские герои неожиданно осознают своё истинное положение в мире, вступают в конфликт со своим социальным окружением, упорно ищут путь к какой-то иной действительности. При этом в центре внимания писателя постоянно оказывается человеческая индивидуальность, её внутренний мир.
В то же время поиск новых приёмов психологического анализа приводит к возрастанию роли подтекста в художественной структуре его произведений, а отказ от прямых форм оценки изображаемого – к более сложным формам выражения авторской позиции. Так, С. Шаталов отмечает, что для прозы А. Чехова была характерна установка на «как бы помимо аналитический психологизм: впечатление о процессе внутренней жизни складывается не из признаний героя и авторского комментария к ним, а на основе тех ассоциаций, которые возникают у читателя в связи со специально отбираемыми деталями»45.
Гуманистическая доминанта творчества А. Чехова – утверждение внутренней ценности человеческой жизни – была постоянным источником чеховского лиризма, основанного на вере в человека, в его душевную и духовную «готовность» к иной, лучшей жизни. Отсюда романтический пафос целого ряда произведений А. Чехова, откровенно лирической тональности («Чёрный монах», «Дом с мезонином», «Невеста» и др.). Не случайно 3. Паперный увидел приближение А. Чехова к романтизму в том, что в его рассказах «сквозь план – жизнь, как она есть, настойчиво пробивается второй план – жизнь, как она представляется в вере, ожидании, внутреннем устремлении»46.
Темы для рефератов
1. Специфика чеховского лиризма.
2. Способы выражения авторской позиции в рассказе А. Чехова «Черный монах».
3. Тема Черного монаха в художественной структуре чеховского рассказа.
4. Роль контраста в повествовательной системе рассказа А. Чехова «Дом с мезонином».
5. Антитеза добра и зла в художественной структуре рассказа А. Чехова «Без заглавия».
Глава 2
«Реализм + модернизм»
Художественный синтез в русской прозе начала ХХ века
Диалог между реализмом и модернизмом в русской прозе ХХ века приводит к их синтезу. Иначе говоря, на реалистической основе образуется модернистская стилевая тенденция, которая, в свою очередь, распадается на несколько стилевых разновидностей (парадигм): импрессионистическо-натуралистическую, экзистенциальную, мифологическую, сказово-орнаментальную и др.
В современном литературоведении импрессионизм и натурализм нередко рассматриваются как кульминационные пункты развития реализма XIX века. Отмечается, что импрессионизм в русской литературе проявил себя преимущественно как «течение, пограничное с символизмом в поэзии и с реализмом и неоромантизмом в прозе»1. Вместе с тем импрессионистическая художественная система обнаруживает очевидное тяготение к элементам натурализма. Натурализм, в свою очередь, зафиксировал сближение литературы с естественными науками: здесь эстетическое переживание рождается из совпадения материала с действительностью, при этом сочетаются «новизна материала, смелость в затрагивании той или иной темы – и шаблонность, эпигонская вторичность в способах организации этого материала»2. Как самостоятельные явления ни импрессионизм, ни натурализм в русской литературе не сыграли сколько-нибудь значительной роли, но тем не менее оказали существенное влияние на формирование творческого метода таких писателей, как И. Бунин, Б. Зайцев, М. Арцыбашев, А. Куприн и др. Импрессионистическо-натуралистические тенденции проявляются на разных этапах их творчества и постоянно привлекают внимание исследователей.
Формирование синтетического типа образности, стиля художественного мышления представляет особый интерес в ракурсе сближения литературы с философией: принципиально новый характер философии с элементами художественной словесности (неофилософский ряд представлен именами таких русских философов начала XX века, как Вл. Соловьёв, В. Розанов, Л. Шестов, П. Флоренский, Е. Трубецкой, Н. Бердяев) обусловил неразрывность философского и эстетического начал прозы М. Горького, Л. Андреева, В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Ремизова и других писателей, чьё творчество даёт возможность говорить об экзистенциальной традиции в русской литературе ХХ века. Экзистенциальное сознание формирует достаточно устойчивую модель мира: её параметры (катастрофичность бытия, кризисность сознания, онтологическое одиночество человека) задают универсальную эмоциональную доминанту литературы экзистенциальной ориентации – она рождается между страхом смерти и страхом жизни. В то же время экзистенциальное сознание вариативно – оно вырабатывает оригинальные принципы поэтики3.
Одним из проявлений синтеза философии и литературы является мифотворчество. Исследователи выделяют различные варианты неомифологизма Серебряного века: онтологический (Вл. Соловьёв), гносеологический (Д. Мережковский), теургический (Вяч. Иванов), историософский (А. Блок) и др.4 Нас привлекают не только попытки создания сущностно новых, индивидуально-авторских мифов (Ф. Сологуб, А. Ремизов, М. Пришвин), достаточно обстоятельно рассмотренные в ряде современных работ5, но и примеры демифологизации, в частности, антимиф Л. Андреева, который представляет собой одну из разновидностей экзистенциальной неомифологической прозы.
Синтетичность (ассоциативность) – важнейшая черта сказово-орнаментальной поэтики, совмещающей в себе признаки прозы и поэзии: ничто не существует само по себе, всё связано, переплетено, объединено по ассоциации, иногда лежащей рядом, иногда очень далёкой6. Сюжет утрачивает свою традиционную организующую роль – его функцию выполняют лейтмотивы: фрагменты повествования скрепляются ассоциативными связями. Повествовательная система орнаментальной прозы нередко включает в себя имитацию сказа; если сказ в чистом виде ориентирован на формы устной речи, которые находятся за пределами литературного языка, то в сказовом стиле А. Белого, Е. 3амятина, И. Шмелёва отталкивание от нормативной наррации выражается сознательным подчёркиванием условности, искусственности повествования.
2.1
Импрессионистическо-натуралистическая парадигма: Б. Зайцев – А. Куприн – М. Арцыбашев
2.1.1. «Поэт прозы» – Борис Зайцев
«Волки»
«Голубая звезда»
Термин «литературный импрессионизм» по отношению к русским писателям применяется главным образом в связи с творчеством В. Гаршина, А. Чехова, И. Бунина и Б. Зайцева1. Из них наиболее последовательно импрессионистскую технику использовал Б. Зайцев. Однако если в первом сборнике его рассказов «Тихие зори» (1906) импрессионизм подчинял, растворял в себе иные художественные системы, то в последующих книгах писателя – «Полковник Розов» (1909), «Сны» (1911), «Усадьба Ланиных» (1913), «Земная печаль» (1915) – импрессионизм лишь вкрапливался отдельными штрихами в общую картину лирического повествования. Характерно, что сам писатель в 1910-е годы наметил несколько этапов в своём литературном развитии: «… ко времени выступления в печати – увлечение так называемым «импрессионизмом», затем выступает момент лирический и романтический. За последнее время чувствуется растущее тяготение к реализму»2. Тем не менее выделить чёткие, классически завершённые периоды дореволюционного творчества Б. Зайцева невозможно, так как практически во всех его произведениях этого времени возникали импрессионистические «реминисценции». Поэтому трудно согласиться как с попытками рассмотрения раннего творчества Б. Зайцева лишь в рамках модернизма (Е.А. Колтоновская, М. Морозов), так и с противоположным стремлением анализировать его произведения исключительно с позиций реалистической поэтики (П. Коган)3.
Вместе с тем следует отметить, что уже в русской дореволюционной критике было высказано немало справедливых суждений о ранней прозе Б. Зайцева. Особенно в статьях А.Г. Горнфельда,
Ю. Соболева, Н. Коробки, которые акцентировали внимание на пантеистической основе мировосприятия писателя4. В художественном мире Б. Зайцева, указывали они, земля, травы, звери, люди живут в особенной атмосфере панпсихизма (термин А.Г. Горнфельда – своеобразный синоним пантеизма), где много невысказанного; вместо твёрдого, чёткого реалистического рисунка событий и характеров акварельно размытые контуры, а главное, всё имеет общую, единую Мировую душу5.
В то же время современники писателя критиковали его раннюю прозу за религиозность («христианская кротость»), пессимизм («мрачное жизнечувствование», «ужас одиночества и отчуждённости»), поэтизацию беспомощности человека перед судьбой и смертью («поэзия без действия и умирания»). В советском литературоведении специальных работ, посвящённых творчеству Б. Зайцева, не создано. Наиболее точная характеристика его творчества, на наш взгляд, дана В.А. Келдышем, но она отличается предельной краткостью. Исследователь видит в творчестве Б. Зайцева типичное «пограничное» явление, где реализм осложнён импрессионистической тенденцией: «Обновление реализма средствами «лирики» – одна из характерных художественных тенденций в 900-е годы. Но у Б. Зайцева это – импрессионистическое преломление»6. К сожалению, В.А. Келдыш не раскрывает художественных принципов этого импрессионистического «преломления», не анализирует его поэтики. Более основательно поэтику зайцевского импрессионизма рассматривает Л.В. Усенко, намечая пути дальнейшего исследования его творчества.
Элементы импрессионизма можно найти практически во всех произведениях Б. Зайцева дореволюционного периода, но наиболее существенное влияние поэтика импрессионизма оказала на жанрово-стилевую структуру его рассказов из сборника «Тихие зори», которые являются своеобразным ключом к пониманию ранней прозы писателя: вся система художественно-изобразительных средств в них направлена на то, чтобы запечатлеть сиюминутное настроение или мгновенные оттенки восприятия героев; стиль повествования отрывочен, подчёркнуто лаконичен, широко включает красочные эпитеты, нередко выражающие синкретизм ощущений.
Сборник «Тихие зори» открывается рассказами «Волки» и «Мгла», которые отличаются поистине зрелым художественным мастерством. Объединяет эти рассказы тема смерти – от её закона «нельзя бежать»: она одинаково карает и мир природы (волки), и мир человека. Каждый из этих рассказов проникнут болью, ужасом и страхом, но в них нет ни «эстетизации животной злобы», ни «эстетизации человека-зверя» (в чём зачастую упрекали Б. Зайцева современные ему критики). Ведь хотя писатель и не осуждает открыто эгоизм и злобу, у читателей рождается не только ощущение ужаса, но и чувство боли от царящего в мире равнодушия. Пожалуй, точнее других исследователей суть этих рассказов определил Н. Коробка, указав, что в них «воскресает первобытная душа охотника, ведшего неустанную борьбу со зверями и творившего о них мифы»7.
Предельный лаконизм рассказа «ВОЛКИ» связан с глубоким подтекстом: в нём как бы воплощено вечное противостояние жизни и смерти. Природой жанра – а эта миниатюра носит ярко выраженный притчевый характер – обусловлена двуплановость повествования. Художественный конфликт рассказа развивается на двух уровнях: конкретно-реальном и отвлечённо-метафорическом. Причём второй план куда более важен, – он ирреален, подчинён не логике событий, а безличным законам вечности: зимний пейзаж, волчья стая, преследуемая охотниками, и её гибель символизируют путь, по которому движется к смерти всё живое, т. е. жизнь в рассказе Б. Зайцева характеризуется как движение к смерти.
Поэтика зайцевского импрессионизма проявляет себя прежде всего в особой цветописи, усиливающей ощущение зыбкости и даже призрачности происходящего. При полной конкретности зрительных образов в рассказе Б. Зайцева удивительно передано двуцветное противостояние – чёрная ниточка волков поглощается белым безмолвием вечности: «Они обратились в какую-то едва колеблющуюся чёрную ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге…» [c. 34]8. Но для Б. Зайцева импрессионистическая цветопись не имеет самодовлеющего значения – она подчинена созданию определённого психологического настроения. Как указывалось выше, рассказ «Волки» весь проникнут атмосферой взаимной злобы и ненависти перед лицом опасности: волки разобщены и эгоистически отстаивают лишь своё право на существование; вожака стаи, готового вести за собой остальных, но не знающего дороги, разрывают на куски и т. п.
Характерно, что даже мир природы у Б. Зайцева «очеловечен» и враждебен всему живому: «Тёмное злое небо висело над белым снегом, и они угрюмо плелись к этому небу, а оно безостановочно убегало от них и всё было такое же далёкое и мрачное» [с. 32]. В результате возникает своеобразная живопись настроения, и эта метафора, может быть, точнее всего выражает суть художественного метода Б. Зайцева.
Ещё одна импрессионистическая черта в повествовательном стиле Б. Зайцева – большое количество слов «казалось» etc., а также преобладание неопределённых местоимений и наречий («кто-то», «что-то», «почему-то»). На особую, специфическую роль в творчестве писателей-импрессионистов слова «казалось» и его синонимов обратил внимание американский славист П. Генри: «слово «казалось» указывает на условность, субъективность, возможную ошибочность высказываемого, однако у импрессионистов оно часто трактуется как объективно случившееся, т. е. читатель подвергается своеобразному «обману»»9.
Подобно другим писателям-импрессионистам, Б. Зайцев затушёвывает границу между воображаемой, т. е. обманчивой правдой и объективным фактом действительности: «… волкам казалось, что отставший товарищ был прав, что белая пустыня действительно ненавидит их; ненавидит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, мешают спать; они чувствовали, что она погубит их, что она разлеглась, беспредельная, повсюду и зажмёт, похоронит их в себе…» [с. 34]. Такой приём устранения, затушёвывания границы между реально существующим и тем, что кажется героям повествования, – одна из типичных черт импрессионистического видения, подобная слиянию действительности и сновидения. Этот приём отчасти предвосхитил поэтику писателей-модернистов Л. Андреева, А. Белого, А. Ремизова и др.
Приметы пейзажа в рассказе Б. Зайцева в целом переданы с реалистической ясностью, но и они подчинены законам импрессионизма. Во главе угла – не картины природы сами по себе, а моменты их восприятия: «… волки поёжились и остановились. За облаками взошла на небе луна, и в одном месте на нём мутнело жёлтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и что-то призрачное и болезненное было в этом жидком молочном полусвете» [с. 33]. Пейзаж как бы сливается с психологическим состоянием героев, при этом реалистическая графика преображается в импрессионистическую размытость цвета: обращает на себя внимание какая-то безжизненность свето-воздушной среды – мутный свет луны отражается ещё более призрачным жидким полусветом. Мертвенность пейзажа (а мертвенно-снежная белизна является лейтмотивной деталью пейзажа в рассказе «Волки»), в свою очередь, символизирует неизбежность смерти в конце жизненного пути.
Повесть Б. Зайцева «ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА» (1918), завершающая ранний – дореволюционный – период его творчества, пожалуй, как ни одно другое произведение писателя отражает эволюцию в 1910-е годы не только его стиля, но и творческого метода: с одной стороны, повесть написана в традициях русского классического реализма с его пристальным интересом к человеческим судьбам, к психологии личности, но вместе с тем на её жанрово-стилевую структуру существенное влияние оказала поэтика импрессионизма10. Повесть «Голубая звезда» построена на плавной, спокойной, даже несколько описательно-статичной смене бытовых картин, эпизодов. Контур её сюжета образует цепь взаимосвязанных событий из жизни главных героев, но движение сюжета здесь куда менее интересно, чем движение характеров.
Действие повести происходит в течение одного года: этапы жизни героев вписаны в календарь природы, символизирующий краткость, быстротечность жизненного круговорота («карнавала бытия»). Повествование ведётся от третьего лица, но автор постоянно меняет ракурс изображения: сочетая безличную, объективную манеру повествования с повествованием в аспекте одного или нескольких героев, он стремится выявить индивидуальность характера и своеобразие точек зрения как центральных, так и второстепенных персонажей. При этом ему удаётся передать не только тонкость человеческих отношений, сложность характеров героев (всё это, безусловно, реалистические тенденции), но и их субъективные мимолётные ощущения и впечатления в те или иные моменты действия, – а это уже тенденции импрессионистические.
В художественной системе Б. Зайцева значительное место занимают такие традиционные изобразительные средства, как портрет, пейзаж, интерьер. Но писатель сознательно отказывается от характерных для классического реализма обстоятельных описаний. Его стилистической манере свойственна предельная экономия языковых средств, краткость, сгущённость, свежесть повествования.
Подобно импрессионистической живописи, повесть Б. Зайцева воздействует на читателя суггестивно, заражая его субъективным настроением, а не объективно-информативным смыслом изображаемого. Этому, в частности, способствуют такие элементы импрессионистического стиля, как фрагментарность синтаксиса и распад описания на ряд небольших предложений. Характерный пример – описание поездки Натальи Григорьевны и Машуры в имение под Звенигородом: «Вечерело. Из-за поворота в лесу вдруг открылся вид на Москву-реку, луга и далёкий Звенигород. В густой зелени горела золотая глава монастыря. Закатным светом, лёгкой, голубеющей дымкой был одет пейзаж. Коляска взяла влево, песчаным берегом; лошади перешли в шаг. Подплывал паром. Кулик летел над водой…» [с. 323].
Особая роль в поэтике Б. Зайцева принадлежит художественной детали. Как отмечает Е.С. Добин, «смысл и сила детали заключается в том, что в бесконечно малое вмещено целое»11. Примером подобной смысловой насыщенности могут служить импрессионистические детали в портретных характеристиках героев повести «Голубая звезда». Полных портретных характеристик, присущих классическому реализму, в повести Б. Зайцева практически нет. Как правило, они складываются из отрывочных описаний с акцентом на какой-нибудь одной детали. Причём этой деталью – импрессионистической по своей сути, так как все портреты в повести Б. Зайцева даются в ситуативном восприятии того из персонажей, в чьём аспекте в данный момент ведётся повествование, – чаще всего становится указание на выражение глаз героя. В результате образуются цепочки лейтмотивных деталей, с помощью которых Б. Зайцев выстраивает динамику внутреннего состояния героев по мере движения сюжета. Так, развитие сюжетной линии Христофоров – Машура – Антон характеризуется постоянными колебаниями, сомнениями Машуры: с одной стороны, она сомневается в подлинности, искренности тех чувств, которые испытывает к ней Христофоров, а с другой – ей не сразу удаётся определить истинный характер своего отношения к Антону. Эти колебания Машуры чётко прослеживаются в характере импрессионистических деталей портретных характеристик героев в разные периоды их взаимоотношений:
1) «Он (Христофоров. – С.Т.) странный, но страшно милый. И страшно настоящий, хотя и странный…»:
«Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились…» [с. 321];
«Случалось ей видеть, как в знойный полдень подолгу он сидел над гусеницей, ползшей по листу; без шляпы бродил по саду, с расширенными зрачками…» [с. 329];
«… с глазами расширенными и влажными он действительно показался ей странным» [с. 351].
2) «… мне иногда казалось, что вас забавляет играть… игра в любовь, что ли… И я бывала даже оскорблена. Я вас временами не любила»:
«Машура привстала, явное неудовольствие можно было в ней прочесть. Даже глаза нервно заблестели…» [с. 330];
«Машура подошла к нему, взглянула прямо в лицо. Его глаза как будто фосфорически блестели…» [с. 330];
«Машура взглянула на него. Его глаза были слегка влажны, блестели…» [с. 349].
3) «… вы, по-моему, очень чистый, и не такой, как другие… да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась… ревновала»:
«В лунном свете Христофоров заметил, что глаза её полны слёз…» [с. 351];
• «Машура была бледна, тиха. Когда задул он лампу, в голубоватой мгле блеснули на него влажные, светящиеся глаза…» [с. 373].
4) «А всё-таки, – сказала она через минуту, резко, – я никого не люблю, кроме Антона. Никого, – прибавила она упрямо»:
• «Антон с просохшими, сияющими в полумгле глазами, ходил из конца в конец залы…» [с. 355];
• «Когда Машура вышла, в белом платье, оживлённая с темно-сверкающими глазами на остроугольном лице, она показалась ему (Антону. – С.Т.) прекрасной…» [с. 355].
5) «… именно в эти минуты я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге… ну, это ваш поэтический экстаз, что ли… Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень искренняя, но это… это не то, что в жизни называется любовью»:
• «Она открыла глаза, взгляд её вначале напоминал лунатика. Понемногу он прояснился…» [с. 374];
• «Машура слегка побледнела, но лицо её, как обычно худенькое, остроугольное, имело печать спокойствия. Лишь в огромных глазах слабо трепетало что-то…» [с. 390].
Аналогичным образом лейтмотивные цепочки импрессионистических деталей портретных характеристик героев, обозначая динамику их внутреннего состояния в ходе действия, характеризуют развитие сюжетных линий Ретизанов – Лабунская и Никодимов – Анна Дмитриевна.
Главное в ранней, дореволюционной, прозе Б. Зайцева – поиск смысла жизни. Писатель видит его в поэтизации «спокойной и мудрой жизни»: итог исканий выражен в довольно неопределённой формуле «терпеть и жить». Очевидно, это связано с тем, что в 1910-е годы у него окончательно формируется осознанное религиозное чувство. Всем своим творчеством Б. Зайцев утверждает идеалы милосердия, добра, всепрощения: он призывает людей быть внимательнее и добрее друг к другу, поскольку в конечном счёте «все мы – странники, путники в этой жизни, неведомо зачем и во имя чего бредущие, скитающиеся по земле»12. Б. Зайцев – «поэт прозы» по словам Ю.И. Айхенвальда: в его произведениях нет социального протеста, он далёк от сатиры, повествование Б. Зайцева проникнуто мягким, грустным лиризмом. Не случайно В.П. Полонский, рецензируя его книгу «Земная печаль», заметил, что этими словами «можно было бы озаглавить всё творчество Б. Зайцева»13.
В сущности, «Голубая звезда» – это и произведение о несвершившемся: «карнавал бытия», «живая жизнь» не приносит счастья никому из героев. Однако, как ни парадоксально, философию повести, её общее настроение, основанное на глубокой религиозности писателя, точнее всего передаёт понятие «просветлённый оптимизм»: герои Б. Зайцева тоскуют от неудовлетворённости, страдают, но не посягают на отрицание жизни, они верят в жизнь и поддерживают друг в друге эту веру. Основная идея повести «Голубая звезда» связана с лирико-философской концепцией всеобъемлющей пантеистической любви, которая роднит небо и землю. Носителем этой идеи является главный герой повести Христофоров. Для него эта идея персонифицируется в образе «мерцающей голубым сиянием звезды»: «Для меня она – красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посылает мне свет любви…» [с. 373]. Христофоров пребывает в «возрасте вечного детства» (слова Иванова-Разумника); это человек естественного и светлого сознания. Характерно, что наивысшую радость он получает не от общения с людьми, а, напротив, в уединённом созерцании мира природы. Мысль о гармоничном слиянии человека и природы («очеловечивание природы») закономерно приводит Христофорова к принятию жизни такой, какова она есть. Позиция героя повести всецело отражает жизненную концепцию Б. Зайцева, которая выражается в чувстве христианского примирения с миром и надежды на то, что когда-нибудь в будущем посеянная красота даст свои всходы (= «очищение красотой»).
Христофоров – кроткий, чистый, надмирный человек14. Рыцарь голубой звезды, искатель Гармонии и Красоты, – он ведёт скромную, полубедную, не скреплённую бытом, семьёй или какими-либо другими узами жизнь интеллигента-мечтателя. Следует отметить, что образ Христофорова генетически связан с лирическим героем ранних рассказов Б. Зайцева, чья пассивная созерцательность также окружалась поэтическим ореолом. Вместе с тем Христофоров, несомненно, символический, знаковый образ, вызывающий множество ассоциаций – от Евангелия до Ф. Достоевского: прежде всего имя героя реализуется одновременно и как «новый Христос», и как «Христоносец»15, причём образ Христофорова сознательно ориентирован на князя Мышкина, от которого его отличает разве что разительная оторванность от земли16.
Мифологическому сознанию Христофорова свойственна вера в «оживший» космос: «Закат гас. Вот разглядел уже он свою небесную водительницу, стоявшую невысоко, чуть сиявшую золотисто-голубоватым светом. Понемногу всё небо наполнилось её эфирной голубизной, сходящей и на землю. Это была голубая Дева. Она наполняла собою мир… Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своём соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, всё мгновенное, летучее – и вечное. В её божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность» [с. 407]. Личностное переживание Космоса и себя как его части приводит героя Б. Зайцева к пророчеству «надежды-безнадежности» на будущее: «…довольно одного дыханья, чтобы, как стая листьев, разлетелись… во тьму» все, кто находится на краю вечности [с.407]; и в то же время к осмыслению вечности как соединения отдельного (человеческого) с общим (космическим) в каждом мгновении жизни. Сквозь импрессионистическую размытость оценочных эпитетов в повести Б. Зайцева рождается мотив таинства природного космоса – зайцевский пантеизм приобретает мистический оттенок: мистическое начало как проявление одухотворённости поднимает, возвышает создаваемые им образы и картины жизни до уровня надмирности, космичности, общезначимости.
2.1.2. «Магия здоровой наивности» – Александр Куприн
«Яма»
В советском литературоведении творчество А. Куприна подгонялось под стандарты идеологических мифов1. История советского куприноведения напоминает плохой детектив: оценка его творчества меняла знак «плюс» на знак «минус» и наоборот в точном соответствии с различными периодами его жизни2. До революции (читай: до эмиграции) А. Куприн, по логике «литературных следователей», в жёстких и нелицеприятных тонах описывал окружающую его «буржуазную» действительность – в «Поединке» обнажил, в «Яме» разоблачил, в «Молохе» осудил, в «Анафеме» пригвоздил. В годы эмиграции А. Куприн становится «врагом советской России», согласно спискам Наркомата просвещения, рассылаемым в библиотеки, его книги, наряду с сочинениями Ф. Достоевского и других «неудобных» писателей, предлагалось сжигать. А. Куприна обвиняют в «социальной слепоте», «эпигонстве», «мелкотравчатости», «реакционной пошлости», «проповеди под Ницше» и т. п. После возвращения А. Куприна в Москву (1937) в его творчестве обнаружился лишь один недостаток: он следовал традиционному, а не социалистическому реализму – книги его, те же самые, написанные до революции, ещё недавно запрещённые, переиздаются стотысячными тиражами. Последующие полвека можно охарактеризовать как апофеоз советского куприноведения, к сожалению, с потерей не только чувства исторической реальности, но и простой стеснительности; – при этом недоступны были (хотя приводились выгодные цитаты) труды западных авторов о А. Куприне: Глеба Струве, Александра Дынника, Георгия Адамовича, Стефана Грэхема, Лидии Норд, Ростислава Плетнёва, многочисленные мемуары о нём и западные издания, в которых он печатался3.
Под влиянием критики в окололитературных кругах со временем утвердилось мнение, что книги А. Куприна следует прочесть, прожить в юности, так как это – своего рода «энциклопедия здоровых, нравственно безупречных человеческих желаний и чувств»4. Действительно, уступая многим своим современникам – русским писателям первой трети ХХ века – в цельности мировоззрения, в последовательности и продуманности жизненных убеждений, А. Куприн – вплоть до эмиграции оставался самым жизнелюбивым и жизнерадостным среди них. Магия А. Куприна («магия здоровой наивности»), его нравственная энергия стала убывать лишь с возрастом, с накоплением усталости, с исчезновением витального, едва ли не физиологического по своей природе умения как праздник встречать каждое новое жизненное впечатление5.
Человек настроения, А. Куприн легко поддавался влиянию обстоятельств, совершал экстравагантные поступки, писал лихорадочно, запоями – так же, как и жил. Его лучшие произведения – повести и рассказы «Поединок» (1905), «Гамбринус» (1907), «Листригоны» (1907–1911), «Суламифь» (1908), «Яма» (1909–1915), «Гранатовый браслет» (1911) и др. – объединяет не только зрелость таланта, но и вовлечённость в единый круговорот праздника и похмелья, похмелья и праздника. Может быть, эта метафора – ключ к пониманию купринского дарования, совмещающего в себе интерес ко всякого рода физио-, психо-и социопатологии (от половой невоздержанности до животного антисемитизма) со светлым мироощущением. В связи с этим становится понятным, почему даже трагические финалы многих произведений А. Куприна парадоксальным образом не оставляют по прочтении тягостного впечатления: любовь, концентрирующая, собирающая в единый пучок всё лучшее, всё здоровое и светлое, чем жизнь награждает человека, превозмогает, оправдывает любые лишения и тяготы – так в «Олесе», в «Поединке», в «Суламифи», в «Гранатовом браслете»…
Редкое исключение в этом ряду представляет повесть «ЯМА» (самое скандальное и наиболее спорное произведение А. Куприна6: попытка правдиво, без слащавой сентиментальности и пошлого словоблудия, рассказать о жизни публичных домов, в которых женщины «с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины» желаниям клиентов, чтобы «тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвёртого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале» [с. 90]7.
В русской литературе разработка этой темы широко представлена в произведениях Н. Гоголя («Невский проспект»), Н. Помяловского («Брат и сестра»), А. Левитова («Нравы московских девственных улиц»), В. Крестовского («Погибшее, но милое создание»), Ф. Достоевского («Униженные и оскорблённые»), В. Гаршина («Надежда Николаевна»), А. Чехова («Припадок»), Л. Толстого («Воскресение»), М. Арцыбашева («Бунт») и др. Продолжая традиции этих писателей, А. Куприн в повести «Яма», как всегда (ср.: «Олеся», «Поединок», «Листригоны» и др.), опирается на обширный документальный материал, собранный в процессе работы над произведением и вводит в повествование автобиографический персонаж. Газетный репортёр Сергей Иванович Платонов – «самый ленивый и самый талантливый из газетных работников» [c. 129], вынашивает мысль о книге из жизни проституток: «Чтобы написать такую колоссальную книгу, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга». Более того, в разговоре со студентами он предсказывает, что рано или поздно «придёт гениальный и именно русский писатель, который вберёт в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов» [с. 143–144]. Собственно, «Яма» А. Куприна и воспринимается как обещанная страшная книга, где сквозь художественную условность просвечивает неприкрашенная нагота «игрушечной жизни» русской проститутки.
Название повести приобретает метафорический оттенок: в центре повествования район города, получивший наименование Ямы потому, что здесь «жили из рода в род ямщики» [с. 88], но со временем, когда Ямская слобода оказалась занята домами терпимости, название района стало восприниматься как символ нравственного падения его обитателей. В названии своей повести А. Куприн метафорически обыгрывает эту символику: здесь яма – знак низости не только женщин-проституток, зачастую лишённых выбора («… поглядите на меня, – что я такое?» – говорит Женька. – Какая-то всемирная плевательница, помойная яма, отхожее место» [с. 303–304]), но и мужчин, буднично покупающих их любовь. Город, где происходят события, о которых рассказывается в повести, не назван, – автору важно придать архетипическое значение месту действия; в то же время повествование насыщено многочисленными бытовыми деталями, которые не только позволяют идентифицировать город (Киев), но и придают повести оттенок документальности. Это отражает замысел А. Куприна максимально правдиво – вплоть до натуралистичности – показать жизнь «клоаки для избытка городского сладострастия» [с. 90].
Город как архетип несёт обширную смысловую нагрузку, которая включает в себя определённое представление о человеке и обществе. Городское, замкнутое, пространство определяет неизбежную зависимость человеческой личности от сложившихся в обществе стереотипов мировосприятия и накладывает свой отпечаток на поведение героев повести в предлагаемых обстоятельствах, – все они изначально несвободны.
Отсутствие внутренней свободы объединяет героев А. Куприна и становится причиной их жизненной несостоятельности. Единое жизненное пространство формирует внутренний мир обитателей Ямы. Все женщины – наивная, простая и добрая, некрасивая, но крепкая и свежая телом Любка; прыткая, лупоглазая, напоминающая белого пасхального сахарного ягнёночка Нюра; самая кроткая и тихая, а временами дерзкая и вспыльчивая Манька Маленькая, или Манька Скандалистка; круглолицая, круглобровая Зоя; жиденькая, с испитым лицом Вера; толстая, ленивая и холодная Катька; болезненно-сладострастная, странная и несчастная Паша; самая старшая по годам, ко всему притерпевшаяся Генриетта; курносая, гнусавая, деревенская девушка Нина; еврейка с кроткими и печальными глазами Сонька Руль; цинично-злая, гордая красавица Женя; спокойная, уравновешенная, хорошо образованная Тамара, – живут с выжженным в душе тавром изгоя, «неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семьёй…» [с. 90].
Структурная модель повести А. Куприна «Яма» обладает рядом устойчивых признаков, складывающихся на основе мифологической традиции:
• замкнутое пространство: город – Ямская слобода – публичный дом Анны Марковны;
• ряд однотипных частей, расположенных по нисходящей градации, – более 30 публичных домов: «Самое шикарное заведение – Треппеля, где берут за визит три рубля… Три двухрублёвых заведения – Софьи Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны – несколько поплоше, победнее. Остальные дома по Большой Ямской – рублёвые, они ещё хуже обставлены. А на Малой Ямской, где берут за время 50 копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно…» [с. 88–89], и низшая ступень – уличная проституция;
• утрата иллюзий, связанных с надеждой изменить жизнь;
• фатальный исход.
Сущность этой модели можно понять, исходя из учения К.Г. Юнга об «архетипах» как носителях древних культурных идей, закреплённых на бессознательном уровне8. Одно из таких представлений обусловлено чувством ущербности бытия, вовлечённого в круговращение времени: достаточно вспомнить идею упадка эпох в античной легенде о золотом, серебряном и бронзовом веке, регрессивную смену периодов (юг) в философии древней Индии или пророчество о конце времён в Ветхом и Новом Заветах. Воплощение данной модели можно найти во многих произведениях, созданных в разное время в условиях различных культурных традиций. Нам представляется, что подробное описание сети публичных домов в первой главе повести «Яма», схематично фиксирующее этапы пути русской проститутки – её движение по нисходящей с легко прогнозируемым финалом, и апокалипсическая концовка (разгром и закрытие домов терпимости), находясь на разных полюсах текста, ассоциативно соотносятся и восходят к мифологическим представлениям о жизни как поэтапному приближению к смерти.
Жанровая структура повести А. Куприна включает в себя некоторые признаки романа – большой объём (260 стр.), многогеройность, многособытийность. Поэтому ряд исследователей полагает, что А. Куприн написал «роман «Яма», который принято называть повестью»9, оппоненты указывают на наметившуюся в конце XIX – начале XX в. общую тенденцию к романизации малых и средних повествовательных жанров. Inter utrumque vola (лети посередине): повесть «Яма» издавалась частями, работа над ней растянулась на годы, что для А. Куприна, предпочитающего писать быстро, экспромтом, было равносильно насилию над собственным дарованием. Быть может, поэтому – как это ни парадоксально – так бросается в глаза неупорядоченность композиции произведения: создаётся ощущение, что автору не удалось справиться с материалом, объём которого несопоставим с жанром повести, а романная форма для А. Куприна неорганична. Проще говоря, здесь мы сталкиваемся с не совсем удачной попыткой втиснуть жанровое содержание романа в форму повести.
Отсюда размытость композиции: повествование делится на три части, но их соотношение не продумано – в результате единая сюжетная линия не просматривается. Сюжет разваливается на относительно самостоятельные эпизоды, которые группируются вокруг главных героинь произведения – Любки, Женьки, Тамары. Каждый эпизод представляет собой отдельную новеллу: посещение публичного дома студентами (ч. 1, VII–XII гл.) и певицей Ровинской со спутниками (ч. 2, VI–VII гл.), промысел «торговца женщинами» Горизонта (ч. 2, II–V гл.), история отношений Любки и Лихонина (ч. 2, IX–XVII гл.), Женьки и Коли Гладышева (ч. 3, – гл.), смерть и похороны Женьки (ч. 3, VI–VIII гл.), судьба Тамары (ч. 3, IX гл.) и др. Но через все эпизоды (звенья цепи, которая называется узаконенной проституцией) настойчиво и последовательно проводится мысль о том, что торгующие собой женщины менее всего виноваты в том, что стали проститутками. Эта мысль определяет магистральный сюжет всего произведения, очевидно, писатель хорошо понимал как социальную, так и физиологическую обусловленность проституции. По А. Куприну, источник всех зол – не столько материальная необеспеченность и бесправие женщин в обществе, сколько присущие мужчинам «петушиные любовные инстинкты», требующие постоянного удовлетворения и сдерживаемые лишь существующими в обществе условностями, а узаконенная проституция – попытка преодолеть одну из таких условностей: «Человек, в сущности, животное много – и даже чрезвычайно – многобрачное…» [с. 164].
Замысел А. Куприна – описать судьбу русской проститутки: «Судьба русской проститутки – о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь! Здесь всё совместилось: русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство…» [с. 143). Этот замысел раскрывает Платонов в разговоре со студентами: «… материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный… И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов, и так далее и так далее, старая, всем надоевшая шарманка! Нет, ужасны будничные, привычные мелочи, эти деловые, дневные, коммерческие расчёты… В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение, стыд… В этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса! Мещанские будни – и только» [с. 136].
Эта идея находит отражение в структуре повествования: основные события разворачиваются в течение полутора-двух месяцев в одном из публичных домов, дневной распорядок которого подробно описывается в самом начале повести (ч. 1, II–VII гл.), причём акцент сразу же делается на рассказе о жизни проституток «без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей её чудовищной простоте и будничной деловитости» [с. 141]10. Интерес к «будничным, привычным мелочам» определяет и мозаичность сюжета, отказ от динамичного развития действия, преобладание описательных и драматизированных фрагментов повествования. Каждая часть повести содержит ключевой эпизод: в первой части – это посещение публичного дома студентами (VIII–XII гл.), во второй – социальный эксперимент Лихонина (IX–XVII гл.), в третьей – смерть и похороны Женьки (VI–VIII гл.). Именно в этих эпизодах сконцентрированы важнейшие сюжетные мотивы произведения.
Как бы предвидя возможные упрёки в отсутствии художественной правды и эпатаже читателей, А. Куприн подводит целую базу психологических мотивировок, чтобы пояснить (снять вопрос), почему студенты, проведя весь день «по-юношески целомудренно, не пьяно» на пикнике в компании «умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств» [с. 123], вдруг решают посетить публичный дом. При этом в подборе сравнений и метафор («инстинктивная чувственность молодых игривых самцов зажигалась от нечаянных встреч их рук с женскими руками»; «в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается …древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь»; «у каждого из них пылала голова и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний»; «целый день, проведённый вместе, сбил всех в привычное, цепкое стадо» [с. 123]) настойчиво подчёркивается торжество животного (звериного) начала в человеке, когда он остаётся один на один с собственной природой.
В публичном доме студенты затевают разговор о проституции11. Собственно, активная роль в этом разговоре принадлежит Платонову – он развивает авторские мысли: «Зло это не неизбежное, а непреоборимое… Пока существует брак, не умрёт и проституция… Кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди… Проституция для них – оттяжка чужого сладострастия от их личного, законного алькова» и т. п. [с. 163–164]. Остальные слушают его, кто со вниманием (Лихонин), кто рассеянно (Рамзес), а кто с раздражением (Собашников). Постепенно все студенты, кроме Лихонина, уединяются с девушками, при этом ни один из них не делает это открыто («У каждого оставался ещё в душе тёмный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужно-позорное» [с. 129]), стыдясь друг друга, они по очереди под благовидным предлогом исчезают из кабинета и подолгу не возвращаются. Повинуясь «блудливому сердцу», они берут женщин без любви, за деньги, как бы подтверждая тезис Платонова о непреоборимости зла проституции. А. Куприну важно показать, что слова Платонова не способны остановить студентов, – в сущности, разделяя его взгляды, понимая низменность своих побуждений, они тем не менее становятся заложниками человеческой природы, толкающей их в «помойную яму», где им безучастно отдаются «говорящие, ходящие куски мяса» [с. 304].
Нечто подобное происходит и с Лихониным, который решается на социальный эксперимент: загоревшись идеей «спасти хоть одну живую душу» [с. 165], забрать из публичного дома одну из девушек, чтобы помочь ей начать новую жизнь, он увозит из публичного дома Любку. Но недолго «умиляла его красота и возвышенность собственного поступка» [с. 210], в первую же ночь уступив «инстинктивной чувственности самца» («Боже мой, кто же не падал, поддаваясь минутной расхлябанности нервов?» [с. 223]), он начинает испытывать «колючую стыдливую неловкость и что-то враждебное против… своей случайной любовницы» [с. 227]. А вскоре ему с трудом удаётся скрывать всё возрастающую ненависть к этой девушке, – в то время как она «привязалась к Лихонину всем своим женским существом, любящим и ревнивым, приросла к нему телом, чувством, мыслями» [с. 255]. Романтический порыв Лихонина: «учить Любу чему можно, водить в театр, на выставки, на популярные лекции, в музеи…» [с. 240], – быстро угасает, и ей ничего не остаётся, как вернуться в публичный дом12. Закономерно, что ни Любке, ни какой-либо другой девушке так и не удаётся выбраться из «помойной ямы» проституции. В финале повести А. Куприн моделирует разные ситуации их квази-освобождения: вслед за Женькой её подруги попадают из одной ямы в другую – в могилу (Женька, Вера, Манька Маленькая), в тюрьму (Тамара), в сумасшедший дом (Паша).
А. Куприн идеализирует героинь повести: «… ведь все они – дети. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса – совсем как дети» [с. 143]. Они – жертвы: их «светлая детскость» противопоставлена в повести лживому миру «порядочных людей», которые высокомерно судят тех, кого сами толкают в «яму проституции», за ханжеской маской добропорядочности скрывая низкие мысли, тайные пороки или пошлое «потреблятство».
Этот мир в повести А. Куприна представлен целой галереей психологически точных, детально выписанных портретов: здесь околоточный надзиратель Кербеш (ч. 1, II гл.), многочисленные посетители («гости») публичного дома – преподаватель гимназии (ч. 1, VI гл.), землемер Ванька-Встанька (ч. 1, VII гл.), студенты – Лихонин, Рамзес, Собашников и др. (ч. 1, VIII гл.), Платонов (ч. 1, IX гл.), торговец женщинами Горизонт (ч. 2, II гл.), певица Ровинская со своими спутниками – баронессой Тефтинг, адвокатом Рязановым и Володей Чаплинским (ч. 2, VI гл.), друзья Лихонина, «учителя» Любки – Нижарадзе (ч. 2, X гл.), Соловьёв (ч. 2, XIII гл.), Симановский (ч. 2, XIV гл.), любовник Женьки Коля Гладышев (ч. 3, II гл.), доктор Клименко (ч. 3, V гл.), нотариус (ч. 3, IX гл.) и т. д. Все они – обвиняемые, к ним всем относятся слова Тамары, брошенные ею в лицо модной певицы Ровинской, затеявшей из снобизма («начинается обозрение зверинца» [с. 196]) экскурсию по публичным домам: «Мы – падшие, но мы не лжём, не притворяемся, а вы все падаете и при этом лжёте…» [с. 201].
Особая роль в повести отводится Женьке: «по отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе – тиранствующей и обожаемой» [с. 97]. Автор также явно симпатизирует ей; не случайно, «переступив порог» публичного дома читатель застаёт Женьку за чтением книги, в то время, как другие девушки заняты более прозаичными делами: Любка во дворе кормит обрезками мяса цепного пса Амура; Нюра судачит с ней обо всех, кто проходит по улице; Манька Маленькая и Зоя играют в карты; Тамара сидит за шитьём и т. д. Давая краткую характеристику героиням повести, А. Куприн отмечает, что Женька «трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла» [с. 97]. Вместе с тем выбор книги («сочинение г. Дюма») подчёркивает романтичность её натуры, склонность к авантюризму, нравственный максимализм, из которого в сознании Женьки однажды вместе с ненавистью рождается мысль о мести, а позже и мысль о самоубийстве, – каждая из них реализуется в поступках.
Озлобленность Женьки выделяет её среди других бездумно-покорных – героинь повести («Я, может быть, одна из них всех, которая чувствует ужас своего положения, эту чёрную, вонючую, грязную яму» [с. 304), парадоксальным образом лишь усиливая её привлекательность в глазах мужчин: «… никогда он (Платонов. – С.Т.) не видел Женю такой блестяще-красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на неё – иные откровенно, другие украдкой и точно мельком, – с любопытством и затаённым желанием» [с. 144]. Сознательно заражая мужчин сифилисом («… я решила заражать их всех – молодых, старых, бедных, богатых, красивых, уродливых, – всех, всех, всех!.. Я с наслаждением отмечала их, точно скотину, раскалённым клеймом» [с. 305–306]), Женька мстит им за свою исковерканную жизнь, за то, что она никогда не знала любви, что из неё – по её же словам – сделали «половую тряпку, какую-то сточную трубу для пакостных удовольствий» [с. 305]. При этом она не испытывает ни жалости, ни раскаяния («Во мне была только радость, как у голодного волка, который дорвался до крови…» [с. 306]). Даже самоубийство одного из заражённых ею студентов (Рамзес) оставляет Женьку равнодушной: «Подумай, Платонов, ведь тысячи, тысячи человек брали меня, хватали, хрюкали, сопели надо мной, и всех тех, которые были, и тех, которые могли бы ещё быть на моей постели, – ах! как ненавижу я их всех! Если бы могла, я осудила бы их на пытку огнём и железом!..» [с. 304]. Но её мечта «заразить их всех, заразить их отцов, матерей, сестёр, невест, – хоть весь мир» [с. 306] рассыпается, как карточный домик: «бешеная ненависть» Женьки утихла, «мрачный огонь» в её глазах погас при виде «цветущего юношеского тела» кадета Гладышева – её постоянного любовника, вернувшегося возмужавшим из военного лагеря («И вот я его сейчас заражу, как и всех других, – думала Женька, скользя глубоким взглядом по его стройным ногам, красивому торсу будущего атлета и по закинутым назад рукам, на которых выше сгиба локтя выпукло, твёрдо напряглись мышцы. – Отчего же мне так жаль его?.. Оттого, что он – мальчик? Ведь ещё год тому назад с небольшим я совала ему в карман яблоки, когда он уходил от меня ночью… А то, что он покупал меня за деньги, – разве это простительно?» [с. 290–291]).
Жалость к Коле Гладышеву («Мне казалось, что это всё равно что украсть деньги у дурачка, у идиотика, или ударить слепого, или зарезать спящего…» [с. 306] нивелирует, обессмысливает месть Женьки – последнее, что давало ей силы жить. Наверное, мог бы удержать её от рокового шага Платонов, перед которым она раскрывает душу за день до самоубийства, но этот герой А. Куприна, при всей его привлекательности, не способен на поступок. Он представляет собой разновидность излюбленного героя писателя – рефлектирующего интеллигента (Бобров, Ромашов, Назанский и др.): в нём есть любовь к правде, справедливости, уважение к человеку, но нет силы воли превозмочь вражду и ненависть в окружающих людях13.
Смерть Женьки и её похороны – кульминационный момент в повествовании. Здесь сходятся все сюжетные линии и единым потоком устремляются к развязке: певица Ровинская и адвокат Рязанов помогают Тамаре с организацией похорон, но сами (впрочем, как и Платонов) на похороны не приходят; Любка, обманутая и брошенная Лихониным, в сердцах отвергает любовь готового на ней жениться Соловьёва («Уйди! Уйди! Не могу вас всех видеть! – кричала с бешенством Любка. – Палачи! Свиньи!» [с. 339]); Тамара вместе со своим любовником совершает ограбление нотариуса и покидает публичный дом, чтобы, спустя год, оказаться в тюрьме…
Резко изменяется темп повествования – события (смерти, несчастья, скандалы), подобно «кровавым сценам в шекспировских трагедиях», с калейдоскопической скоростью сменяют друг друга, словно смерть Женьки нарушила зыбкое равновесие в мире, и он, утратив опору, сползает в небытие… Апокалипсис?!.. В одной яме с Женькой оказываются похороненными одинаково иллюзорные надежды: интеллигенции – на духовное возрождение русского народа; героинь повести – изменить жизнь.
В заключительной главе повествование распадается на отдельные новеллы-некрологи: арест Тамары, смерть Веры, смерть Маньки Маленькой, разгром публичных домов в Ямской слободе. И завершается оно авторским посвящением юношеству и матерям, которое возвращает читателю надежду (иллюзию?) на обновление мира14. В этом магия А. Куприна, но в данном случае она оказывается бессильной: по-настоящему финальным аккордом повести звучит не назидательное посвящение, а реплика Тамары на похоронах Женьки: «… ей в её яме гораздо лучше, чем нам в нашей» [с. 338].
2.1.3. «Реалист пола»? – Михаил Арцыбашев
«Ужас»
«Жена»
«Смерть Ланде»
В последние обозримые десятилетия М. Арцыбашева знали в нашей стране в основном понаслышке и упоминался он в литературоведении лишь как автор «порнографического» романа «Санин» (1907), в своё время принёсшего ему широкую известность. Но писатель в течение всей своей жизни работал и в области малой прозы, в разных жанрах – от небольшого очерка до повести. Лучшие из них – «Смерть Ланде» (1904), «Жена» (1904), «Ужас» (1904), «Кровавое пятно» (1906), «Рабочий Шевырев» (1909), «У последней черты» (1910–1912) и др. – объединяет стремление писателя дать целостное представление о месте человека в современном мире, о столкновении личного начала с общественным.
Как правило, в своих произведениях М. Арцыбашев обращается к методам и приёмам социологического исследования: обобщающая, рассуждающая, ищущая мысль автора становится доминирующим принципом их построения. Поэтому для М. Арцыбашева вполне органичны очерковые принципы организации повествования: акцент делается на анализе взаимоотношений героя, обладающего собственным, индивидуальным мироощущением, с окружающими его людьми, которые всецело подвержены влиянию общественных предрассудков или животных инстинктов, – что, в сущности, для М. Арцыбашева одно и то же, поскольку жизнь общества он пытается объяснить биологическими законами.
Значение творчества М. Арцыбашева до сих пор до конца не выявлено, оценки колеблются от резко отрицательных до умеренно положительных: одни критики называли его «реалистом пола, проникающим в самые низы человеческой природы», «пропагандистом социального пессимизма и аморализма», «натуралистом, которому мог бы позавидовать Золя»; другие – «тонким психологом», «прекрасным живописцем природы», «крупной литературной величиной» и т. п.1 Тем не менее полускандальная известность и поверхностная однобокая оценка М. Арцыбашева, не учитывающая полемической направленности его творчества, как автора прежде всего романа «Санин» надолго возобладали, оформившись в репутацию «бульварного писателя», «литературного ремесленника», «модного представителя упаднической литературы»2. И только в наши дни, когда появилась возможность прочитать произведения М. Арцыбашева заново и непредубеждённо, такой взгляд на его творчество был несколько поколеблен: «Произведения некогда забытого автора вызывают неоднозначное к себе отношение. Не всё написанное им художественно равноценно. Но, несомненно, его значение не исчерпывается сложившейся литературной репутацией… Совершенно очевидно, что без Арцыбашева, как и без других художников, несправедливо забытых, пришедших к читателю с опозданием, наши представления о русской литературе начала века не могут быть объективными и полными»3.
Идейные оппоненты, в которых у М. Арцыбашева никогда не было недостатка, многократно вменяли ему в вину беспросветно пессимистический взгляд на жизнь, пристрастие к изображению разных форм физического страдания, умирания, распада. И эти обвинения, разумеется, не были безосновательными: в некоторых его произведениях и в самом деле превалируют смерть, насилие, разрушение, а финалы программных повестей «Смерть Ланде», «Ужас», «Кровавое пятно», «У последней черты» трудно прочитать иначе, как апофеоз тщеты и бренности человеческих устремлений, воплощаемых в метафорах увядающей, угасающей, конвульсивно расстающейся с жизнью плоти. Но если внимательнее вглядеться в суть, в своего рода мировоззренческий урок даже этих, казалось бы, не оставляющих места надежде произведений, если попытаться проникнуть в логику авторского замысла, нетрудно понять, что, как ни парадоксально, интерес М. Арцыбашева состоит главным образом в том, чтобы запечатлеть процесс противостояния человека злу, насилию и бездуховности, процесс личностного самоопределения во всей его остроте и своеобразном величии.
Как бы то ни было, но в шумном хоре социальных, политических и эстетических пристрастий, в сумятице амбиций и споров, в соперничестве претензий на новое слово в искусстве – во всём том нестройном многоголосье, каким представляется литературная жизнь России начала XX века, голос М. Арцыбашева легко узнаваем. С одной стороны, на его поэтику несомненное влияние оказала теория и практика натурализма:
• ему свойственен научный подход к изображению действительности, фактографичность, повествование в его произведениях строится не на воображении, а на анализе;
• для него не существует запретных тем, он вторгается в разные стороны жизни, даже самые низменные, прежде считавшиеся «неэстетическими»;
• он избегает давать открытую авторскую оценку изображаемому, в его произведениях преобладает объективная, бесстрастная манера повествования;
• психологизм он зачастую подменяет физиологизмом;
• синтаксис в его произведениях предельно упрощён, повествование отличается сжатостью и лаконичностью.
С другой стороны, М. Арцыбашев широко использует – особенно в портретных и пейзажных описаниях – импрессионистические приёмы изображения действительности. Этим определяется своеобразие творческого метода М. Арцыбашева, который можно охарактеризовать как позитивистский реализм, осложнённый импрессионистической тенденцией.
И ещё одно замечание о художественной манере писателя, о его отношении к слову. «Я могу утверждать одно, – писал М. Арцыбашев, – что никогда не произносил ни одного слова, которое не родилось бы в слиянии моего сердца и ума, не было бы моим искренним убеждением»4. Главный принцип своего творчества М. Арцыбашев определяет следующим образом: «Я – художник, я не имею права обманывать, не имею права «творить легенду»… Я хочу творить только правду»5. Однако реальная жизнь так сложна, контрастна, болезненна для восприятия и осмысления, что правда, которую говорит писатель, чаще всего жестока. И сам он, как правило, испытывает гнев, горечь, ненависть, упрямое желание спорить, опровергать, срывать все и всякие покровы лицемерия, ханжества, а подчас – благоприличия, рассеивать иллюзии и самообманы, одним словом, говорить «нет».
Говорят «нет» своим образом жизни и персонажи произведений М. Арцыбашева – бунтующие, страдающие, взыскующие справедливости. Это старик Иволгин («Ужас»), проститутка Саша («Бунт»), начальник железнодорожной станции Анисимов («Кровавое пятно»), рабочий Шевырев («Рабочий Шевырев»), студент Ланде («Смерть Ланде») и др. Противостоит им толпа – обезличенная человеческая масса, из которой изредка выделяются отдельные вполне заурядные люди, наделённые стандартным мышлением и поведением. Всматриваясь в калейдоскоп их лиц, приходится констатировать, что по большей части они почти неотличимы друг от друга: внутренний мир, внешний облик и образ жизни этих людей различаются только в зависимости от среды, в которой они живут, и от места, где служат. Причина в том, что, как правило, жизнь этих людей строится не на их собственной инициативе; стремление к самореализации не является их настоятельной потребностью, идеалом действия и борьбы. Они живут в мире готовых социальных форм и до поры безропотно им подчиняются.
Но в обезличенности и конформизме, по М. Арцыбашеву, проявляется не исконная природа человека, а глубочайшее искажение этой природы. Несомненное обезличивание «человека толпы», полагает писатель, не является фатальной неизбежностью, с которой невозможно бороться: вина за нивелировку личности лежит не только на внешних обстоятельствах, но и на самих людях, поддавшихся давлению извне и тем самым совершивших предательство по отношению к собственному «я», которое при первом удобном случае пытается пробиться наружу и заявить о себе.
В критических, так называемых пограничных ситуациях у обезличенных героев М. Арцыбашева пробуждается голос совести (индивидуальное начало), но они заглушают в себе, казалось бы, естественные для каждого человека чувства, подчиняясь «невидимой, мёртвой, давящей силе» общественных норм и предрассудков: «Оба десятские проворно бросили шапки за дверь и, осторожно топоча лаптями, подошли к кровати. Руки у них дрожали, и ужас и жалость видны были даже на согнутых напряжённых спинах, но дыхание их было тупо и покорно…» («Ужас»); «Лицо мужика сьёжилось, как будто ушло куда-то внутрь, и тупой страх микроцефала выступил на его лице из-за светлой и прозрачной жалости…» («Ужас»); «Воцарилось короткое молчание, и вдруг у офицера явственно задрожали губы. Анисимов тихо повёл глазами и встретился со странным, как будто чего-то не понимающим и растерянным взглядом. Но так же мгновенно лицо офицера резко изменилось. «Ну!..» – коротко и страшно грубо выкрикнул он, порывисто дёрнув головой к двери…» («Кровавое пятно») [с. 14, 15]6.
Зло и насилие, по М. Арцыбашеву, не являются чем-то фатальным: они торжествуют над добром и радостью потому, что человеческую личность легко подчиняют условности «придуманной жизни». Отсюда мрачный колорит большинства произведений М. Арцыбашева, усугубляющийся безысходностью их финалов:
• обесчещенная Ниночка кончает жизнь самоубийством, старик Иволгин и другие жители деревни, пытаясь восстановить справедливость, погибают от рук жандармов: «В сарае при волости на помосте лежали рядами неподвижные мёртвые люди и смотрели вверх остановившимися навсегда белыми глазами, в которых тускло блестел вопрошающий и безысходный ужас» («Ужас»);
• пытающаяся начать новую жизнь проститутка Саша снова оказывается на панели: «…ночью, в его объятиях, от вина и бесшабашного угара Саше было приятно, шумело в голове и казалось, что весело. Утро встало серое, мёртвое, бесконечно и безнадёжно печально» («Бунт»);
• войска подавляют восстание, а его участников, в том числе и начальника железнодорожной станции Анисимова, расстреливают: «Кровавое пятно забросали снегом, но оно опять просочилось. Долгая зима покрыла его снегами, но весною они стаяли, и побуревшее пятно снова появилось ненадолго, чтобы вместе со снегом, под радостными лучами яркого солнца, растаять и уйти в рыхлую живую землю» («Кровавое пятно») [c. 26, 96].
Несмотря на то что для произведений М. Арцыбашева характерны пессимистические финалы, он не утрачивает веру в человека, поскольку убеждён в его огромной внутренней сопротивляемости. М. Арцыбашев стоит на стороне тех, кто отвергает саму идею «поражения личности». В человеке он видит существо, имеющее не только отвлечённое право, но и реальную возможность быть индивидуальностью, сохранить себя как внутри жизненного круга, так и путём «бегства» из него. Упустит человек эту возможность или воспользуется ею, зависит лишь от него самого.
Проблема нравственного выбора стоит перед героями большинства произведений М. Арцыбашева, но может быть, наиболее пронзительно и остро она заявлена в повести «УЖАС», название которой говорит само за себя7. Эта повесть М. Арцыбашева экспериментальна по своей художественной природе. В ней, как в кинофильме, чередуются общие и крупные планы. Обобщённо, суммарно передаётся сила массового движения, которого не могут остановить ни полицейские кордоны, ни выстрелы солдат. Но в центре внимания автора всего несколько человек: с одной стороны, юная Ниночка и старик Иволгин; а с другой – безымянные (обезличенные) становой, следователь, доктор и другие представители власти.
То, что случилось с Ниночкой – изнасилование и самоубийство, представляется нелепым и противоестественным. Тем более что в начале повествования М. Арцыбашев сознательно рисует её образ в ореоле света, радости и веселья: «… от молодости, радости и надежд, наполнявших её с ног до головы, ей везде было весело. Всё время она болтала о том, как удивительно ей хочется жить и веселиться»; «… ей представлялось что-то весёлое и светлое, впереди мелькали какие-то интересные лица, открывался какой-то широкий и яркий простор, и губы её тихо и радостно улыбались потемневшим задумчивым глазам» [с. 5, 8]. Но «маленькое счастье», как говорит о ней старик Иволгин, оказывается разрушенным в порыве «накатившей злобы безудержного, сорвавшегося вожделения…» тремя потерявшими человеческий облик негодяями: («Вместо рубашки на Ниночке были одни лохмотья, и она лежала голая, вся в ссадинах и синяках, извивалась, билась, плакала и кричала и была уже не красива, а жалка и страшна, может быть, даже омерзительна» [с. 11]).
Оставаясь верным себе, М. Арцыбашев сохраняет внешнюю объективность, бесстрастность повествования, но натуралистические подробности в описаниях изнасилования и смерти Ниночки подспудно, по контрасту с её психологической характеристикой в начале повествования, несут в себе такой эмоциональный накал, который не позволяет читателю ни усомниться в позиции автора, ни самому остаться равнодушным: «Ниночка в чистой белой рубашке, с ещё неразгладившимися складочками и ещё пахнущей мылом, висела в углу комнаты на вешалке, с которой было снято всё платье. Тоненькие руки, уже зеленоватые и беспомощные, висели вдоль тела, ноги в чёрных чулках с голубыми подвязками неестественно выгнулись, точно мучительно стремясь к земле, а голова была закинута назад, огромная, раздутая, синяя, с нечеловеческими стеклянными глазами, с шершавым синим языком, горбом вставшим в мёртвом холодном рту, с застывшей грязно-кровавой пеной на синих губах и с выражением ужаса и боли, уже непонятных, невообразимых живому человеку» [с. 13].
О том, насколько последовательно М. Арцыбашев применяет в этой повести (впрочем, как и в других произведениях) приём контраста, можно судить хотя бы по следующему, очень характерному для него, фрагменту: «Белое небо уже стало прозрачным, и иней призрачно белел на крышах, на земле, на заборах. Одинокая звезда на востоке бледнела тонко и печально. Чёрная толпа, медленно свивая чёрные кольца, тронулась и поползла за гробом по тихой длинной улице. Было так чисто, прозрачно и изящно вверху в небе и так беспокойно грубо внизу, на чёрной земле! Гроб быстро донесли до церкви и медленно стали заворачивать к погосту» [с. 20]. Контраст цвета (белый – чёрный), пространства (вверху – внизу) и скорости движения (быстро – медленно) в данном контексте, на наш взгляд, ассоциируется как с поруганной небесной чистотой Ниночки, так и с растущим в толпе озлоблением против несправедливости, против безнаказанности виновных в её смерти.
Решение Ниночки уйти из жизни в сложившейся ситуации представляется оправданным и заслуживающим уважения как сознательно сделанный нравственный выбор, как единственно возможная для неё, существа слабого и наивного, форма протеста против социального зла. Протест старика Иволгина и других жителей деревни, на первый взгляд, представляется более действенным («Дико кричал старик Иволгин, безумно кричали, бестолково говорили точно внезапно сошедшие с ума люди, ходил по улице тяжёлый слышимый вздох и расплывался в сплошной чёрной массе народа, навалившегося на крыльцо. Не было конца и меры ужасу и омерзению, и росла ищущая месть…» [с. 13]), но на поверку оказывается столь же губительным. И всё же – пусть даже ценой собственной жизни – они отстаивают право каждого человека быть самим собой, а не стандартным, легко заменимым «винтиком» огромного безликого целого.
Власть быстро расправляется с жителями деревни, но это – как показывает М. Арцыбашев – оказывается возможным лишь потому, что социальное зло опирается на обезличивание «человека толпы», на нивелировку личности, на людей, совершающих предательство по отношению к собственному «я». Они – и становой, и следователь, и доктор, и урядник, и все остальные представители власти, – бездумные и бесчеловечные. Не случайно, характеризуя их, М. Арцыбашев постоянно прибегает к «звериным» эпитетам и сравнениям: «как дикие звери в клетке» (о докторе, следователе и становом), «как придавленное животное царапает землю» (о докторе), «иступленный восторг спасшегося зверя» (о следователе), «звериное бешенство» (о становом), «похожи на каких-то огромных безобразных зайцев» (об исправнике и старшине) и т. п. [с. 8, 13, 18, 23, 24].
Как обычно, в повести «Ужас» М. Арцыбашев остается тонким психологом. Характерна в этом смысле пятая глава, в которой насильники, становой, следователь и доктор, под пером писателя предстают в своём истинном виде. Рисуя их психологические портреты, писатель выбирает очень точные, ёмкие детали; скрупулёзно и психологически достоверно моделирует ход мыслей, заставляя их испытывать самые разные чувства – от животного ужаса, безысходного страха до стыда (доктор), бешенства (следователь) и холодной расчётливости (становой). Но в целом психологизм М. Арцыбашева граничит с физиологизмом: прежде всего его интересует биологическое начало в человеке, его естественное, природное состояние.
Проблема удаления человека от его естественного, природного бытия – одна из главных в творчестве М. Арцыбашева. Наиболее отчетливо она заявлена в романе «Санин», но и в последующих своих произведениях писатель не прекращает ее разрабатывать. Одним из таких произведений стала повесть «ЖЕНА». В ней фактически нет сюжета в обычном смысле слова, нет динамично развивающихся событий. Повествование ведётся от первого лица, но это не повесть-исповедь, поскольку акценты направлены не столько на раскрытие психологического состояния героя, сколько на то, чтобы дать как можно более полную характеристику драматической ситуации столкновения духа личности с атмосферой семьи, где личность, как правило, постепенно засасывается тиной семейных нужностей и необходимостей и в конце концов совершенно атрофируется. По форме изложения текст представляет собой соединение психологического этюда с социологическим очерком. Но социология служит здесь лишь средством заострения и углубления психологического конфликта, в основе которого лежит протест «неподчиняющегося индивидуального начала» против подавляющего свободу личности начала семейного: «… я ясно и сознательно увидел, что мне незачем возвращаться к жене, что то, что она чувствует, что «надо» любить и жалеть её, что надо заботиться о будущем ребёнке именно потому, что это надо, – вовсе не касается меня, не имеет никакой связи с тем жгучим и могучим любопытным желанием жить, которое прекрасно, сильнее меня, есть я сам» [с. 111].
Контур сюжета повести М. Арцыбашева составляет история взаимоотношений героя-рассказчика с женой, – условно всё повествование можно разделить на четыре части:
• в первой части (гл. I—2) изображается любовь-страсть, которую герои повести испытывают друг к другу до женитьбы (экспозиция);
• во второй части (гл. 3–6) анализируется процесс превращения в период женитьбы их чувства в «любовь собственника» (завязка и кульминация художественного конфликта);
• в третьей части (гл. 7) описывается разрыв между героями (развязка художественного конфликта);
• в четвёртой части (гл. 8) рассказывается об их последней встрече (эпилог).