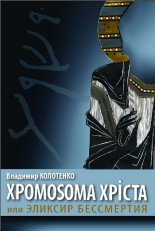Неореализм. Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX – начала XX века Тузкова Инна

Сюжетные линии «Барыба – Евсей» и «Барыба – Тимоша» восходят к одному инварианту библейской легенды о блудном сыне – «предательство друзей», но в замятинском «зазеркалье» предателем становится сам Барыба. Сначала он, воспользовавшись доверчивостью монаха Евсея, украл все его сбережения, а по сути – свободу («Да как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из монастыря. А теперь – хоти не хоти…Слободный был человек, а теперь…» [с. 69]). Это микросюжеты 11-й «Брокаровская баночка», 12-й «Монашек старенький», 16-й «Ничем не проймёшь»). Затем, поддавшись на уговоры адвоката Моргунова, Барыба лжесвидетельствовал (за вознагрождение и должность урядника) на суде против Тимоши, по сути, решив его судьбу («Да и жизни-то всего в нём полвершка…» [с. 87]). Это микросюжеты 22-й «Шесть четвертных», 23-й «Мураш надоедный», 24-й «Прощайте». Все ситуации созвучны, дополняют друг друга, поскольку и монах Евсей, и портной-философ Тимоша не только всегда помогали Барыбе в трудную минуту, но и по-своему были симпатичны ему. Однако ущербный разум Барыбы бессилен осознать смутные порывы души, да и своей открытостью миру Евсей и Тимоша противостоят энтропии мещанской жизни, а следовательно, уязвимы. Против цинизма Барыбы («молчал и улыбался четырёхугольно, зверино» [с. 72]) они беззащитны, и если монах Евсей ещё наивно призывает Анфима признаться в содеянном, подвергнув его испытанию чаем на наговорённой воде («Я те, милёнок, угощу чаем. Я те развяжу язык…» [с. 71]), то Тимоша никаких иллюзий на его счёт не имеет: «Души-то, совести у тебя – ровно у курицы…» [с. 53].
Характерно, что в отличие от адвоката Моргунова, которому по ночам черти снятся («…тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу, каждую ночь – понимаешь?» [с. 86]), Барыба не испытывает угрызений совести вплоть до ночи накануне суда над его бывшим приятелем. Проблему экзистенциального выбора он решает во сне («Завтра вечером. Значит, ещё целый день до суда. Захочу вот, пойду и откажусь. Сам себе господин…» [с. 87]). Символично, что колебания героя отражены в самом коротком повествовательном фрагменте – на полстраницы (23-й микросюжет – «Мураш надоедный»). Проснувшаяся совесть («Какой-то вот комарик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить…» [с. 87]) не даёт Анфиму уснуть («Спал и не спал. И всё будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль…» [с. 87]) Но после бессонной ночи Барыба словно заново рождается («…всё кругом было светлое, ясное, и таким простым всё открылось, что нужно было на суде сделать. Будто ничего этого, что ночью томило, – ничего такого и не было» [с. 87]). Пробудившееся в нём ночью человеческое начало («мураш надоедный» – вот где ирония!) оказывается погребённым под мундиром урядника (26-й микросюжет – «Ясные пуговицы»).
Финал повести: отец проклинает нераскаявшегося сына – столь же парадоксально соотносится с библейским контекстом, как и предыдущие микросюжеты. Неудачная попытка Барыбы-уряд-ника получить отцовское благословение («У обитой оборванной клеенкой двери – эх, старая знакомая! – остановился на минуточку. Почти что любил отца…» [с. 90]) не воспринимается как прорыв сквозь «утробную» неразумность, пусть даже до конца не осознаваемый им самим. «Утроба» Барыбы отказывается принять (= понять) душевную боль отца, проклинающего своего сына: «Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял, долго никак не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошёл назад» [с. 90]. Природная тупость, интеллектуальная неразвитость, трудное движение мысли замятинского героя на протяжении всего повествования передаётся с помощью лейтмотивной метафоры-символа («железные челюсти»): Анфим Барыба пережёвывает, перемалывает жизнь «тяжкими железными челюстями», заменившими ему и разум, и душу.
И всё же не следует воспринимать «Уездное» как историю тела, а не души23. В целом замятинское повествование, несмотря на сказовую форму, объективировано, бесстрастно, что соответствует эмоциональной тупости Барыбы. Но в концовке повести бесстрастность повествования нарушается, авторскую позицию выражает гротескное сравнение антигероя с воскресшей русской курганной бабой: «Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шёл, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба» [с. 91], – Барыба-урядник побеждает в себе человека.
Условно этапы борьбы утробного (животного) и духовного (человеческого) начал в монолитном теле замятинского антигероя могут быть представлены в виде схемы, фиксирующей отношение к нему автора, рассказчика и персонажей повести.
По Е. Замятину, всеобщий закон жизни – одухотворённая телесность: «Ошибочно разделять людей на живых и мёртвых:
есть люди живые-мёртвые и живые-живые» [т. 2, с. 390]. Русское «уездное» живёт утробой, животной жизнью – жизнью мертвецов: здесь «плоть совсем одолела», а души «ровно у курицы». Сонные, тупеющие существа предаются обжорству и похоти – «живут себе ни шатко, ни валко, преют, как навозец, в тепле» [с. 78]. И Барыба – «недочеловек» является лишь частью («мелким царьком» (Я. Браун), «королём» (Д. Ричардс))24 этого плотского мира чревоугодия. Его образ по мере движения сюжета в своей бессмысленности, ненужности, дикости оказывается доведённым до абсурда. В сознании читателя он проецируется на жизнь русской провинции, превращая её в мираж, фантом, призрак («Мы вроде, как во град-Китеже на дне озера живём: ничегошеньки у нас не слыхать, над головой вода мутная да сонная…» [с. 77]). Но «в черноте у Е. Замятина почти всегда брезжит свет – надежда на веселье, любовь или бунт…»25 И не столь важно, что «уездная революция» ограничилась перестрелкой в трактире, а «революционером» оказался «поганец-мальчишка», главное – в обывательское пространство («Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пустить, так раза три из-за двери спросят: кто такой, да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет» [с. 78]), атмосферу («Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума-то сходят. А нам бы как поспокойней прожить» [с. 77]) и умы («Не-ет, до нас не дойдёт…» [с. 77]) проникло антиэнтропийное сомнение («Ну, неуж и до нас дойдёт?» [с. 82]) и страх («Развелись всякие… Кончилось в посаде старинное житьё, взбаламутили, да…» [с. 89]), а среди «цивилизованных котлетных людей» стали попадаться еретики (монах Евсей – «пьяная мельница», портной Тимоша – «мозги перешиваю», рыжий мещанин – автошарж?).
В «Уездном» дан русский вариант энтропии человеческой жизни; её английский вариант Е. Замятин представил в повести «Островитяне». Текст её разбит на 16 пронумерованных и озаглавленных глав, но здесь, в отличие от большинства произведений Е. Замятина, фрагментарность повествования хотя и присутствует как элемент орнаментального стиля, но почти не ощущается. Вернее, она скрадывается за счёт перенасыщенности повествования ассоциативной образностью. Отдельные фрагменты текста «рифмуются» между собой с помощью многочисленных лейтмотивных деталей, которые вводятся в повествование для образной характеристики гротескных персонажей с раблезианским размахом и в сопровождении авторской иронии. Ироническое начало, в свою очередь, «рифмуется» с игровым пространством: вводит его, сосуществует с ним и находит в нём продолжение.
Пространство для игры (и не только словесной) Е. Замятин на этот раз моделирует на территории современной ему Англии, где в качестве инженера-кораблестроителя он провёл около двух лет. Вошедшая в анекдоты чопорность англичан в повести Е. Замятина становится символом рационалистичной западной цивилизации – и шире: мировой цивилизации. Действие повести происходит в вымышленном провинциальном городке Джесмонде (= Ньюкасл). По Е. Замятину, тихое течение джесмондской жизни – это «наследственная сонная болезнь, а больным этой болезнью (энтропией) – нельзя давать спать, иначе – наступит последний сон, смерть» [т. 2, с. 393]. В английском «уездном» ведут «правильную жизнь» (= живут по правилам) «живые мертвецы»:
викарий Дьюли, уверенный в том, что «жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели» [с. 257];
его жена – «миссис Дьюли в пенсне»: «Пенсне делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса bespectacled women – очкастых женщин – от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка…» [с. 261];
обедневший аристократ Кембл: «…всё у него было непреложно и твёрдо: на небе – закономерный Бог; величайшая на земле нация – британцы; наивысшее преступление в мире – пить чай, держа ложечку в чашке» [с. 262];
его мать – леди Кембл, для которой главное – порядок, основанный на приверженности традиции: «По возможности леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье…» [с. 276];
мистер Мак-Интош – секретарь Корпорации Почётных Звонарей и специалист по вопросам морали: «…мистер МакИнтош, как известно, знал всё» [с. 266];
«воскресные джентльмены»: «Воскресные джентльмены, как известно, изготовлялись на одной из джесмондских фабрик и в воскресенье утром появлялись на улицах в тысячах экземпляров… Все с одинаковыми тростями и в одинаковых цилиндрах, воскресные джентльмены со вставными зубами почтенно гуляли по улицам и приветствовали двойников…» [с. 264];
«розовые и голубые дамы»: «Куда-то шла миссис Дьюли, с какими-то розовыми и голубыми дамами говорила о погоде… А викарий сиял золотом восьми коронок и развивал перед розовыми и голубыми идеи «Завета Принудительного Спасения»…» [с. 265].
Им противостоят «живые живые», вызывающие авторскую симпатию своим нетривиальным мышлением, свободным проявлением чувств, непредсказуемым поведением – пренебрежением общественными условностями и моральными нормами:
рыжий адвокат О'Келли – вокруг него всегда «рыже, пёстро и шумно» [c. 267];
танцовщица Диди – «смешливый паж» [с. 290];
обитатели меблированных комнат миссис Аунти (богема):
«Постояльцы тут менялись каждую неделю – всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое revue. Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной; до полудня были опущены шторы в спальнях…» [с. 272].
Обезличенно-энтропийное существование жителей Джесмонда, если верить исполняющему роль Кассандры адвокату О'Келли, в скором будущем ждёт «обызвествление» – «математически неизбежно, понимаете – математически?» – лейтмотивная реплика викария Дьюли, апологета строгой регламентации человеческого поведения и главного оппонента бунтаря О'Келли, здесь оказывается парадоксально-уместной: «Через несколько лет любопытный путешественник найдёт в Англии обызвествлённых неподвижных людей, известняк в форме деревьев, собак, облаков» [с. 294]. В этом высказывании О'Келли, по мнению Т. Давыдовой, в повести «Островитяне» получает предельное выражение аполлоновская (энтропийная) тенденция, которая – как отмечает исследовательница – у Е. Замятина всегда реализуется путём создания примитивистских образов: внутренняя застылость персонажей передаётся через их внешнюю статуарность26.
Образная система Е. Замятина, строго говоря, консервативна, – она ориентирована на отсутствие полутонов, яркость, контрастность описаний 27. Необходимый эффект достигается с помощью ограниченного количества изобразительных средств, которые переходят из одного произведения в другое: описание глаз человека, физической затрудненности его движений, медленного течения мысли, лейтмотив пещеры (утробы, стены) etc.
Среди «фирменных» приёмов замятинской поэтики – описание целого по части, по характерной детали, которая обычно становится лейтмотивной («гротесковая метонимия»). В облике каждого персонажа повести «Островитяне» выделяется такая деталь, приобретающая, по мере движения сюжета, значение символа или метафоры. Для викария Дьюли лейтмотивными деталями-характеристиками становятся бесконечно повторяющиеся практически в каждом эпизоде с его участием сравнения жизни с различными механизмами; упоминания о «золотой улыбке» (у него было восемь золотых коронок на зубах) и привычке, заложив руки за спину, перебирать пальцами и отсчитывать: во-первых, во-вторых, в-третьих, выражая сухую рассудочность героя, претендующего на роль Спасителя человечества («Если государство ещё коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы – каждый из нас – должны гнать ближних по стезе спасения, гнать – скорпионами, гнать – как рабов…» [с. 291]). Лейтмотивные детали портретной характеристики Дьюли преобразуются в гротескную метафору «человек-машина», которая в иронически-игровом контексте замятинского повествования воспринимается как синоним «культурного человека», живущего или стремящегося жить в уныло энтропийном, однообразном мире.
«Миссис Дьюли в пенсне», леди Кембл и её сын – часть этого мира: их объединяет приверженность порядку, традиции. Но если леди Кембл так же, как викарий Дьюли, приписывает себе право всячески ограничивать и регламентировать жизнь джесмондцев (сопровождающие её лейтмотивные детали: губы-черви, мумийные кости и невидимая узда, подтягивающая голову вверх, подчёркивают её нетерпимость и агрессивность), то миссис Дьюли и Кембл лишь бездумно подчиняются принятым в обществе нормам поведения, отгородившись от «слишком яркого солнца» пенсне из стёкол с холодным блеском хрусталя (миссис Дьюли) или квадратной простотой силлогизма (Кембл). Их жизнь (миссис Дьюли: «…жила, тосковала между глав романа» [с. 257]; Кембл: «старался построить силлогизм» [с. 275], – это отсутствие жизни, но энтропийный процесс «обызвествления» для них оказывается обратимым.
У Е. Замятина в «Островитянах», так же как в романе-антиутопии «Мы», средством борьбы с энтропией человеческой жизни, с «обызвествлением» становится энергия любви. Подобно тому, как I – 330 разрушила «квадратную гармонию» Д – 503 («Мы»), «проказливый девочко-мальчик» Диди разрушает «квадратную простоту» Кембла (7-я глава «Руль испорчен»), а он, в свою очередь, сам того не желая, становится причиной исторического превращения «миссис Дьюли в пенсне» в «миссис Дьюли без пенсне» («…она была неузнаваема: пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась – и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, вид – не то растерянный, не то блаженный» [с 261]). И так же, как в романе Е. Замятина «Мы», в «Островитянах» антиэнтропийная (дионисийская) энергия любви гасится энтропией утопической мысли, которая материализуется, соответственно, в Часовой Скрижали Благодетеля и «Завете Принудительного Спасения» викария Дьюли.
Идеологам агрессивно-утопических теорий в произведениях Е. Замятина противостоят герои-бунтари (еретики): в романе «Мы» – это Мефи; в «Островитянах» – «четырёхрукий» ирландец О'Келли («…он кричал и размахивал руками так, что казалось – у него было их, по крайней мере, четыре» [с. 258]). Еретик О'Келли внушает страх обывателям («О'Келли? Да, не правда ли, ужасно? – заволновались голубые и розовые дамы…» [с. 266]), но глубоко симпатичен автору, который не только наделяет его ироничным умом, здоровым цинизмом и чувством юмора (с лица О'Келли не сходит улыбка, но это не «золотая улыбка» викария Дьюли, а всезнающая улыбка фарфорового мопса Джонни), но и вводит в «провокационный» ассоциативный ряд: сапожник Джон, сожжённый за верность Лютеровой ереси – отважный аристократ Риччио, влюблённый в Марию Стюарт, – бунтарь Оливер Кромвель – аморалист Оскар Уайльд.
Постоянно обыгрывается сходство О'Келли с фарфоровым мопсом Джонни: «Послушайте, Кембл, а вы не находите, что Джонни похож на мистера О'Келли? Оба они одинаково безобразно-милые, и такие умные, и одинаково улыбаются» [с. 272]; «О'Келли ухмылялся – как мопс» [с. 273]; «Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни» [с. 281]; «Ну до чего он на меня похож, а? На него глядя – я мог бы без зеркала бриться» [с. 290]. В свою очередь, это сходство ассоциативно сближает его с хозяйкой мопса – Диди, лейтмотивная черта которой – ассиметричность («девочка-мальчик»; «девочка-мать») также соотносится с двойственностью О'Келли («безобразно-милый»), с его специфически о'келлиевской, наверное, не случайно напоминающей парадоксы О. Уайльда, манерой говорить: «Я аккуратно опаздываю: это уже – аккуратность…» [с. 267]; «…никогда не мог понять, как можно одну и ту же женщину любить каждый день – как можно одну и ту же книгу читать каждый день? В конце концов – это должно сделать малограмотным…» [с. 296], напротив, у устремлённого вперёд Кембла («…вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и попрёт, всё прямо, через что попало» [с. 271]) отношения с мопсом «как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные» [с. 272]:
Кембл мечтает о «маленьком домике» (= символ мещанского уюта), ему снится электрический утюг («…громадный, сверкающий, ползёт и приглаживает всё, и не остаётся ничего – ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое – как зеркало» [с. 291]), с приобретения которого он начинает обустраивать новую, семейную жизнь («С каждой купленной вещью Диди всё больше становилась его женой…» [с. 295]).
Но эта «приглаженная» жизнь, зеркально отражающая жизнь «культурных (читай: ограниченных) людей», где «необузданное, некультурное солнце» вытесняют «десятки маленьких отражённых солнц», «удобные портативные и неяркие солнца» [с. 275, 292], не для «ассиметричной» Диди с её фарфоровым мопсом. Она делает отчаянную попытку «немножко выйти замуж», но уж больно карикатурно смотрятся рядом мопс и утюг: «О'Келли повернулся к камину – и всплеснул руками: на камине, рядом с мопсом Джонни – красовался сверкающий утюг. «Рядом с Джонни?» – с укором посмотрел он на Диди» [с. 296].
Они могут, но не должны быть вместе: могут – с точки зрения О'Келли, полагающего, с присущей ему парадоксальностью мышления, что «счастье – одно из наиболее жирообразующих обстоятельств», а «поселившись рядом с утюгами и Кемблом», Диди будет несчастна (= по-прежнему свободна): «Девочка моя… вам идёт быть именно такою, тоненьким, стриженным девочко-мальчиком» [с. 299]. Они не должны быть вместе, с точки зрения «ограниченных людей», которые делают всё возможное для того, чтобы образумить Кембла, впрочем, набор средств у них по-обывательски тривиален и пошл – вплоть до выслеживания любовников и «доставки» обманутого мужа к месту их очередного свидания.
Смерть О'Келли в финале повести от руки Кембла и казнь Кембла стоят в одном ряду, но если смерть О'Келли ассоциируется с гибелью язычника, антихристианина от рук христиан, то казнь Кембла напоминает костры средневековой инквизиции, на которых христиане уничтожили больше христиан, чем язычники за всю историю христианства…
2.4.3. «Правдо– (Бого-) искатель» – Иван Шмелёв
«Человек из ресторана»
«Волчий перекат»
«Неупиваемая чаша»
Творчество И. Шмелёва отчётливо делится на два периода – дои послереволюционный. Свои лучшие книги «Богомолье» (1931–1948) и «Лето Господне» (1934–1948) – он написал в эмиграции. Но среди его произведений 1910-х годов также немало замечательных. Это повести и рассказы «Человек из ресторана» (1911), «Стена» (1912), «Пугливая тишина» (1912), «Росстани» (1913), «Волчий перекат» (1913), «Неупиваемая чаша» (1918) и др.
За последние десятилетия благодаря изданию сначала двухтомного (1989), а затем восьмитомного (1998–1999) собрания сочинений И. Шмелёв превратился из малоизвестного писателя, автора одного произведения (повести «Человек из ресторана»), в классика русской литературы ХХ века. Его художественное наследие стало фактом не только современной литературной, но и научной жизни: издаются монографии (О. Сорокина «Московиана. Жизнь и творчество Ивана Шмелёва», 1994; А. Черников «Проза И. Шмелёва: Концепция мира и человека», 1995; Е. Руднева «Заметки о поэтике И.С. Шмелёва», 2002), с завидной регулярностью защищаются диссертации, проводятся ежегодные Международные Шмелёвские чтения (г. Алушта), публикуются статьи в научных сборниках и т. п.
Естественно, исследователи обращаются к наиболее ярким, эстетически значимым произведениям И. Шмелёва, высокая художественность которых бесспорна. При этом затрагивается широкий спектр проблем: творчество И. Шмелёва рассматривается в контексте славянской и мировой культуры, русской религиозной традиции, литературного процесса ХХ – ХХ1 веков; особое внимание уделяется вопросам поэтики, стилистики, жанрового своеобразия его произведений; уточняются и переосмысляются устоявшиеся представления о творчестве писателя1.
В дореволюционной критике за И. Шмелёвым прочно укрепилась репутация «бытописателя», связанная с попытками ограничить значение даже таких его произведений, как повесть «Человек из ресторана», лишь обилием любопытных бытовых подробностей. Обвиняя И. Шмелёва в поверхностном «бытовизме», некоторые критики не принимали и характерную для большинства его произведений внешнюю бесстрастность и объективность повествования, лишённого зачастую даже малейшего намёка на авторское вмешательство, а следовательно, и ярко выраженной идеи: мнение об И. Шмелёве как о писателе бестенденциозном было в своё время широко распространённым (А. Ожигов, М. Левидов и др.). Справедливости ради следует отметить, что существовала и иная точка зрения, выраженная в статьях Н. Коробки, В. Львова-Рогачевского, А. Дермана, которые утверждали, что творчество И. Шмелёва шире заурядного «бытовизма», что оно несёт в себе глубокое содержание, не сводимое к простому воспроизведению деталей быта2.
Однако мнение, что в большинстве своих произведений 1910-х годов И. Шмелёв оставался поверхностным «бытописателем», всё же ещё долго преобладало: «Страдание человека остаётся здесь ещё в пределах б ы т а, бытового горя, бытовых волнений и не вступает в ту сферу б ы т и я, где выступает более чем человеческое или даже сверхчеловеческое содержание, возводящее душу на уровень м и р о в о й с к о р б и»3. Поэтому очень важно подчеркнуть, что быт никогда не являлся для И. Шмелёва самоцелью, в лучших произведениях писателя отчётливо видно стремление перейти от эмпирического бытописания к философско-художественному постижению мира – это придаёт прозе И. Шмелёва новые качества, выявляет её эволюцию от реализма к неореализму и «духовному реализму»4. Характерно, что обращаясь к феномену неореализма русских писателей начала ХХ века, В. Келдыш определяет движение неореалистической прозы формулой: «Бытие сквозь быт»5. Это, конечно, не универсальная формула, – да и нелегко найти какую-либо формулу, целиком опредеяющую особенности того или иного литературного явления, – но она знаменует одну из заметных тенденций в неореализме, основой которого становится более широкий, относительно классического реализма, взгляд на мир и человека.
Цель И. Шмелёва показать реальную действительность, а уж затем искать в ней «скрытый смысл», он проясняется постепенно и как бы без участия автора: «проявление» текста происходит в сознании читателя, – функцию проявителя выполняет стиль6. Соответственно, на первый план выходят стилевые поиски, обновление повествовательной манеры: для ранней прозы И. Шмелёва характерна поэтика сказа («Человек из ресторана», «Стена» и др.), в более поздних произведениях сказовые художественные традиции отступают, заменяясь собственно авторским повествованием, в котором эпические элементы сочетаются с драматическими («Волчий перекат») и лирическими («Неупиваемая чаша»). Новаторство И. Шмелёва проявляется и на других уровнях жанрово-стилевой структуры произведений – в их сюжетном построении, образной системе, хронотопе. Исследователями отмечается ослабленная сюжетность произведений И. Шмелёва, перемещение внешнего действия «вовнутрь», символическая многозначность образов и пространственно-времешгой организации текста. Эти особенности поэтики И. Шмелёва во многом определяют жанровое своеобразие его прозы, будь то повесть-сказ («Человек из ресторана»), повесть-драма («Волчий перекат»), повесть-поэма («Неупиваемая чаша»), повесть-идиллия («Богомолье») или духовный (православный) роман («Пути небесные»)7.
Самое значительное произведение И. Шмелёва дореволюционной поры – повесть «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА». Она неоднократно вызывала интерес у исследователей, главным образом, с точки зрения проблематики и организации повествования8. Причём внимание литературоведов в основном акцентировалось на теме «маленького человека», которая была широко разработана ещё в русской литературе XIX века (А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, И. Тургенев, Г. Успенский, А. Чехов и др.). Как правило, отмечалось, что И. Шмелёв освещает её по-новому: в герое повести «Человек из ресторана» исчезают главные особенности, характерные для этого литературного типа – покорность и внутренняя закрепощённость; их место занимает зреющее чувство собственного достоинства. В связи с этим всегда подчёркивалось и удачно найденное И. Шмелёвым название для своей повести, которое в ироническом плане (высокое //низкое) обыгрывает многозначность слова «человек»: с одной стороны (по отношению к ресторанному лакею), оно приобретает уничижительный оттенок, а с другой – включает в себя представление о достоинстве, гордости. Этим словом автор не только определяет место героя в обществе, но и противопоставляет его посетителям ресторана, потерявшим человеческий облик. В свою очередь, повествовательная форма сказа, которую использует И. Шмелёв, рассматривалась и сама по себе, и в сопоставлении со сказовым повествованием А. Ремизова («Неуёмный бубен»), Е. Замятина («Уездное»), А. Белого («Серебряный голубь») и др.9
На наш взгляд, наиболее существенная отличительная особенность сказа И. Шмелёва от сказа А. Ремизова, Е. Замятина и А. Белого в том, что повествование в его повести ведётся от лица непосредственного участника событий, но отстранённо – через некоторое время после того, как произошли эти события. Таким образом, рассказчик – стареющий официант Яков Скороходов – имеет возможность взглянуть на происходящее как бы со стороны, sine ira et studio (без гнева и пристрастия), а значит, дать более трезвую, объективную оценку и своему поведению в той или иной ситуации, и поведению окружающих его людей. Это особенно важно потому, что он не только наблюдатель и обличитель, но и правдоискатель – «герой пути», по терминологии Ю. Лотмана: его мироощущение, его отношение к жизни, образ мыслей, жизненные принципы существенно изменяются в ходе повествования.
Повесть «Человек из ресторана» не имеет чёткой сюжетной организации. Это связано с тем, что писатель в первую очередь обращает внимание не на внешнюю, видимую жизнь героя, а на его внутренний мир, во многом скрытый от посторонних глаз. Естественно, что реальная и духовная жизнь человека развиваются неравномерно: за несколько дней в кризисный период герой может совершить скачок в нравственной жизни, и, напротив, в течение длительного времени обыденной жизни его мироощущение может оставаться неизменным. Своеобразие жанрового содержания повести И. Шмелёва заключается как раз в том, что автор подробно рассказывает о внутренней жизни героя в критический период существования, отображая её во всех проявлениях, не только по дням, но и по часам, и пренебрегает воспроизведением того периода жизни, когда духовный мир персонажа остаётся статичным.
Условно повесть «Человек из ресторана» можно разбить на шесть частей, каждая из которых представляет собой относительно самостоятельный эпизод:
1-я часть (гл. 1–9): исключение Николая из училища [3 суток];
2-я часть (гл. 10–11): период спокойствия [месяц];
3-я часть (гл. 12–15): арест Николая [сутки];
4-я часть (гл. 16–19): «мытарства» героя [полгода];
5-я часть (гл. 20–22): распад семьи [полгода];
6-я часть (гл. 23): эпилог [полгода].
Специфике сюжета подчинено использование автором художественного времени. В произведении несколько временных слоёв существуют параллельно друг с другом:
• время рассказывания / повествования;
• время, о котором непосредственно ведётся повествование;
• фоновое время прожитой жизни героя.
Действие повести охватывает промежуток примерно в полтора-два года, но это время распределяется по главам неравномерно: автор может подробно расписывать в девяти главах (гл. 1–9) события, произошедшие в течение трёх суток, а затем в три главы (гл. 16–19 или 20–22) вместить полгода из жизни героя. Неинтересные, так сказать, сквозные периоды жизни он пропускает, прибегая к речевым конструкциям «недели две прошло», «месяца три прошло», «прошло так месяца два» и т. п. Соответственно, меняется и ритм повествования – то замедляется, то убыстряется, – в зависимости от восприятия, субъективной оценки рассказчиком значимости в собственной жизни тех или иных событий.
Жанровое содержание повести И. Шмелёва определяет основной конфликт произведения – скрытое, внешне ничем не обнаруживаемое противостояние Скороходова и посетителей ресторана: «Ну, а в залах-то я ничего, в норму, и никакого виду не показываю… У меня результат свой есть, внутри… Всему цену знаю… Вот вам ресторан, и чистые салфетки, и зеркала-с…
Кушайте-с и глядите-с… А моё так при мне и остаётся, тут-с» [с. 241]10. За долгие годы у него выработались определённые жизненные принципы, в соответствии с которыми жизнь его проходит «тихо и незаметно», но взрослеющие дети вносят разлад в его налаженный быт: «Поживали мы тихо и незаметно, и потом вдруг пошло и пошло… Таким ужасным ходом пошло, так завертелось…» [с. 122].
Оказавшись в кризисной ситуации, герой И. Шмелёва сталкивается с необходимостью переосмысления прожитой жизни, переоценки ценностей, изменения отношения к людям, которые его окружают. Больше всего его угнетает нравственное несовершенство людей, отсутствие человечности и взаимопонимания, «насмеяние над душой», унижающее человеческое достоинство.
Изменение мироощущения героя накладывает свой отпечаток на характер его повествования: протест сочетается с примирением; жажда обогащения контролируется высоким нравственным чувством; разочарование в жизни и людях сменяется просветлением и верой. При всей жёсткости скороходовского «суда» над посетителями ресторана (читай: над обществом) И. Шмелёв не теряет чувства художественного такта: Скороходов и в своём «социальном протесте» остаётся «маленьким человеком», обывателем, предел мечтаний которого – собственный домик с душистым горошком, подсолнухами и породистыми курами – лангожанами: «Ах, как я себе в уме представлял обзаведение домиком! И садик бы развёл, берёзок бы насажал, и душистого горошку, и подсолнухов… Чайку-то в своём садике со своей ягодой напиться…» [с. 180].
С разработкой темы «маленького человека» прямо связана мысль о фатальной разобщённости людей из народа и интеллигенции. Поведение Скороходова во многом определяется недоверием и неприязнью к образованным людям. В какой-то мере это обстоятельство сказывается и на его отношении к детям, прежде всего к Николаю. В сущности, именно тема «отцы и дети» образует контур сюжета повести И. Шмелёва. Судьбы детей небезразличны Скороходову, и он по-своему пытается помочь или же не помешать найти им своё место в жизни. Но, как это часто бывает, там, где необходимо проявить такт, выдержку и занять более пассивную позицию, он чрезмерно активен и своей активностью отталкивает от себя сына, а там, где нужно было бы проявить активность и принципиальность, он, напротив, неоправданно пассивен, чем едва не разрушает жизнь дочери. В конечном счёте герою повести удаётся найти взаимопонимание с детьми, но это стоит ему не только полутора лет жизни, но и потери жены – самого близкого ему человека, временной потери работы, без которой он не мыслит своего существования, ссоры с единственным другом и т. п.
В финале произведения в качестве основы жизни человека И. Шмелёв утверждает его нравственную силу, говорит о «внутреннем прозрении», зачастую невидимом окружающим, о поисках высшей Правды, несущей в себе Божественное начало: «…'добрые-то люди имеют внутри себя силу от господа!..» [с. 236]. Авторская позиция проступает сквозь позицию рассказчика, сквозь особенности его мировосприятия и получает своё художественное воплощение через повествовательную форму сказа.
Нельзя не согласиться с современной исследовательницей, что «высшее стилистическое мастерство И. Шмелёва – в воспроизведении разговорной бытовой речи как прямого выражения сознания, мыслей, чувств его персонажей»11. Речь героя-рассказчика повести «Человек из ресторана» звучит во всём её живом многообразии, в его исповеди сплетаются разговорно-просторечные слова, вульгаризмы, канцелярские штампы, жаргонные выражения и профессиональные обороты, носящие характер клише – зачастую искажённые: «Я как начал свою специальность, с мальчишек ещё, так при ней и остался, а не как другие даже очень замечательные господа. Сегодня, поглядишь, он орлом смотрит, во главе стола сидит, шлосганисберг или там шампанское тянет и палец мизинец с перстнем выставил и им знаки подаёт на разговор и в бокальчик гукает, что не разберешь; а другой раз усмотришь его в такой компании, что и голосок-то у него сладкий и тонкий, и сидит-то он с краешку, и голову держит, как цапля, настороже, и всей-то фигурой играет по одному направлению. Видали…» [с. 118]. Ещё раз подчеркнём, что перед нами не просто неграмотность, а искажение, которое объясняется устной редукцией правильных письменно-книжных синтаксических форм.
На редуцировании строится и воспроизведение героем-рассказчиком речи других действующих лиц: происходит как бы наложение речи Скороходова на речь остальных персонажей. При этом ему удаётся более или менее точно передать речь лишь героев своего круга. В этом случае нарушения стилевых норм книжной речи в равной мере принадлежат и герою-рассказчику, и тому, чью речь он воспроизводит: «Чует, – говорит, – моё сердце… Вон у Гайкина-то сына заарестовали…» [с. 140]. Но чем дальше по уровню образования отстоит от героя-рассказчика то или иное действующее лицо, тем приблизительнее передаётся его речь, – то, что он слышит, становится для него трудновоспринимаемым и уж тем более трудновоспроизводимым: «Бегает по комнате, пальцами тычет, кулаком грозит и пошёл про жизнь говорить, и про политику, и про всё. И фамилии у него так и прыгают. И славных и препрославных людей поминает… и печатает. И про историю… Откуда что берётся. Очень много читал книг. И вот как надо, и так вот, и эдак, и вот в чём благородство жизни!» [с. 124].
Символика повести «Человек из ресторана», в свою очередь, свидетельствует о том, что автор, сохраняя дистанцию с героем-рассказчиком, корректирует его восприятие. Символ вводится по схеме двухступенчатого (автор – рассказчик): «И вся-то жизнь – как один ресторан…» [с. 221] – и трёхступенчатого (автор – персонаж – рассказчик) построения: «А как Татьянин день… уж тут-то пятен, пятен всяких и по всем местам… Нравственные пятна! Нравственные, а не матерьяльные, как Колюшка говорил! Пятна высшего значения!..» [с. 129]. И. Шмелёв заботится о том, чтобы сохранялась необходимая для сказа дистанция между рассказчиком и автором: зачастую герой-рассказчик больше понимает, чем умеет сказать. Человек малообразованный, не привыкший к рассуждениям обобщающего порядка, он не всегда в состоянии сделать прямые выводы из своих наблюдений и поэтому вынужден ссылаться на мнение других, более образованных людей, присоединяясь к нему.
Стилевые поиски И. Шмелёва, разумеется, опираются на гоголевскую традицию, но в контексте аналогичных поисков А. Ремизова, Е. Замятина, А. Белого и др. можно предположить, что в начале ХХ века сложились благоприятные условия для развития сказа не только как тенденции речевого стиля, но и как жанровой разновидности. То есть сказовая форма повествования в повести «Человек из ресторана» выступает и как фактор речевого стиля, и как фактор жанрообразующий.
Отход от сказовой формы повествования предопределил обращение И. Шмелёва к другим жанровым разновидностям повести. Среди них безусловно выделяется одно из лучших произведений И. Шмелёва 1910-х годов – повесть-драма «ВОЛЧИЙ ПЕРЕКАТ», сочетающая эпическое повествование и описание с драматическими диалогами12. Здесь, может быть, нагляднее, чем в других произведениях писателя этого периода, проявляется общая особенность его творческой манеры – умение на конкретном бытовом материале ставить нравственно-философские вопросы о смысле жизни, о назначении человека. Здесь все средства художественного изображения – описания быта, пейзажа, широкое использование повторяющейся детали-доминанты, сама форма повествования, – подчинены раскрытию внутреннего мира героев. При этом авторский комментарий практически отсутствует, писатель нигде открыто не высказывает свою точку зрения, не показывает своего отношения к изображаемому. Автора как бы нет: читатель остаётся наедине с героями и событиями.
Использованный в основе композиции повести «Волчий перекат» принцип параллелизма подчёркивает объективность авторской позиции. Писатель строит повествование таким образом, чтобы читатель имел возможность сопоставить образ жизни и мироощущение главных героев повести, а затем самостоятельно, без авторского вмешательства прийти к мысли, к которой, собственно говоря, и сводится содержание повести И. Шмелёва, – о разъединённости между творческой интеллигенцией и простым народом. Писатель не пытается обнаружить истоки этой, по его мнению, трагической для судеб России разъединённости; не склонен он и давать рецепты выхода из кризисной ситуации, чреватой гибельным для общества расколом: И. Шмелёв «пишет Россию», его цель – осмысление быта.
Повесть «Волчий перекат» состоит из трёх глав: в первых двух главах речь идёт, соответственно, о вполне благополучных, хотя и несколько пресыщенных жизнью актёрах-интеллигентах и homo novus – судоходном смотрителе Серёгине. Здесь авторские описания (бытовые зарисовки) чередуются с реплицированным, т. е. состоящем из небольших фраз, диалогом: «Походили по палубе, провожаемые косящими взглядами двух крепышей – штурвальных, в угрюмой сосредоточенности вертевших туда и сюда колесо. Приглядывались, кто едет. Публики не было. На затрубной части, под дымом, посиживали простые люди. «Кажется, мы одни… – сказал баритон. – Да тут всегда так.» – «Я рада, – сказала певица. – Какая милая простота»» [с. 342]; «Прямо с ходу Серёгин осмотрел запасные баканы, кучу ржавых цепей, оглянул реку, привычно выискивая отсветы кос и наносов. «Как на скате?» – «У таей, у долгой, новый перекатец задират…»» [с. 351] и т. п.
В третьей главе преобладает развёрнутый диалог между певицей и Серёгиным, причём реплики Серёгина зачастую даются в форме повествования от третьего лица, органично включающего в себя несобственно-прямую речь, и чередуются с его внутренним (мысленным) монологом, который становится самостоятельной единицей в речевой структуре повести, выполняя роль эмоционального комментария к словам и поведению собеседников: «Он рассказал им, как был под медведем, как взял рысь одними руками – ободрала, шельма, плечо! – как под Архангельском, – там река, господа, какая! вёрсты! – переходил в ледоход. Об этом писали в газетах. Ну, это когда был моложе, конечно. Теперь дорожит жизнью. Зажигал перед ней, перед этой чудесной розовой женщиной, весь жар, который таился в душе. Был счастлив, что она так глядит, – и вдруг стало не по себе: заметил, как она наклонилась к скучному рухляку и что-то шепнула. «А не выпьете ли с нами винца?» – предложил баритон. – «…Во-от! А прилично ли? – подумал Серёгин. – Скажут. Сам напросился… " – «Да? – с улыбкой кивнула ему певица. – Конечно, вы должны выпить/' – «…А какие глаза! Бывают же такие… небесные женщины! Родятся где-то, где-то живут…»» [с. 362].
В целом повествование отличается сжатостью изложения и сдержанностью интонаций, интонационная насыщенность достигается тем, что многие слова в диалогах разделены на слоги: «Не мая-чи-ит! – услыхал в дремоте Серёгин и встряхнулся» [с. 358]. Лаконизма, высокой плотности художественной мысли И. Шмелёв добивается с помощью своеобразных приёмов типизации: социальная принадлежность и душевное состояние героев раскрываются не в развёрнутых жизнеописаниях, а в кратких, но содержательных диалогах и внутренних монологах.
Герои повести «Волчий перекат» – баритон и певица, с одной стороны, а Серёгин, с другой стороны, – олицетворяют собой два мира, два образа жизни. С помощью «подтекстных», синонимичных деталей, выполняющих в описаниях и репликах героев функцию авторского комментария, И. Шмелёв создаёт – и искусно поддерживает на протяжении всего повествования – ощущение «несовпадения» между ними. Это мир больших городов («Петербург, Москва, культура, яркая жизнь…» [с. 346]) и мир простых людей («Деревни кругом, в полях и лесах деревни. Дёготь гонят, скипидар, смолу, корьё дерут, леса валят…» [с. 364]), они как бы находятся в двух параллельных, непересекающихся плоскостях13.
Герои повести хорошо ориентируются только в привычном для себя мире, а о перипетиях жизни вне своего мира имеют лишь приблизительное представление. Автор постоянно акцентирует внимание читателей на том, что актёры н а б л ю д а ю т «живую жизнь» со стороны – с палубы парохода или из окна салона первого класса, описание которого становится своеобразным ключом, дающим представление о мире, в котором они живут: «Было приятно видеть большой светлый салон, в красном дереве, бронзе и коже, свежие скатерти, разноцветный хрусталь, розовые шапки гортензий над серебром, зеркальные, во всю стену, окна, мягкие диваны и пианино…» [с. 344]. Характерно, что окружающий мир также поначалу вызывает у певицы восторг и умиление: «Хорошо и покойно было вокруг. Плыли берега, слоистые от опадавшей за лето воды, в лознячке, уже потерявшие куличков-свистунов, полетевших к югу. Крестами стояли на высоких мысках полосатые мачты с отдыхающими воронами. Еловые гривки падали в пустые луга. Широко сидели по взгорьям деревни. Лениво кружили крестами одинокие ветряки. «Родное, милое… – мечтательно говорила певица. – Какой воздух!»» [с. 342]. Но постепенно ощущение новизны утрачивается и вскоре восторг сменяется разочарованием: «Было пасмурно… Гулко скатывали брёвна где-то, громыхало железо. Толклись крючники, мужики с кнутьями, бабы с пирогами, молодцы с жёлтыми аршинчиками в кармашках, с пачками накладных; степенный, рыжебородый, с намасленными волосами, с картинкой храма на широкой груди, собирающий на недостроенную церковь, и ни одного отдыхающего лица…«Будни…» – показала на всё певица» [с. 344], – жизнь «простых людей» представляется ей скучной, неинтересной, чересчур будничной. Следует отметить, что пейзажные зарисовки и бытовые описания служат главными средствами раскрытия внутреннего мира героев в повести: путём создания созвучных настроению героев картин природы и быта автор освещает тончайшие переливы их чувств и мыслей.
Сознательный отказ от развёрнутых авторских характеристик героев вынуждает писателя прибегать к самым разнообразным способам раскрытия их внутреннего мира, в том числе и к широкому использованию деталей-доминант. Такой доминантной деталью, своеобразным знаком внутреннего мира певицы является пианино. Впервые эта деталь встречается вроде бы случайно, – один из пассажиров (священник), рассказывая актёрам о своей жене, в частности, замечает: ««…у матушки тоже большие способности к музыке и голос звонкий, но только не довелось подучиться: не было фортепьян… Да-с. У вас там музыкальные представления по ночам, и у нас музыка: у-у-у!» – представил он вой волков» [с. 343]. Уже здесь возникает лейтмотив противопоставления двух миров – мира интеллигенции, больших городов и мира простых людей, а пианино воспринимается как знаковая деталь, естественная для одного и излишняя для другого мира.
Дальнейшее развитие и, казалось бы, логическое завершение этот мотив получает в откровенно «рифмующемся» с диалогом актёров со священником эпизоде: певица и баритон с палубы парохода наблюдают, как «на одной пристани, где ничего не было, кроме сарая и леса за ним, выгрузили пианино» (««Кто-то живёт здесь, любит искусство…» – мечтательно сказала певица. Вспомнила батюшку, и забитое в доски пианино показалось ей жалким и лишним здесь» [с. 344]). Но в ходе повествования И. Шмелёв ещё неоднократно использует эту деталь всё с той же целью – показать, как остро певица переживает свой (читай: интеллигенции) разрыв с миром простых людей: «В салоне певица подняла крышку пианино, взяла несколько грустных аккордов, посмотрела в окно и захлопнула. «Какая тоска! "» [с. 346]; «Вся Россия – огромная, серая, а мы в ней… будто какой-то малюсенький придаток… как то пианино у леса» [с. 346–347]; «Она подошла к пианино, открыла крышку, посмотрела на чёрное окно. Задумалась. Постояла и тихо опустила крышку» [с. 366]. И наконец, выражает авторскую точку зрения: «Мы можем петь с вами там, в залах, рядам… а здесь надо что-то другое петь, в этой жути, какую-то страшную симфонию… Она творится здесь, я её чувствую, эту великую симфонию… Мои песенки были бы здесь насмешкой, каким-то писком. Да, да! Сюда надо идти не с подаяньем!.. А когда-нибудь и здесь будут петь… другие…» [с. 367].
Такой же повторяющейся, знаковой деталью, характеризующей внутренний мир Серёгина, становится «жестяная коробочка с крашеной бабочкой наверху», которую он использует как портсигар. Эта коробочка из-под конфет, которыми он угощал Сашу, коробочка, с которой он никогда не расстаётся и которую забывает на столе певицы в салоне первого класса, символизирует однажды обретённую им и навсегда утраченную любовь («Может, и есть-то всего на всей земле для него только одна эта Саша, его судьба, радостное одно за всю жизнь» [с. 354]). Сюжетная линия «Серёгин – Саша» в смысловом контексте повести воспринимается как своеобразный ответ на вопрос певицы: «Мы едем в пустоте, – грустно сказала певица. – Какая бедная жизнь… Всматриваюсь я, думаю… Чем живут эти все здесь… Что у них хоть немножко яркого в жизни? Куда-то идут, бегут, везут, валят брёвна… точно переезжают все и никак не могут устроиться…» [с. 343, 346]. Характерно, что Серёгин так и не решается рассказать певице о Саше («Эх, ей бы сказал, пожалела бы с такими глазами, маленькая…» [с. 366]). А она, в свою очередь, не решается ему спеть: «Что бы я стала петь? Он, вероятно, никогда ничего не слыхал… Но что бы я стала петь ему? «И тихо, и ясно, и пахнет сиренью»? Что-нибудь бодрое? А он послушает и пойдёт в ночь?..» [с. 367], – и жалеет она его («Что она смотрит так?
Ведь она ничего не знает. И понял – жалеет» [с. 366]) не потому, что он потерял Сашу, а потому, что жизнь его представляется ей тяжёлой и однообразной («Пойдёте туда… Господи! – передёрнула она зябкими плечами. – В такую тьму…» [с. 366]). Трагедия в том, что певица судит о жизни Серёгина со своей точки зрения, извне, а узнать его жизнь изнутри ей не дано.
В связи с этим обращает на себя внимание ещё одна деталь: когда Серёгин появляется в салоне первого класса, певица принимает его за инженера («Певица глядела на пассажира: кто он? инженер?..» [с. 349]), но едва он вступает с ней в разговор (««Опасного ничего, сударыня, – подымаясь, сказал он почтительно. – Самый тут стрежень и завороты… Предупреждают…» – «Что?.. я никак не пойму»… – «Сильный пронос тут, очень бурит, сударыня… – сколько мог мягче сказал Серёгин. – Несёт пароход, а стрежень кривой и узкий… фарватер-с… " Она отвернулась к окну: нет, конечно, не инженер» [с. 360]), понимает, что ошиблась, – это человек не её круга. Аналогичным образом Серёгин первоначально судит о своих попутчиках, услышав отдельные фразы из их разговора («…за одну неделю. Пять тысяч дал! …конечно отказался… Лучше заплатить неустойку…» [с. 359]), исходя из представлений своего мира: баритона он принимает за коммерсанта, а певицу – за его содержанку.
Их представления друг о друге лучше всего отражают предельно контрастные портретные характеристики, которые даются, соответственно, в восприятии Серёгина: «…дама была красавица. У ней было нежное, белое, как из воску, лицо, тонкие, яркие губки, тёмные бровки мягкими дужками и чудесные светлые локоны, какие видал он в Архангельске, в лучшей парикмахерской, за окном. А когда увидал глаза – сладко тронуло сердце. Так и подумал – божественные глаза» [с. 359], – и певицы: «И этот, в сапогах, красивый и диковатый, с резко кинутыми бровями, этот детина, крепкий, как брус…» [с. 361].
Довольно продолжительная беседа между певицей и Серёгиным ничего не изменяет в их представлении друг о друге: Серёгин для певицы остаётся «медвежьим человеком», а она для него – «небесной женщиной», женщиной из сказки; создаётся впечатление, что они говорят на разных языках. Речь героев, представленная в форме реплик, диалогов, монологов, развёрнутых рассказов, демонстрирует непреодолимое различие их мировосприятия, культуры и самосознания. Таким образом, диалог в повести «Волчий перекат», наряду с «подтекстными» деталями, становится одним из наиболее универсальных средств воплощения авторского замысла.
Несколько особняком в творчестве И. Шмелёва доэмигрантского периода стоит повесть «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША», написанная возвышенным, поэтическим стилем14, ей трудно дать чёткое жанровое определение. Основная часть повести – описание жизни Ильи Шаронова15, бывшего крепостного человека, талантливого художника-иконописца, рано умершего и забытого всеми, но оставшегося жить в своих работах: «Не понимал Илья, как народу послужить может. А потом понял: послужить работой» [с. 418]. Отчасти повествование стилизовано под житие: кротко и незлобиво, точно святой, прожил Илья свою короткую жизнь, преодолевая искушения (любовь Зойки-цыганки, уговоры Терминелли и Панфила-шорника не возвращаться на родину и др.) и следуя знакам (пророческие сны, видения), ведущим его к исполнению предначертанной судьбы16. Сюжет повести в метафорической форме передаёт идею духовного самоусовершенствования личности, но в отличие от классических произведений житийного жанра писатель избегает поучений и говорит о талантливом художнике без сентиментальности и умиления.
Чётко продумана архитектоника повести: она состоит из пролога, 18 глав и эпилога. Пролог и эпилог дают представление о судьбе живописных работ Ильи.
Лейтмотив пролога – «грустное очарование»; здесь описывается заброшенная усадьба, привлекающая дачников единственной достопримечательностью – портретом в золочёной овальной раме: «Очень молодая женщина в чёрном глухом платье, с чудесными волосами красноватого каштана. На тонком бледном лице большие голубые глаза в радостном блеске: весеннее переливается в них, как новое после грозы небо, – тихий восторг просыпающейся женщины. И порыв, и наивно-детское, чего не назовёшь словом». Рядом церковь и склеп с росписью «ангела смерти, с чёрными крыльями и каменным ликом, перегнувшегося по своду, склонившегося к её надгробию, и белые лилии, слабо проступающие у стен: как живые»; монастырь, на южной стене которого «светлый рыцарь, с глазами-звёздами, на белом коне, поражает копьём Змея в чёрной броне, с головой как у человека – только язычище, зубы и пасть звериные»; и наконец, заброшенная могила Ильи: «В сочной траве лежит обросший бархатной плесенью валун-камень, на котором едва разберешь высеченные знаки…» (с. 400–403])17.
Лейтмотив эпилога – «радостное утешение»; здесь описывается подмонастырная ярмарка в день празднования Рождества Богородицы, главное событие (действо) которой – шествие с иконой «Неупиваемая чаша», вера в её чудодейственную силу более полувека спасает людей от страданий: «Что к Ней влечёт – не скажет никто: не нашли ещё слова сказать внутреннее своё. Чуют только, что радостное нисходит в душу» [с. 451]18.
Центральные главы повести (IX–X) посвящены описанию росписи церкви в Ляпуново – именно в этой работе первоначально Илья видел своё предназначение, к ней готовился, обучаясь мастерству (I–VIII гл.). Но выполненная работа не принесла ему полной радости: «Смотрел Илья, и ещё больше радовалась душа его. И не было полной радости. Знал сокровенно он: нет живого огня, что сладостно опаляет и возносит душу. Перебирал всю работу – и не мог вспомнить, чтобы полыхало сердце». Однако божественное видение («Миг один вскинул Илья глазами – и в страхе и радости несказанной узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опаляющие душу. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зарницей и погасли…») вновь наполнило его душу верой, вернуло ему потерянную радость: «…понял Илья трепетным сердцем, как неистощимо богат он и какую имеет силу. Почуял сердцем, что придёт, должно прийти то, что радостно опаляет душу» [с. 429–430]. В последних восьми главах повести (XI–XVIII) описана история любви, «встречи – невстречи» Ильи и Анастасии, жены его барина19. Любовь и радость синонимичны в повести И. Шмелёва, их смысл читается в отражении красоты, которая понимается как созидающая доброта (Благодать Божья) и открывается в молитве, видении, сне.
Различные оттенки чувства Ильи проявляются в целом ряде эпизодов, насыщенных мягким лиризмом, который буквально обволакивает всё повествование во второй части повести. Среди таких эпизодов выделим сцену в церкви, когда чувство любви к Анастасии у Ильи только зарождается: «Говорила она – пение слышал он. Обращала к нему глаза – сладостная мука томила душу Ильи» [с. 434]; или описание, как влюблённый Илья прячется в кустах у дороги, чтобы посмотреть на проезжающую мимо в открытой коляске Анастасию: «Тихо проползала коляска песками, совсем близко. Даже тёмную родинку видел Илья на шее, даже полуопущенные выгнутые ресницы, даже подымающиеся от дыхания на груди ленты и детские губки. Как божество провожал Илья взглядом поскрипывающую по песку синюю коляску, теряющуюся в соснах» [с. 440].
Особое место в повествовании занимают главы (XV–XVI), в которых рассказывается, как Илья работал над портретом Анастасии и одновременно по ночам писал икону «Неупиваемая чаша»: «Две их было: в чёрном платье, с её лицом и радостно плещущими глазами, трепетная и желанная, – и другая, которая умереть не может» [с. 444]. И наконец, сцена последнего свидания, когда Илья уже не в силах был сдерживать свои чувства: «Закружилось и потемнело у Ильи в глазах, схватил он маленькую её руку, жадно припал губами, пал перед нею, своей царицей, на колени, осыпал безумными поцелуями её заснеженные ноги, плакал…» [с. 445].
Один из важнейших мотивов повести связан с противопоставлением Ильи и окружающих его людей. Лишь немногие из них в состоянии оценить его талант, стремление своим искусством нести людям радость и счастье (Арефий, Терминелли, Анастасия). Для большинства же его поиски высшей Правды и Красоты непонятны, люди суетные, живущие мелкими интересами, они и Илью воспринимают в соответствии со своими (искажёнными необразованностью и бездуховностью) представлениями о мире: «Стали посмеиваться над Ильёй люди, говорили: «Ишь ты, барин! Подольстился к барину – бока налёживает, морду себе нагуливает, марькизь вшивый! Мы тут сто потов спустили, а он по морям катался, картинками занимался»» [с. 426]. Им не дано не только понять по-детски доверчивую душу художника, но и сохранить память о нём…
Категория «духовности – бездуховности» также во многом определяет значение, структуру художественного времени и пространства. Действие повести разворачивается в двух временных пластах: середина XIX века (основная часть), начало XX века (пролог и эпилог) – это внешнее, историческое время. В повествовании оно играет чисто функциональную роль: И. Шмелёву необходимо было показать, что времени не подвластны не только истинные, духовные ценности, но и человеческая пошлость. Именно на этой, иронической ноте заканчивается повествование: дачники, насмотревшись на все достопримечательности Ляпуновки, «идут к Козутопову есть знаменитую солянку и слушать хор…» [с. 452]. Им всё едино: что портрет, что икона, что солянка, – лишь бы были знаменитыми.
Более важную роль в повествовании играет внутреннее, психологическое время: для Ильи оно насыщено духовными поисками, божественным откровением, любовным восторгом, он не только с радостью впитывает в себя всё новое, но и полностью отдаётся творчеству («Небо, земля и море, тоска ночная и боли жизни, всё, чем жил он, – всё влил Илья в этот чудесный облик…» [с. 444]). Главное в том, что его духовный мир постоянно изменяется, совершенствуется; психологическое время большинства окружающих его людей, живущих мелкими, суетными интересами, статично, – их внутренний мир остаётся неизменным.
Художественное пространство повести «Неупиваемая чаша» может быть рассмотрено в двух плоскостях – горизонтальной и вертикальной. В горизонтальной плоскости замкнутому пространству Ляпуновки (шире: России) противопоставлено открытое пространство Европы (Германия, Турция, Италия). В вертикальной плоскости намечается противопоставление «земля (плоть) – небо (дух)». В основе пространственных оппозиций лежат категории «свободы – несвободы»: в России Илья раб, в Италии он свободен. Но как это ни парадоксально, только вернувшись домой (в рабство: «…до тоски тянула душа на родину» [с. 421]), Илья обретает истинную свободу (свободу духа). Таким образом, по И. Шмелёву, истинную свободу человеку даёт только приобщение к духовному началу. Эта мысль лейтмотивом проходит через всё повествование.
In medias res – вопрос о жанровом своеобразии повести «Неупиваемая чаша» остаётся открытым. Откровенная ориентация на духовную литературу, в первую очередь на жанр жития, казалось бы, не оставляет исследователям пространства для поиска жанровых дефиниций. Тем не менее их диапазон неожиданно широк: от «повести-жития», или «житийной поэмы», до «духовной (или православной) повести» (вероятно, по аналогии с духовным (или православным) романом «Пути небесные»). При quasi-многообразии выбора для нас всё же наиболее привлекательным остаётся жанровое определение, нечаянно «оброненное» автором в самом начале повествования: «…оборвалась недосказанная поэма».
Повесть А. Белого «Серебряный голубь» множеством нитей связана с его главным произведением – романом «Петербург». Осваивая эпическую традицию, А. Белый-прозаик аппелирует не к её «среднеарифметическому» стилевому архетипу, а к заведомо узнаваемому и уникальному «чужому слову». Поэтическая система «Серебряного голубя» сознательно сориентирована на прозу Н. Гоголя, И. Тургенева, Ф. Достоевского и других русских писателей XIX века. Взаимоотношения орнаментальной прозы А. Белого с повествовательной нормой определяются идеей затруднённой формы, выразившейся в особом построении громадных по величине и сложнейших по составу предложений, в пристрастии к разнообразным инверсиям («…баба рябая с песней тихой, с песней жалобной» etc.), в необычном употреблении многих знаков препинания и в столь же необычном их отсутствии в необходимых случаях; отсюда формальная двойственность, соединение реального и отражённого: ассоциации, метафоры, метанимия20.
Одной из композиционных особенностей повести «Серебряный голубь» является её двуплановая («символистская») структура: за планом стилизованного быта скрыт план мистический. Основные темы повести, в том числе и главная – судьба России – отражаются в мистическом плане, который несёт основную нагрузку. А. Белый рассматривает Россию как центр борьбы восточных и западных сил: через проекцию на Россию он противопоставляет бессодержательные формы Запада – бесформенному содержанию Востока, голую логику – беспорядочной мистике. Резкое своеобразие стилевой манеры А. Белого: ритмическое начало в прозе, соединение объективных и субъективных ракурсов повествования, метафоризация речи, обилие образных лейтмотивов, разнообразие словесно-речевых систем («литературной», сказовой, стилизованной), прихотливость интонационно-синтаксических рядов и т. д. – приводит к разрушению традиционной формы повести и созданию её новой, «орнаментальной» модификации, принципиальным конструктивным элементом которой становится отчётливое преобладание образа и слова над сюжетом.
Проза Е. Замятина при внешней фабульной размытости остроконфликтна и служит игровым полем для противоборства двух сил – энтропии (равновесия, но не как синонима гармонии, а как синонима косности, инерции) и энергии (разрушения равновесия): «…две силы в мире – энтропия и энергия. Одна – к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая – к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению» [т. 2, с. 110]. Авторские симпатии на стороне энергийно-дионисийского начала: «…вредная литература полезнее полезной: потому что она – антиэнтропийна, она – средство борьбы с обызвествлением, склерозом, корой, мхом, покоем» [т. 2, с. 389]. Но в его произведениях всегда побеждает сила косности и инерции, здесь проявляется не пессимизм Е. Замятина, а его горькая бесконечная ирония («смех из подвала Ф. Достоевского»).
Изображение энтропийного мира лежит в основе не только романа-антиутопии Е. Замятина «Мы», но и произведений различных циклов: «уездного» («Уездное», «Алатырь», «На куличках»), «северного» («Африка», «Север», «Ёла»), «английского» («Островитяне», «Ловец человеков»), «петербургского» («Мамай», «Пещера», «Наводнение»)21. В каждом цикле повестей и рассказов Е. Замятина сконцентрирован его интерес к своеобразию русской ментальности, гротеск, сатира, символика: все они являются частью единого текста, организованного с помощью оппозиции «энергия – энтропия» в «еретический» дискурс, который может быть рассмотрен в русле литературного мифотворчества как инсценировка мифа о еретике или гротескная антитеза этому мифу.
Эстетическая концепция жизни в творчестве И. Шмелёва обусловлена единством двух начал – бытового и бытийного, материального и духовного: быт насыщается бытием. Общая особенность его творческой манеры – умение на конкретном бытовом материале ставить нравственно-философские вопросы о смысле жизни, о назначении человека. В прозе И. Шмелёва все средства художественного изображения (описания быта, пейзажа, широкое использование повторяющейся детали-доминанты, сама форма повествования) подчинены раскрытию внутреннего мира героев. При этом авторский комментарий практически отсутствует, писатель нигде открыто не высказывает свою точку зрения, не показывает своего отношения к изображаемому. Автора как бы нет: читатель остаётся наедине с героями и событиями.
Всё творчество И. Шмелёва пронизано христианским мировидением, но если его ранние, дореволюционные произведения обычно рассматриваются в одном ряду с прозой А. Ремизова, Е. Замятина, М. Пришвина и других писателей-неореалистов, то всё, что им было написано в эмиграции – «Лето Господне», «Богомолье», «Куликово поле», «Няня из Москвы», «Старый Валаам», «Пути небесные» и др., – позволяет говорить об особом качестве его художественного метода, который исследователи предлагают обозначать как «духовный реализм»22. Эволюция творческого метода И. Шмелёва (реализм – неореализм – духовный реализм) сопровождается жанрово-стилевыми поисками писателя. Постоянно обновляется повествовательная манера («почти каждый рассказ его п о ё т и н ы м с т ил е м»23), что, в свою очередь, приводит к созданию различных жанровых модификаций, в том числе жанра повести – «повесть-сказ» («Человек из ресторана»), «повесть-драма» («Волчий перекат»), «повесть-поэма» («Неупиваемая чаша») и др.
Темы для рефератов
1. Оппозиция «Восток – Запад» в повести А. Белого «Серебряный голубь».
2. Теория неореализма Е. Замятина.
3. Оппозиция «энергия – энтропия» в художественном мире Е. Замятина.
4. Еретический дискурс повестей Е. Замятина.
5. Роль лейтмотивной детали в поэтике Е. Замятина.
6. Жанровое своеобразие повести И. Шмелёва «Человек из ресторана».
7. Оппозиция «народ – интеллигенция» в повести И. Шмелёва «Волчий перекат».
8. Оппозиция «духовное – бездуховное» в повести И. Шмелёва «Неупиваемая чаша».
Заключение
Начало нового столетия неминуемо оборачивается подведением итогов. Наука о литературе также пытается дать ответы на оставшиеся открытыми вопросы, среди которых и вопрос о специфике реализма в литературе XX века.
Рубеж XIX–XX веков традиционно воспринимается как пограничный этап в истории реалистического искусства: в это время реалистическая эстетика видоизменяется настолько, что возникает потребность в новом термине, способном отразить логику литературного развития.
Таким термином в 1910-е годы стал «неореализм» (реализм, обогащённый элементами поэтики модернизма), но научного обоснования он не получил и постепенно был искусственно вытеснен из научного обихода, так как многие из писателей-неореалистов в 1920-е годы оказались в вынужденной эмиграции. В сущности, судьба термина «неореализм» – а в литературных энциклопедиях советского периода соответствующая статья или отсутствует, или описывает направление в итальянском искусстве 40—50-х годов XX века – повторяет судьбу многих писателей-эмигрантов, на долгие годы вычеркнутых из истории русской литературы. Процесс его реабилитации растянулся на многие десятилетия: табу на термин «неореализм» было снято лишь в 90-е годы XX века, когда в Россию вернулись произведения таких писателей, как Б. Зайцев, И. Шмелёв, Е. Замятин и др.
Однако реабилитация оказалась не полной, огромный смысловой потенциал термина «неореализм» по-прежнему остаётся невостребованным. Сегодня, как и в 1910-е годы, им обозначают постсимволистское стилевое течение в русской литературе начала XX века, тем самым вырывая творчество писателей-неореалистов из контекста последующей литературной жизни страны, т. е., по сути, не восстанавливая, а прерывая связь времён.
Между тем очевидное стремление современных учёных проследить развитие русской литературы конца XIX – начала XX века в переходах от реализма к неореализму, от символизма к постсимволизму естественным образом приводит к мысли, что открытия порубежной эпохи предопределили характер художественного развития русской литературы на протяжении всего XX столетия. Но эта мысль не находит подтверждения в терминологическом аппарате.
Современная ситуация рубежа тысячелетий обязывает учёных-филологов самоопределиться в отношении ушедшей литературной эпохи. Стремление понять специфику литературного процесса XX столетия всё чаще обозначает предмет современных литературоведческих работ, авторы которых рассматривают литературные явления в типологическом аспекте1.
Создатели многочисленных теорий реализма XX века (реализм «новой волны», новый реализм и т. п.)2 в поисках термина-эвфемизма невольно забывают о том, что «не следует увеличивать количество сущностей» («бритва Оккама»). Элементарная толерантность подсказывает единственно верное с историко-литературной точки зрения решение: расширить область употребления термина «неореализм». Нам представляется, что неореализм следует рассматривать в одном ряду с реализмом и модернизмом, как литературное направление, а не течение. На наш взгляд, неореализм формируется в одно время с модернизмом (последняя четверть XIX века) и развивается параллельно с ним на протяжении всего XX столетия.
В рамках неореализма формируется множество течений, которые отражают жанрово-стилевые поиски русских писателей XX века реалистической ориентации. Их классификация и изучение – предмет отдельного исследования или серии исследований.
Примечания
Введение
1 См.: Келдыш В. Реализм и «неореализм» // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). – М., 2000. Кн. 1. С. 259–334; Давыдова Т. Русский неореализм: Идеология, поэтика, творческая эволюция. – М.: Флинта, 2005.
2 Скороспелова Е., Голубков М. На рубеже тысячелетий: литература ХХ века как предмет научного исследования // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2002. № 2. С. 8
3 Думается, следует воспользоваться простым принципом, известным как «бритва Оккама»: современные исследователи литературного процесса ХХ века вводят в научный оборот такие понятия, как реализм «новой волны» (В. Келдыш) или новый реализм (М. Голубков), – эти термины призваны подчеркнуть новизну реалистической эстетики ХХ столетия по отношению к классическому реализму Х1Х века, дублируя, в сущности, всем хорошо известный термин «неореализм», область применения которого в своё время была неоправданно сужена.
4 Следует различать романтическое стилевое течение в русской неореалистической литературе конца Х1Х века (В. Гаршин, В. Короленко, А. Чехов) и неоромантизм как модернистское течение в различных национальных литературах; в том числе в русской литературе начала ХХ века (А. Грин, А. Чаянов и др.).
5 Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991. С. 138.
6 См.: Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990; Каминский В. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX века. – Л., 1979; Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978 и др.
7 Мы разделяем точку зрения литературоведов, полагающих, что не существует типологически значимых признаков, позволяющих разграничить современные рассказ и новеллу по отношению друг к другу. При дифференциации повествовательных жанров следует различать роман (novel), большую повесть (short novel), маленькую повесть (novella) и рассказ (short story).
Роман является наиболее энциклопедичным литературным жанром: его жанровое содержание определяется единством авторской позиции, которая возникает на основе наблюдений и размышлений писателя над тем, что происходит в современном мире, и реализуется в многосюжетном, многогеройном, подчас многоголосом (полифоническом) повествовании, органично сочетающем в себе различные стилевые пласты. Рассказ можно назвать метонимией жизни: он основывается на случае, понимаемом как некая часть бытия, по которой воссоздаётся целое; а повесть – метафорой жизни: она стремится вобрать в себя мир как целое. Соответственно, рассказ требует ясной цельности видения мира, спокойной сосредоточенности, плавности. Его задача – показать событие, образ, предмет в своей подлинной уникальности: слово здесь подчиняется задачам эмоциональным и изобразительным. Рассудочность рассказу противопоказана: он довольно легко поддаётся однозначной интерпретации.
Повесть гораздо аналитичнее, условнее: она нуждается в истолковании, в интерпретации, и сама провоцирует читателей на взаимоисключающие точки зрения. Пытаясь логически сформулировать её смысл, нужно быть заранее готовым к тому, что он будет неоднозначен, антиномичен. Вероятно, этим в первую очередь и объясняется популярность жанра повести у писателей-неореалистов.
Глава 1
1 См., напр.: Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990; Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991 и др.
В свою очередь, говорится о неоромантических тенденциях в творчестве украинских писателей: О. Кобылянской, М. Коцюбинского, Н. Чернявского, С. Васильченко и др. См.: Денисюк I. Розвиток украшсько! мало! прози XIX – початку XX ст. – Кшв, 1981; Гундорова Т. Неоромантичш тенденцп творчосп О. Кобилянсько! // Радянське лгтературознавство. – 1988. № 11; Гундорова Т., Шумило Н. Тенденцп розвитку художнього мислення (початок XX ст.) // Слово i час. 1993. № 1; Кузнецов Ю. Гмпресюшзм в украшськш проз} кшця XIX – початку XX ст.: Проблеми естетики i поетики. – Кшв, 1995 та ш.
2 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 6.
3 Напр., В. Тюпа полагает, что «в чеховедении принят не очень уместный для этого «объективного» писателя термин «лиризм»». См.: Тюпа В. Художественность чеховского рассказа. – М., 1989. С. 83.
4 Соколова М. Романтические тенденции критического реализма 80 – 90-х годов (В. Гаршин, В. Короленко) // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. Т. 3. С. 62.
5 См.: Московкина И. Проблемы изучения поэтики В. Гаршина в современном советском литературоведении // Вопросы русской литературы. – Львов, 1979. Вып. 2. С. 29–30.
6 См.: Пиксанов Н. Лиризм в творчестве В. Короленко // От Грибоедова до Горького: Из истории русской литературы. – Л., 1979. С. 137–147.
7 См.: Соколова М. Романтические тенденции критического реализма 80 – 90-х годов (В. Гаршин, В. Короленко) // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. T. 3. С. 48–76; Азбукин В., Снопкова С. Элементы романтической поэтики в повести В. Короленко «Без языка» // Романтизм (Теория, история, критика). – Казань, 1976. С. 13–21; Пожилова Л. Соотношение романтизма и реализма в художественном методе А. Чехова и В. Короленко // Русская литература последней трети XIX века. – Казань, 1980. С. 71–80; Синцов Е. Художественное предвидение как основа взаимодействия романтизма и реализма. Проза А. Чехова, В. Гаршина, В. Короленко // Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. С. 100–121.
8 См.: Тюпа В. Художественность чеховского рассказа. – М., 1989. С. 83; Линков В. Художественный мир прозы Чехова. – М., 1982. С. 125; Полоцкая Э. «Первые достоинства прозы…» (От Пушкина к Чехову) / / Связь времён. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала XX в. – М., 1992. С. 116; Гиршман М. Литературное произведение: теория и практика анализа. – М., 1991. С. 147.
1.1.1
1 См.: Михайловский Н. Полное собрание сочинений. – СПб., 1914. T. 10. С. 593; Каминский В. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX века. – Л., 1979. С. 113; Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991. С. 153 и др.
2 См.: Из писем В.М. Гаршина // Гаршин В. Избранное. – М., 1985. С. 335–336.
3 Гаршин В. Избранное. – М.: Правда, 1985. Далее произведения писателя цитируются по этому изданию с указанием страниц.
4 Исследователи неоднократно отмечали, что описание оранжереи строится В. Гаршиным на сопоставлении её с тюрьмой и, при всей лаконичности, ярко эмоционально. См., напр.: Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990. С. 559; Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 110 и др.
5 Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 111.
6 Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990. С. 559.
7 См., напр.: Сквозников В. Реализм и романтика в произведениях В. Гаршина // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1957. T. 16, Вып. 3. С. 244.
8 Слово «гордость» в общенародном языке имеет несколько смысловых значений, которые реализуются или нейтрализуются в речи в зависимости от контекста. Для нас существенны два из них: 1. чувство собственного достоинства, самоуважения; 2. высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе. См.: Ожегов С. Словарь русского языка. – М., 1984. С. 119.
В данном случае реализуется первое из этих значений, во всех остальных случаях – второе.
9 Реализация сюжета в слове – оценочная функция слова – наглядно представлена в репликах директора ботанического сада, которые содержат глаголы лишь в повелительном наклонении (спилить, вырвать, выбросить и т. п.).
10 Об истоках и характере гаршинского пессимизма см.: Бердников Г. Проблема пессимизма. Чехов и Гаршин // Бердников Г. А.П. Чехов: Идейные и творческие искания. – М., 1984. С. 120–147.
11 Златовратский Н. Воспоминания. – М., 1956. С. 313.
12 Алкандров. Жизнь в литературе и литература в жизни // Устои. 1882. № 9—10. С. 43.
13 Художественная генеалогия «Attalea princeps» может быть прослежена от Г. Гейне к М. Лермонтову, которые использовали образ пальмы в качестве символа одиночества и страстного стремления к свободе.
14 В связи с этим, в частности, представляется справедливым и желание А. Латыниной освободить рассказ В. Гаршина от узкого толкования, «поставив его в контекст не злобы дня, но времени и истории». См.: Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 120.
15 Аверинцев С. Символ // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.
16 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 114.
17 Социальная природа героя «гаршинского типа», в котором отразилось «трагико-пессимистическое понимание роли личности в истории», обстоятельно рассмотрена В. Каминским. См.: Каминский В. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX века. – Л., 1979. С. 116.
18 См.: Сикорский И. «Красный цветок» В. Гаршина // Памяти В.М. Гаршина. – СПб., 1889; Баженов Н. Душевная драма Гаршина // Русская мысль. 1903. № 1.
19 См.: Фаусек В. Воспоминания // Гаршин В.М. Полн. собр. соч. – СПб., 1910. С. 28–73; Бибиков В. Всеволод Гаршин // Всемирная иллюстрация. 1888. № 17 и др.
20 Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 153.
21 Бердников Г. Проблема пессимизма. Чехов и Гаршин // Г. Бердников А.П. Чехов: Идейные и творческие искания. – М., 1984. С. 141.
22 Поэтика В. Гаршина: Учеб. пособие / Ю. Милюков, П. Генри, Э. Ярвуд, С. Кошелев. – Челябинск, 1990. С. 15.
23 См., напр., характеристику Христа в «Антихристианине» Ф. Ницше, которая, по мнению большинства исследователей, восходит к роману Ф. Достоевского «Идиот»: «…мы могли бы назвать Иисуса «вольнодумцем»: ведь для него всё прочное, устойчивое – ничто; это, по сути дела, знание «чистого простеца»» (см.: Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. – М., 1989. С. 50). На сходство некоторых героев Ф. Достоевского и В. Гаршина впервые в отечественном литературоведении обратил внимание Ф. Евнин. См.: Евнин Ф. Ф. Достоевский и В. Гаршин // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1962. T. 21, Вып. 4.
24 Это один из наиболее распространённых повествовательных приёмов В. Гаршина. Ср. фрагмент из четвёртой главы рассказа: «Больной ходил то с одним товарищем, то с другим и к концу дня ещё более убедился, что «всё готово», как он сказал сам себе. Скоро, скоро распадутся железные решётки, все эти заточённые выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнётся, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте» [с. 204]. Отметим также, что в этом контексте описание больницы ассоциируется у читателей с замкнутым пространством, с тюрьмой (высокая ограда, железные решётки на окнах) и вводит в повествование связанный с ключевой для рассказа идеей обновления мира лирико-романтический мотив борьбы с несправедливостью.
25 Можно предположить, что в слове «Ариман» В. Гаршина привлекла внешняя форма – его созвучие со словосочетанием «красный мак».
26 С этим описанием перекликается и гаршинская метафора: «точно два красных уголька» горят в траве алые маки [с. 205].
27 Напр.: «…тонкость психологического анализа противоречивых душевных движений оказывается у В. Гаршина подменённой несколько механическим сопоставлением и противопоставлением разных голосов, борющихся в душе героя». См.: Латынина А. Всеволод Гаршин: Творчество и судьба. – М., 1986. С. 132.
28 Впервые в русской литературе образ разуверившегося в жизни человека, с которым накануне самоубийства происходит нравственный переворот, создал Ф. Достоевский в рассказе «Сон смешного человека», послужившем сюжетной основой «Ночи» В. Гаршина, на что в своё время указал Ф. Евнин. См.: Евнин Ф. Ф. Достоевский и В. Гаршин // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1962. T. 21. Вып. 4.
29 На это различие указывает М. Соколова. См.: Соколова М. Романтические тенденции критического реализма 80—90-х годов (В. Гаршин, B. Короленко) // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. Т. 3. С. 62.
30 Напр.: «…единичный жизненный факт, поразивший его, никак не мог быть выделен его сознанием из общего строя жизни, именно только такие факты жизни и потрясали его нервы и завладевали всей его духовной деятельностью». См.: Успенский Г. Полн. собр. соч. – М., 1952. T.11. С. 584.
31 См., напр.: Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990. С. 563; Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 201–204 и др.
32 Ср. описание пейзажа в финале рассказа «Attalea princeps», где экспрессивная доминанта, выражающая разочарование героини, образуется в результате нагнетания контекстуально-синонимических эпитетов: грязный, нищий, скучный и т. п. Нейтрализуя элементы романтической символики в изображении гуманистических и свободолюбивых стремлений героини, они сводят смысл рассказа к «удивлению свободой».
33 Лирический план рассказа «Ночь» наряду с евангельскими реминисценциями включает и другие литературные реминисценции морально-сентенциозного характера (притча о мошеннике, живущем в долг под несуществующее богатство; легенда о гордиевом узле; мольба Фауста etc).
34 Тургенев И. Полн. собр. соч. и писем. – Л., 1968. T. 13. С. 27.
35 Синцов Е. Проза А.П. Чехова, В.М. Гаршина, В.Г. Короленко // Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. C. 103.
1.1.2
1 Пиксанов Н. Лиризм в творчестве В. Короленко // От Грибоедова до Горького: Из истории русской литературы. – Л., 1979. С. 140.
2 Короленко В. Избранное. – М., 1987. Далее произведения писателя цитируются по этому изданию с указанием страниц.
3 Не случайно они сразу же вызвали профессиональные исследования специалистов-психологов. См., напр.: Щербина А. «Слепой музыкант» Короленко как попытка зрячих проникнуть в психологию слепых в свете моих собственных наблюдений. – М., 1916 и др.
4 См., напр.: Московкина И. Природа конфликта и типология малых жанров в творчестве В. Короленко // Вопросы русской литературы. – Львов, 1984. Вып. 1. С. 74; Синцов Е. Художественное предвидение как основа взаимодействия романтизма и реализма: Проза А.П. Чехова, В.М. Гаршина, В.Г. Короленко // Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. С. 105 и др.
5 Стремление человека к счастью, к свету позднее более остро прозвучит в рассказе «Парадокс» в виде формулы: «Человек создан для счастья, как птица для полёта» [с. 145].
6 Любопытно, что незадолго до В. Короленко аналогичную попытку показать соответствие между звуковыми, цветовыми и эмоциональными ассоциациями сделал известный французский поэт Артюр Рембо в знаменитом сонете «Гласные» (1871).
7 См.: Каминский В. Романтика поисков в творчестве В. Короленко: К вопросу о своеобразии реализма «переходного периода» // Русская литература. 1967. № 4. С. 90.
8 На отсутствие любовной интриги как одну из особенностей сюжетики произведений В. Короленко указывал ещё В. Сквозников. См.: Сквозников В. Реализм и романтика в произведениях В. Гаршина // Известия АН СССР. Отделение лит. и языка. – М., 1957. T. 16. Вып. 3. С. 238.
9 Традиционно эпилог определяется как сюжетно самостоятельный компонент, следующий за развязкой и переносящий действие в иное время и чаще всего в иное пространство. См.: Левитан Л., Цилевич Л. Сюжет в художественной системе литературного произведения. – Рига, 1990. С. 301.
10 Хализев В. Функция случая в литературных сюжетах // Литературный процесс. – М., 1981. С. 192.
11 Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991. С. 162.
12 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 135.
13 Гиршман М. Изучение диалектики общего и индивидуального в стиле // Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. – М., 1982. С. 43.
14 На своеобразный эмоционально-музыкальный ритм повествования в произведениях В. Короленко обращали внимание многие исследователи его творчества. См., напр.: Соколова М. Романтические тенденции критического реализма 80—90-х годов (Гаршин, Короленко) // Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1974. T. 3. С. 62–73.
15 Жирмунский В. Теория стиха. – Л., 1975. С. 579.
16 Гусев В. Закономерности развития русской литературы последней трети XIX века. – Днепропетровск, 1991. С. 164.
17 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 135.
18 Лихачёв Д. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 76.
19 См., напр.: Пожилова Л. Соотношение романтизма и реализма в художественном методе А. Чехова и В. Короленко // Русская литература последней трети XIX века. – Казань, 1980. С. 75; Московкина И. Природа конфликта и типология малых жанров в творчестве В. Короленко // Вопросы русской литературы. – Львов, 1984. Вып. 1. С. 74.
20 Синцов Е. Художественное предвидение как основа взаимодействия романтизма и реализма. Проза А.П. Чехова, В.М. Гаршина, В.Г. Короленко // Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. С. 106.
21 Маевская Т. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – Киев, 1978. С. 185.
22 Пожилова Л. Соотношение романтизма и реализма в художественном методе А. Чехова и В. Короленко // Русская литература последней трети XIX века. – Казань, 1980. С. 75.
23 Короленко В. Собрание сочинений: В 10 т. – М., 1956. T. 10. С. 486–487.
24 См. об этом: Основин В. «Огоньки» Короленко (Из наблюдений над творческой историей и художественным своеобразием) //Русская литература XX в. Дооктябрьский период. – Тула, 1974. Вып. 5. С. 37–46.