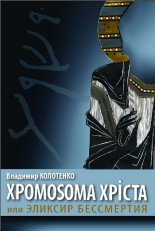Неореализм. Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX – начала XX века Тузкова Инна

Соответственно, повествование включает в себя два контрастных эмоционально-стилистических плана, характеризующих душевное состояние героя-рассказчика в разные периоды жизни: чувство свободы до женитьбы и после разрыва с женой наполняет его «жгучим, неизъяснимо прекрасным, могучим и смелым наслаждением жизни» (гл. I—2, 7–8), а женитьба и связанное с ней ощущение несвободы вызывает в нём «чувство озлобленного протеста» (гл. 3–6). Двуплановостъ повествования реализуется на всех уровнях жанрово-стилевой структуры произведения. Первый повествовательный план отличается в целом несвойственной для М. Арцыбашева поэтичностью. Описывая любовные свидания со своей будущей женой, рассказчик не может сдержать переполняющего его восторга: «Внутри меня всё пело и тянулось куда-то с неодолимой живой силой. Мне хотелось взмахнуть руками, закричать, ударить всей грудью о землю, и казалось странным и смешным уступать дорогу встречным поездам с их мёртвыми огненными глазами, грохотом и свистом…» [с. 99]. Но ощущения героя здесь раскрываются не столько в его внутренних монологах и диалогах (их больше во второй части произведения, где рассказчик анализирует перемены, произошедшие в его жизни после женитьбы), сколько в портретных и пейзажных описаниях, которые, по сути своей, импрессионистичны: во главе угла не внешность героев и не картины природы сами по себе, а характер их восприятия.
Особенно велика в повести М. Арцыбашева роль природы, которая изображается всесторонне, в неисчерпаемом богатстве красок, запахов, звуков. Пейзажные зарисовки у М. Арцыбашева служат одним из главных средств раскрытия внутреннего мира героя. Создавая созвучные настроению героя картины природы, автор передаёт различные нюансы его чувств и переживаний. Чрезвычайно показательны в этом отношении контрастные описания из 1-й и 6-й глав повести: «Трава была мокрая и брызгала холодной, приятной росой на голое тело, странно теплевшее в прохладном и влажном воздухе. Как будто на всю рощу разносились торжествующие удары наших сердец, но нам казалось, что во всём необъятно-громадном мире нет никого, кроме нас, и никто не может прийти помешать нам среди этих сдвинувшихся берёзок, ночных теней, влажной травы и одуряющего запаха сырого, глубокого леса. Время шло где-то вне, и всё было наполнено одним жгучим, неизъяснимо прекрасным, могучим и смелым наслаждением жизнью…» [с. 98], – герои пока ещё свободны, их чувства ничем не скованы, а любовь-страсть даёт им ощущение полноты жизни. С этим описанием соотносится пейзажная зарисовка из второй части повести: со смутной надеждой вернуть утраченную полноту ощущений герои приходят на место своих прежних свиданий, но они любят друг друга уже «новой, спокойной, неинтересной любовью собственника, в которой больше потребности и привязанности, чем страсти и силы»: «Трава уже завяла, и на ней толстым, мягко и тихо шуршащим слоем лежали опавшие листья. Берёзки наполовину осыпались и от того будто раздвинулись и поредели; стало пусто, и вверху просвечивало пустое, холодное небо. Мы сели на насыпь, смотрели на тихо и беззвучно кружащиеся между берёзками жёлтые листья, долго молчали, не двигаясь, и тихо поцеловались… Становилось холодно и неуютно. Стал накрапывать дождь. Мы пошли назад, не оглядываясь, и нам было больно и хотелось плакать о чём-то похороненном» [с. 101]. Таким образом, картины природы в повести М. Арцыбашева наполнены глубоким лирико-философским смыслом: за внешне простыми пейзажными зарисовками – размышления автора о силе жизни, о праве людей на счастье, радость и красоту.
Второй повествовательный план повести М. Арцыбашева «Жена» в целом отличается большей сжатостью изложения, большей сдержанностью интонаций и более высокой плотностью художественной мысли. Лаконизм здесь достигается своеобразным сочетанием приёмов психологического и социологического анализа, используется и приём реалистической символики. Примечательно в этом отношении, что герои повести не имеют имён: они как бы олицетворяют собой абстрактную, среднестатистическую семью. Поэтика названия повести, за реальным содержанием которого скрывается и другой, символический смысл, – намёк на барьер отчуждения, возникающий во взаимоотношениях даже самых близких людей, – придаёт изображаемому явлению широкий обобщающий характер: «…слияние между людьми невозможно. Оно было невозможно всегда, но чем дальше, чем больше усложняется душа человека, тем слияние невозможнее… Мы можем временно соединяться для общего дела, но вне его всё-таки остаёмся чужими и враждебными. Человек не нарушает интересов другого только тогда, когда отдаёт своё, т. е. нарушает интересы свои»8. Об этом долго в кратких, но содержательных внутренних монологах и диалогах размышляет герой М. Арцыбашева, прежде чем приходит к выводу, что «все люди, не одна жена, по какому-то праву хотят подчинить его мысли своим, заставить его верить и чувствовать так, как верят и чувствуют они» [с. 109]. Вывод этот ставит его в один ряд с Саниным, наиболее цельным и энергичным из героев-индивидуалистов М. Арцыбашева.
Прямым антагонистом Санина предстаёт главный герой повести «СМЕРТЬ ЛАНДЕ», выражающий идею религиозного подвижничества. Эта повесть стоит несколько особняком в творчестве М. Арцыбашева, – на первый взгляд даже может показаться, что она в определённой мере созвучна идеям толстовства9. Однако на самом деле и здесь М. Арцыбашев остаётся верен идеалам индивидуализма, а «толстовец» Ланде нужен ему лишь для того, чтобы доказать правоту, превосходство «саниных», так сказать, от противного.
Смысловой доминантой повести «Смерть Ланде» является попытка проиллюстрировать несостоятельность толстовской концепции непротивления злу насилием. Этой цели служат все основные компоненты художественной структуры произведения и прежде всего композиция: в центре повествования находится Ланде, а остальные герои интересуют автора лишь с точки зрения того, насколько они подвержены его влиянию, и лишь до тех пор, пока их судьбы связаны с его судьбой. Соответственно, в ходе повествования автор постоянно даёт Ланде возможность и словом, и делом утвердить свои взгляды на жизнь: «Не надо вражду встречать враждою! – говорил Ланде, блестя глазами, как будто не думая о том, что говорит, точно и не говорил, а пел, выливая песню прямо из сердца – этим она побеждается! И никогда не чувствуется такой радости, такой лёгкости, такого удовлетворения, как тогда, когда вы побеждаете вражду в себе, не отвечая ею на чужую вражду!..» [с. 135], – и показывает, как постепенно меняется к нему отношение других героев, не понимающих и не принимающих его образ мысли.
Действие повести М. Арцыбашева происходит в течение полугода – с конца весны (студент-математик Иван Ланде приезжает в родной город на каникулы) до середины осени (Ланде, получив письмо от находящегося в отчаянии Семёнова и не найдя денег, решает отправиться к нему пешком, но, простудившись, умирает в лесу). Все события излагаются от третьего лица, но повествование дробится на фрагменты и ведётся с позиции одного из героев, – чаще всего Ланде, иногда Молочаева (гл. 12), Марьи Николаевны (гл. 13) или кого-нибудь другого. Такое «самоустранение» автора, с одной стороны, способствует тому, что в структуре повествования заметную роль играют импрессионистические принципы изображения действительности: отсутствие структурной иерархии в подаче фактов; преобладание субъективных мимолётных впечатлений; звукопись, цветопись, светотень; фрагментарность, лаконизм, недосказанность; косвенный, уклончивый стиль повествования и др.10, а с другой стороны, создаёт ощущение объективности изображения, поскольку поведение Ланде оценивается не с авторской точки зрения, а с позиции других героев произведения.
В экспозиции (гл. I и 2) практически все герои повести, за исключением, может быть, Молочаева, относятся к Ланде с симпатией, хотя и считают его «блаженным»: «Все радостно и оживлённо пожимали его худую руку…» [с. 118]. Однако затем странное поведение Ланде, его всепрощение и последовательная реализация идеи непротивления злу, несмотря на свою истинно христианскую красоту, начинают вызывать у близких ему людей раздражение и озлобление (мать: «Она встала и ушла от него с холодной и тупой злобой в душе, хлопнув дверью» [с. 208]; Марья Николаевна: «Ради бога, оставьте меня! Может, я дурная, гадкая, но вы меня мучите. Я не могу, я вас ненавижу, вы мне противны… как гадина!» [с. 197]; Шишмарёв: «Чёрт с тобой, болван… блаженный! – с мучительным ему самому озлоблением бормотал он» [с. 191]; Ткачёв: ««Юродивый, несчастный» – с лютой злобой прошептал он» [с. 200]; Семёнов: «Оставь меня пожалуйста, в покое! Я умираю, и мне не до тебя…» [с. 202] и др.). К концу повествования Ланде остаётся в одиночестве, от него все отворачиваются: «Жизнь Ланде становилась всё более одинокой, и в этом чудилось что-то неизбежное… В последние дни он постоянно был один» [с. 202].
Трагизм жизни Ланде состоит в том, что он на всё смотрит сквозь розовые очки «жизни внутри человека»: «Правда в самом человеке, – скорбно сказал Ланде… – Надо любить и жалеть прежде всего друг друга, а остальное потом всё будет» [с. 216]. Действующий с жестокой необходимостью как в природе, так и в человеческом обществе закон борьбы за существование кажется ему совершенно ненужным, вредным: «Мне представляется, что люди в погоне за счастьем толпятся у какой-то двери, как толпа во время пожара. Каждому кажется, что спасение в том, чтоб силой, как можно скорее, раньше всех пробиться к выходу, и в страшной давке все гибнут!» [с. 185]. Однако сознательное пренебрежение биологическими законами, отказ от борьбы – по мысли М. Арцыбашева – с неумолимой необходимостью ведёт к самоуничтожению, вымиранию. Так что трагическая смерть Ланде в финале повести парадоксальным образом воспринимается как победа жизни, но жизни в «санинском» смысле11.
Оставаясь и в этой повести на позициях натурализма, М. Арцыбашев большое внимание уделяет биологическому началу в человеке. Этот мотив связан прежде всего с образами Молочаева и Марьи Николаевны. Их влечение друг к другу происходит лишь на физиологическом уровне: «Молочаев тихо протянул руку, скользнул по вздрогнувшему мягкому телу и обнял его, тонкое, нежное, жгучее и бессильное. Она медленно закинула голову, так что невидимые, мягкие волосы упали на плечи и на руку Молочаева. В сумраке мутно и близко-близко блеснули полузакрытые глаза и задрожали влажные горячие губы. И казалось, неодолимая сила слила их в одно и нет между ними ничего, кроме бесконечного, сладкого и мучительно-трепетного желания» [с. 172]. Но хотя Марья Николаевна понимает, что её связывает с Молочаевым исключительно «физиологическое любопытство», ей трудно сопротивляться животным инстинктам: «Она вспоминала Молочаева, и он представлялся ей грубо-красивым, отталкивающе-разнузданным зверем. Это было страшно интересно, хотя, казалось ей, только гадко. Она думала о нём с отвращением и страхом, в которых было томительное любопытство, раздувавшее ноздри, подымавшее и напрягавшее грудь, расширявшее страстные глаза» [с. 183]. В свою очередь, Молочаева раздражает её «дикая боязнь и любопытное желание», он живёт инстинктами и даже не пытается их сдерживать: «Всё существо его знало, что она хочет так же, как и он, и только боится, дразнит, упрямится. И жгучее желание смешалось с внезапной сладострастной ненавистью, жаждой грубого насилия, бесконечного унижения и бесстыдной боли…» [с. 172–173]. Из героев этой повести М. Арцыбашева, пожалуй, именно Молочаев наиболее близок к санинскому типу, олицетворяющему жизненный идеал писателя.
Борис Зайцев – «поэт прозы»: его повествование проникнуто мягким, грустным лиризмом. Мироощущение Б. Зайцева глубоко религиозно, всем своим творчеством он утверждает идеалы милосердия, добра, всепрощения. Религия Б. Зайцева космогонична: зайцевская космогония – а в его прозе присутствует не только религия Космоса, но и поэзия Космоса – находит выход в чувстве христианского примирения с миром. Своеобразие художественного метода Б. Зайцева («камерный реализм») во многом определяется тем, что его повествовательный стиль тяготеет к импрессионизму. Черты импрессионизма присутствуют практически во всех произведениях Б. Зайцева дореволюционного периода, но наиболее существенное влияние поэтика импрессионизма оказала на жанровости-левую структуру повести «Голубая звезда», которую можно считать своеобразным ключом к пониманию ранней прозы писателя.
Её основная идея связана с лирико-философской концепцией всеобъемлющей пантеистической любви, носителем которой является главный герой повести – Христофоров, вызывающий множество ассоциаций: от Евангелия («новый Христос») до Ф. Достоевского (князь Мышкин). Личностное переживание Космоса и себя как его части приводит героя Б. Зайцева к принятию жизни такой, какова она есть. В целом вся система художественно-изобразительных средств в повести «Голубая звезда» направлена на то, чтобы запечатлеть сиюминутное настроение или мгновенные оттенки субъективного восприятия героя. Стиль повествования отрывочен, подчёркнуто лаконичен, широко включает красочные эпитеты, нередко выражающие синкретизм ощущений. Писатель сознательно отказывается от присущих классическому реализму обстоятельных описаний: его стилистическую манеру отличает предельная экономия языковых средств, краткость, сгущенность, свежесть повествования. Совмещая в себе черты лирической прозы и поэтики романа, повесть «Голубая звезда», подобно импрессионистической живописи, воздействует на читателя суггестивно: в жанровом отношении она приближается к «камерному роману» – романизируется.
Проза А. Куприна совмещает в себе интерес писателя ко всякого рода физио-, психо-и социопатологии со светлым мироощущением: трагические финалы многих его произведений («Олеся», «Поединок», «Суламифь», «Гранатовый браслет» и др.) парадоксальным образом не оставляют по прочтении тягостного впечатления. Редкое исключение в этом ряду – повесть «Яма»: попытка правдиво рассказать о жизни публичных домов. В её основе лежит «экзистенциальная ситуация: человек, летящий в пропасть; человеческая жизнь – ничто перед невидимым и непреодолимым не-что»12. Символико-метафорический контекст повествования (яма – знак низости, нравственного падения не только женщин-проституток, но и мужчин, буднично покупающих их любовь) порождает мифо-литературный дискурс, восходящий к мифологическому представлению о жизни как поэтапному нисхождению к смерти. Все герои А. Куприна – и жертвы (женщины-проститутки), и обвиняемые («порядочные люди») – проходят путь утраты иллюзий, связанных с надеждой изменить жизнь. Но если для первых, воплощающих идеал писателя («светлая детскость»), знаком гибели (нравственной и физической) становится поступок: Женька (болезнь – месть – самоубийство), Любка (уход из публичного дома – возвращение обратно), Тамара (монастырь – публичный дом – тюрьма); то для вторых, олицетворяющих мир лжи и лицемерия, – это неспособность к поступку: Платонов (разговор со студентами о проституции – они покупают женщин-проституток; беседа с Женькой – её самоубийство), Лихонин («социальный эксперимент» – возвращение Любки в публичный дом), певица Ровинская и адвокат Рязанов (обещание помощи Женьке и Тамаре – смерть Женьки, арест Тамары). Иллюзорная надежда на обновление мира сохраняется лишь в авторском посвящении повести юношеству и матерям, но оно, – не снимая постановку проблемы «человек в бездне бытия», – воспринимается лишь как импрессионистическая составляющая магии А. Куприна. Жанровая структура повести «Яма» включает в себя некоторые признаки романа: большой объём, многособытийность, многогеройность etc.
Лучшие произведения М. Арцыбашева объединяет протест против социального насилия: писатель последовательно отстаивает право каждого человека быть самим собой. Здесь нерв всего творчества М. Арцыбашева: выстраивая парадигму («встреча невстреча») взаимоотношений героев, он постоянно ведёт мелодию и контрмелодию. Больше всего его тревожит внутренняя ущербность, дефектность, которая, подобно болезни, развивается в человеке с годами, мешая разорвать одиночество, преодолеть отчуждение, сохранив вместе с тем необходимое пространство духовной автономии. Личность – по М. Арцыбашеву – утверждает себя не «центробежно», а «центростремительно»: верность своему «я» не разъединяет, а, напротив, объединяет людей, позволяет надеяться на торжество общезначимых этических ценностей.
Неореалистическая природа прозы М. Арцыбашева очевидна: с одной стороны, на его поэтику несомненное влияние оказала теория и практика натурализма (фактографичность, отсутствие запретных тем, объективность повествования, физиологизм и др.), а с другой – М. Арцыбашев широко использует импрессионистические приёмы изображения действительности (отсутствие структурной иерархии в подаче фактов, преобладание мимолётных впечатлений, фрагментарность, лаконизм, недосказанность). Краткие, малосодержательные, «скучные» заглавия повестей М. Арцыбашева – «Ужас», «Бунт», «Жена» и т. п. – в свою очередь, воспринимаются как дань импрессионизму13. Жанровая специфика произведений М. Арцыбашева прямо соотносится с его художественным методом: повести писателя представляют собой соединение психологического этюда с социологическим очерком.
Темы для рефератов
1. Место повести в системе эпических жанров.
2. Черты импрессионизма в прозе Б. Зайцева.
3. Мифологический дискурс в повести А. Куприна «Яма».
4. Специфика художественного метода М. Арцыбашева.
5. Жанровое своеобразие и типология героев прозы М. Арцыбашева.
2.2
Экзистенциальная парадигма: М. Горький – Л. Андреев – В. Брюсов
2.2.1. «А был ли мальчик?» – Максим Горький
«Городок Окуров»
Сложность любого обращения к М. Горькому в наше время обусловлена резким падением читательского интереса к его творчеству вследствие лавинообразного появления поверхностно-панегирических работ в литературоведении 50—70-х годов ХХ века. Тиражированное суесловие создало своеобразную лжетрадицию восприятия М. Горького как «великого пролетарского писателя», «основоположника литературы социалистического реализма», «инициатора создания и первого председателя правления Союза писателей СССР». Декларативные панегирики в его адрес на фоне замалчиваемых моментов биографии («секрет Полишинеля») были не просто уязвимыми, малоубедительными, но и вызывали обратный предполагаемому эффект скрытой неприязни к плакатно-упрощённому образу писателя. В результате за последнюю четверть ХХ века выросло несколько поколений потенциальных читателей, для которых М. Горький оказался скучен или даже чужд.
Пожалуй, без особого риска вызвать упрёк в необъективности можно предположить, что М. Горького сегодня читают, за редким исключением, только специалисты: горьковский канон, включающий с незначительными вариациями несколько ранних произведений, автобиографическую прозу и портреты-воспоминания («Лев Толстой», «Леонид Андреев»), в научных исследованиях расширяется главным образом за счёт пьесы «На дне», повести «Мать», романа «Жизнь Клима Самгина» и публицистики1. Но подход к освещению творчества М. Горького в литературоведении во многом зависит от взгляда на официальную, близкую к лубочной, биографию писателя.
Для одних исследователей М. Горький – подлинно трагическая фигура нашей послеоктябрьской истории, человек, пытавшийся в рамках сложившегося режима выстраивать более разумную, гуманистическую модель развития культуры; для других – апологет сталинской политики, олицетворение «материализованной бесовщины», поездками на Соловки и Беломорский канал, статьями-лозунгами «Если враг не сдаётся, его уничтожают» (1930) и т. п., с высоты своего огромного авторитета благословивший «большой террор». Соответственно, первые заявляют о назревшей необходимости предложить целостную концепцию творчества писателя («Но она должна быть по-новому целостна…»), а вторые приходят «к отрицанию или почти отрицанию каких бы то ни было ценностей в его наследии»2.
Особенно остро это размежевание – не только среди филологов, но и в окололитературной среде – обозначилось в последнее десятилетие XX века, когда широкому читателю стали доступны книги А. Солженицына, воспоминания В. Ходасевича, Е. Кусковой, Н. Вольского и других представителей русского зарубежья, а также после публикации на страницах популярных изданий ряда сенсационно-разоблачительных материалов об обстоятельствах последних лет жизни и смерти М. Горького3. Свой вклад в развенчание «мифа о Горьком» внесло и телевидение4.
Чрезмерная политизированность современного общества способствовала созданию специфического контекста вокруг личности и творчества М. Горького: в период очередного fin de siecle в центре внимания исследователей оказалась – несомненно существенная, но не главная – проблема отношений писателя с властью5, в то время как его творчество оставалось в тени. Быть может, поэтому в пылу полемики («А был ли мальчик?») всё чаще стали высказываться для многих странные суждения о Горьком как о художнике заурядном6, а то и откровенно парадоксальные тезисы: «Настоящий Горький – в его публицистике и переписке: они намного интереснее всего – или почти всего, – что он написал… в художественном плане»7. Оценка такого рода высказываниям дана в горьковедении рубежа XX–XXI вв.: «Современная критическая мысль утратила общемировоззренческие ориентиры в подходе к анализу наследия Горького…»8.
В лучших работах последнего десятилетия осуществляются новые подходы к творчеству М. Горького, пересматриваются традиционные представления, – исследователи стремятся «открыть иного, нового Горького, писателя, с которым можно и даже нужно спорить, но вместе с тем писателя с правом на уважение»9. Именно эти работы стали ориентиром для нашего исследования.
Жанр повести был органичен для М. Горького10. Обращение к повести у него совпало с увлечением марксизмом и сближением с теоретиками «богостроительства» – А. Богдановым, А. Луначарским, В. Базаровым. Их идеи составили основу повестей М. Горького «Мать», «Исповедь», «Жизнь ненужного человека» и др., получивших неоднозначную оценку в критике 1900-х годов. Набатом в полемике прозвучала мысль о «конце Горького», спровоцировавшая нескончаемую дискуссию, смысл которой в общих чертах сводился к резкому противопоставлению Горького-публициста, сохраняющего тенденциозную заданность мысли, и Горького-художника, демонстрирующего значительно более широкий и свободный взгляд на действительность. Об эволюции Горького-мыслителя, художника и публициста, о философской проблематике его произведений существует обширная литература11. Общий вывод таков:
– на протяжении всего творчества М. Горький исповедовал urbi et orbi (городу и миру) свою приверженность ницшеанско-экзистенциалистским идеям, при этом в русской философии – пусть со сложными чувствами и оговорками – выделял фигуры: В. Розанова и Н. Фёдорова;
– по М. Горькому, «евразийское» положение России обусловило роковую «двойственность» русского человека, химерическое сращение в нём «Запада» и «Востока»: «У нас, русских, две души: одна – от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя… а рядом с этой бессильной душою живёт душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая…»12;
– изначальная «патология души» («патология культуры») русского народа ставит его перед экзистенциальной проблемой выбора: необходимостью акта самоотречения, который, согласно М. Горькому, должен быть совершён в пользу Запада: «Отношение человека к деянию – вот что определяет его культурное значение, его ценность на земле» 13;
– в горьковском миропонимании розаново-фёдоровское активное христианство с их призывом к действию преобразуется в культ индустриального покорения природы, в человеко-божеский прометеизм: русские марксисты – А. Луначарский, А. Богданов, В. Базаров и Горький в том числе – отвергали христианского Бога как иллюзорное средоточие человеческой мечты о всемогуществе, ставя на его место «титанически гордого Человека»; прометеизм, культ «Человека с большой буквы», в творчестве М. Горького оборачивается своеобразным иносказанием для индустриальной «вестернизации» России.
Поиск Человека – метаметафора в творчестве М. Горького. В связи с этим следует указать на одну из основных художественных оппозиций у М. Горького: через всё его творчество проходят два типа человека – человек «пёстрой души» (выражение писателя) и цельная личность. Первый свои качества почерпнул «от Азии, с её слабой волей, пассивным анархизмом, пессимизмом, стремлением опьяняться, мечтать»; второй – «от Европы, насквозь активной, неутомимой в работе, верующей только в силу разума, исследования, науки»14. Разномыслие М. Горького проявилось в том, что «пестрота души» (противоречивость) чаще всего воспринималась им как ущербность, национальный порок, но иногда – как внутреннее богатство, духовное достояние народа. Отсюда особая объёмность человека «пёстрой души», который присутствует уже в ранних рассказах писателя, затем – в «окуровском» цикле и в автобиографической прозе 1910-х годов (повести «Детство», «В людях», сборнике рассказов «По Руси»), произведениях начала 1920-х годов («Заметки из дневника. Воспоминания», отдельные рассказы – например, «Отшельник»), а позднее в итоговом романе «Жизнь Клима Самгина». Второй тип – цельной, гармоничной личности, имеющей ясные ответы на «проклятые» вопросы, – более схематичен, рационалистически выстроен и связан с горьковским идеалом, с так называемым положительным героем. Именно его долгое время почитали высшей ценностью исследователи творчества М. Горького, между тем как сейчас предлагается «основным художественным завоеванием писателя» считать образ человека «пёстрой души»: «Этот обширный пласт горьковского творчества остаётся и поныне самой живой частью его наследия…»15.
Антитеза «Запада» и «Востока», одержимость «русской идеей» («фетишистом идеи» называли М. Горького современники) определила замысел, организацию повествования, систему оппозиций целого ряда произведений М. Горького предоктябрьского десятилетия, в том числе «окуровской дилогии»: повести «Городок Окуров» (1909–1910) и романа «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910–1911)16. Предшествующие произведения М. Горького вызвали множество откликов в критике 1900-х годов. В развернувшейся накануне выхода «окуровского цикла» полемике не раз упоминалась мысль Д. Философова о «конце Горького» (1907), высказанная при оценке его «рационализирующей беллетристики» («Мать», «Исповедь» «Лето» и др.). Но после опубликования повести «Городок Окуров» большинство участников спора этот вывод отвергло, разделив суждение обозревателя газеты «Новое время» П. Перцова: «Горький продолжается».
Между тем «неуловимость» авторской точки зрения предопределила сложность интерпретации повести «Городок Окуров»: критикой предлагались разные, зачастую диаметрально противоположные, варианты её прочтения, при этом основное внимание акцентировалось на националистических исканиях (П. Перцов, «Новое время»), развитии традиций Ф. Достоевского (А. Горнфельд, «Русское богатство»), концепции народной интеллигенции (Иванов-Разумник, «Русские ведомости»), социальном пафосе, критике мещанства (А. Измайлов, «Русское слово») и марксистской основе творчества (М. Морозов, «Новый журнал для всех»), а в антигорьковской критике – на проповеди коллективизма и осуждении индивидуализма, «покаянии» писателя в его ранних «ницшеанских грехах» (В. Кранихфельд, «Современный мир»), догматизме (К. Чуковский, «Речь»), тенденциозности и «порнографизме» (В. Буренин, «Новое время»), отсутствии художественной правдивости (С. Адрианов, «Вестник Европы») и т. п.17
В современном горьковедении повесть «ГОРОДОК ОКУРОВ» считается рубежной (знаковой), с ней связывают начало нового этапа в творчестве писателя: «После ««окуровских» повестей возникает представление о «новом Горьком», которое упрочивается с появлением автобиографических сочинений» и (или) «В 1910-е годы его Человек начинает превращаться в «Русского Человека»…»18. Тем не менее, несмотря на постоянный интерес исследователей к повести «Городок Окуров», она разделила общую судьбу произведений М. Горького: в течение длительного времени в горьковедении преобладали общие тенденции в толковании, а не конкретные интерпретации отдельных произведений.
В последнее время ситуация начала изменяться, всё чаще исследователи предлагают новые, оригинальные варианты прочтения наиболее спорных произведений писателя19. Как ни странно, но повесть «Городок Окуров» всё ещё выпадает из этого ряда: в современном горьковедении она по-прежнему рассматривается лишь в ракурсе изображения мещанского быта, при этом внимание исследователей акцентируется главным образом на вопросах проблематики и стиля20.
Мы предполагаем несколько сместить акценты: повесть «Городок Окуров» нами рассматривается в контексте программной статьи М. Горького «Две души», постулирующей принципы его «западничества» и поясняющей «этнологические» мотивы в произведениях 1910-х годов («окуровский цикл», сб. «По Руси»), как модель, отражающая жанровую доминанту в прозе М. Горького.
Прежде всего хотелось бы указать на то, что приступая к созданию цикла произведений, объединённых единым хронотопом, М. Горький дал ему название «Городок Окуров. Хроника». Однако логика повествования в хронике предполагает движение от события к событию – соответственно, изначально каждое произведение цикла рассматривалось как продолжение предыдущего. Именно характер первоначального замысла спровоцировал в читательском восприятии установку на «незавершённость» повести «Городок Окуров», в то время как сам М. Горький уже в период работы над «Жизнью Матвея Кожемякина» рассматривал «Городок Окуров» как «нечто целое», у которого «нет продолжения»21. Можно предположить, что относительная самостоятельность произведений «окуровского цикла» обозначилась в процессе работы над ними помимо воли автора и послужила главной причиной того, что цикл не получил ожидаемого продолжения: повесть «Большая любовь» известна лишь по опубликованному фрагменту, а «Записки d-r'a Ряхина» трансформировались в «Жизнь Клима Самгина».
Представление о цельности, завершённости повести «Городок Окуров» вытекает и из особенностей её композиции (кольцевая композиция): мотив несвободы, замкнутого пространства, определяющий развитие центрального конфликта произведения, на композиционном уровне – в зачине и концовке – реализуется соответственно в образе множества дорог на равнине, дающих горожанам (= читателю) ощущение свободы выбора, и в образе города, на который набит крепкий обруч («город-тюрьма»). Поэтому мы не можем согласиться с утверждением, что «с точки зрения композиционной структуры… «Городок Окуров» – это повесть, образно говоря, без начала и конца»22. Напротив: композиция повести «Городок Окуров» жёстко сконструирована (структурализована), а ассоциативная связь между началом и концом повествования – лишь один из элементов этой конструкции (структуры).
Анализ повести «Городок Окуров» затрудняется тем, что повествование дробится на фрагменты: они не пронумерованы и не озаглавлены, – для удобства мы будем обозначать их начальными фразами с параллельной условной нумерацией. Фрагментарность повествования не мешает наметить структуру сюжета.
Экспозиция – «Волнистая равнина вся исхлёстана серыми дорогами…» (1) и «Первой головою в Заречье был единодушно признан…» (2): описание городка Окурова и характеристика его жителей23. Двучастность экспозиции согласуется с общим замыслом произведения – осмысление мира посредством мифа, сквозь призму бинарных оппозиций. В первой части конструируется модель хронотопа, он строится по законам экзистенциальной прозы: здесь доминируют мотивы двоемирия и границы между мирами («Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханных холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье – там ютится низкое мещанство…» [с. 7]); намечается не менее важный с точки зрения развития сюжета мотив вражды между городом и слободой, провоцируя читательское ожидание связанного с ним конфликта: «Между городом и слободою издревле жила вражда: сытое мещанство Шихана смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров, заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан «грошелюбами», «пятакоедами»…» [с. 11]; параллельно в повествование вводится массовый герой – мещане: жители уездного городка Окуров (читай: России), по М. Горькому, суть русского народа.
Во второй части из их числа выделяются «антигерои», носители «негативной правды» – Яков Тиунов («…ходит человек не торопясь, задумчиво тыкает в песок черешневой палочкой и во все стороны вертит головой, всех замечая, со всеми предупредительно здороваясь, умея ответить на все вопросы» [с. 16]), Вавило Бурмистров («Его писаное лицо хмуро, брови сдвинуты, и крылья прямого крупного носа тихонько вздрагивают… Рубаха на груди расстёгнута… крепкое, стройное и гибкое тело его напоминает какого-то мягкого, ленивого зверя» [с. 22–23]), Сима Девушкин («На его тонком сутулом теле тяжело висит рваное ватное пальто, шея у него длинная, и он странно кивает большой головой, точно кланяясь всему, что видит под ногами у себя» [с. 21]), Лодка («… женщина лет двадцати трёх, высокая, дородная, с пышной грудью, круглым лицом и большими серо-синего цвета наивно-наглыми глазами» [с. 37]).
Этот фрагмент, в свою очередь, состоит из двух частей. В первой дано краткое, ретроспективное жизнеописание Тиунова – он единственный из героев повести, надолго покидавший городок Окуров, с юности странствовавший по Руси, потерявший в этих странствованиях глаз (лейтмотивная деталь, подтекстный смысл которой сводится к авторской характеристике узости, односторонности его взглядов и суждений), но приобретший твёрдые жизненные принципы, основанные на русофильских идеях, суть которых он неутомимо излагает при каждом удобном случае в кратких афористичных изречениях, иногда созвучных представлениям автора («Что ж – Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов – считай – десятка четыре, а уездных – тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия…» [с. 17]), но чаще противоречащих им. Во второй части – драматизированная сценка на берегу реки: «Собираясь под ветлами, думающие люди Заречья ставили Тиунову разные мудрые вопросы. Начинал всегда Бурмистров…» [с. 17]. Здесь даётся портретная и речевая характеристика героев, а также всплывает лейтмотивная тема неприязни Вавилы к Тиунову: «… он чувствовал, что кривой затеняет его в глазах слобожан, и, не скрывая своей неприязни к Тиунову, старался чем-нибудь сконфузить его» [с. 17], – на фоне которой происходит завязка и развитие художественного конфликта повести М. Горького.
При анализе экспозиции зачастую остаётся без внимания – в том числе и в специальных исследованиях – первая фраза, своеобразный зачин повести: «Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пёстрый городок Окуров посреди неё – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони» [с. 7]24. Дело в том, что эта фраза в стилевой структуре повести существует как бы сама по себе, – её искусственность, сделанность, излишняя красивость осознавалась и самим писателем25. Но слегка раздражающая (или ласкающая) слух читателя изысканность зачина оправдана уже тем, что подчёркивает его самостоятельное значение в структуре экспозиции (и шире: в структуре всей повести), контрастируя с доминирующим в первом фрагменте ритмом повествования, который задаётся «логикой списка», перечнем всего, что представляется повествователю сколько-нибудь значимым в жизни окуровцев – от городских построек до разного рода занятий и развлечений в среде мещан («Город имеет форму намогильного креста: в комле – женский монастырь и кладбище, вершину – Заречье – отрезала Путаница, на левом крыле – серая от старости тюрьма, а на правом – ветхая усадьба господ Бубновых… На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семисот… Мещане в городе юркие, но – сытенькие; занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии… По праздникам молодёжь собиралась в поле за монастырём играть в городки, лапту, в горелки…» [с. 8–9]. Зачин контрастирует и с эпиграфом, который не менее важен с точки зрения формирования читательского ожидания, поскольку не только и не столько задаёт эмоциональный градус восприятия (= осознания) М. Горьким положения России в мире: «… уездная, звериная глушь» [с. 7], но вводит в контекст повествования парадигму Ф. Достоевского (и прежде всего представление о «русской широкости», позиционируемое М. Горьким как «пестрота души»)26.
В первой фразе повести, построенной как сравнительный оборот, ассоциативно связаны три пары образов: волнистая равнина ~ широкая ладонь; перекрестье дорог ~ сеть морщин; пёстрый городок ~ затейливая игрушка. Первый ряд (равнина – дороги – город) вводит в повествование ключевые оппозиции: «открытое пространство – замкнутое пространство», «активное начало – пассивное начало», «свободный выбор – отсутствие выбора»; второй ряд (ладонь – морщины – игрушка) переводит повествование в иронично-метафорический план: в подсознании читателя всплывает полукарикатурный образ – сидя на облаке, Бог перекатывает в ладони земной шарик… Здесь и абсурдность существования, и – как это ни парадоксально звучит – открытость в будущее, игра случая: может быть, иллюзорная, но надежда на возможность перемен, преодоления «пестроты».
Завязка художественного конфликта – «Когда разразилась эта горестная японская война…» (3): разговор в трактире о мещанстве («Кто есть в России мещанин?..» [с.30]). Художественный конфликт повести «Городок Окуров» прямо связан с размышлениями М. Горького о судьбе России («игрушка на ладони»). В судьбе русского народа есть рационально неразрешимая загадка, тайна: образ России традиционно двоится, в нём смешаны взаимоисключающие противоположности. Россия – противоречива, антиномична. Она стоит в центре восточного и западного миров, поэтому принято считать, что разгадка её тайны возможна лишь в свете проблемы Востока и Запада: русская мысль обречена вращаться вокруг споров славянофильства и западничества – является ли европейская культура универсальной и не может ли быть другого, более высокого типа культуры?
Для М. Горького ответ на этот вопрос очевиден и заложен в основу замысла «окуровского цикла», но в силу «затушёванности» авторской позиции для читателей повести «Городок Окуров», включая литературных критиков, он оказался не столь очевидным, – вероятно, поэтому самим писателем повесть длительное время воспринималась как творческая неудача. А всё дело в приверженности реципиентов стереотипам восприятия, которые возникли в раннюю пору творчества М. Горького, что проявилось в стремлении видеть в героях повести porte-parole (авторский рупор) – эманацию горьковского Человека. Между тем персонажи повести «Городок Окуров» не могут нести в себе черт положительного героя М. Горького, у них разновекторные полюсы. Идеальным географическо-философским пространством в миропонимании М. Горького предстаёт Запад, а вектор героев (читай: «антигероев») повести «Городок Окуров» направлен на Восток. Они – люди «пёстрой души»: Яков Тиунов, Вавило Бурмистров, Сима Девушкин и Лодка, выделены из мещанской среды, но рассматривать их следует как эманацию не «западной», а «восточной» души русского народа, им не дано достичь цельности Человека.
Авторская позиция прочитывается в подтексте повести «Городок Окуров»: «вестернизация» России, отказ от созерцательности Востока в пользу действенности Запада27. Окуров – городок мещанских нравов и мещанских добродетелей («пёстрый городок») олицетворяет провинциально-замкнутое, а не мировое бытие России. Поражение в войне с Японией пробуждает национальное сознание окуровцев, стремление вывести Россию из замкнутого провинциального существования в ширь («на равнину») мировой жизни. Путей («дорог на равнине») много, – тем сложнее сделать правильный выбор. «Антигерои» повести М. Горького выбирают разные пути: проповедь (Тиунов), бунт (Вавило), молитва (Сима), покаяние (Лодка). Но все эти пути, по мысли автора, гибельны для России, бесперспективны… Все они упираются в стену непонимания, которая вырастает в сознании обывателя на почве страха свободы.
Развитие действия – повествование включает в себя несколько сюжетных линий, которые развиваются параллельно:
«Вавило – Тиунов» («На другой день утром…» (4), «Во тьме…» (13));
«Вавило – Лодка» («Лодка – женщина лет двадцати трёх…» (5), «Во тьме…» (13));
«Сима – Лодка» («Однажды под вечер…» (6), «Слава Симы Девушкина перекинулась через реку…» (7), «Рыжая девица Паша…» (9));
«Сима – Тиунов» («Вечерами на закате и по ночам…» (8));
«окуровская революция» («Город был весь наполнен осторожным шёпотом…» (10), «Понедельник был тихий, ясный…» (11), «Ходил по улицам Тиунов…» (12)).
Автор раскладывает персонажный пасьянс:
В центре повествования мир мещанства (квинтэссенция России), нехитрая метафизика окуровцев – разобщённость, зоологическая борьба всех против всех, идиотизм животно-природной жизни, скука и отупение. Они живут в рабски суеверном преклонении перед стихийным ходом вещей, во всём следуя принципу бондаря Кулугурова, ревностного охранителя существующих порядков: «…что на краю земли-то – нас не касаемо» [с. 74].
Обывательская психология мещан исчерпывающе характеризуется при описании их реакции на уличные волнения во время «окуровской революции» (10). Не дослушав Тиунова, который развивал перед ними свои излюбленные мысли («Решено призвать к делам исконных русских людей…» [с. 74]), они расходятся по домам: «…кривой плохо выбрал время: каждого человека в этот час ждал дома пирог, – его пекут однажды в неделю, и горячий – он вкуснее. А ещё Тиунов забыл, что перед ним люди, издавна привыкшие жить и думать одиноко – издревле отученные верить друг другу. На улицу, к миру, выходили не для того, чтобы поделиться с ним своими мыслями, а чтобы урвать чужое, схватить его и, принеся домой, истереть, измельчить в голове, между привычными тяжёлыми мыслями о буднях, которые медленно тянутся из года в год; каждый обывательский дом был темницей (выделено мной. – С.Т.), где пойманное новое долго томилось в тесном и тёмном плену, а потом, обессиленное, тихо умирало, ничего не рождая» [с. 75]. Миру мещанства (массовое сознание) в повести М. Горького противопоставлен мир героев – Тиунов, Вавило, Сима и Лодка (индивидуальное сознание), они выделены из мещанского окружения, но не утрачивают с ним связь. В массовом сознании за каждым из них закрепляется статус лидера: Тиунов – «первая голова в Заречье»; Вавило – «первый герой»; Сима – «первый поэт»; Лодка – «первая красавица».
Некоторая интрига заключается в том, кто из них «первый человек в слободе»? (= кто главный герой повести?). На это звание в первую очередь претендует Вавило: всё в его поведении (роль певца и хулигана, любовь к Лодке, соперничество с Тиуновым, убийство Симы, участие в «окуровской революции») в конечном счёте преследует одну цель – утвердить своё первенство. Основным способом самоутверждения для него становится позёрство, самолюбование, игра, – ему не важно, чем заниматься, главное быть в центре внимания, вызывать всеобщее восхищение: «Бурмистров был сильно избалован вниманием слобожан, но требовал всё большего и, неудовлетворённый, странно и дико капризничал: разрывал на себе одежду, ходил по слободе полуголый, валялся в пыли и грязи, бросал в колодцы живых кошек и собак, бил мужчин, обижал баб, орал похабные песни, зловеще свистел…» [с. 31].
Игра – доминирующее состояние Вавилы на протяжении всего повествования:
• на берегу реки – дуэт слободских певцов пытается перепеть хор горожан: «Вавило играет песню: отчаянно взмахивает головой, на высоких, скорбных нотах – прижимает руки к сердцу, тоскливо смотрит в небо и безнадёжно разводит руками… Лицо у него ежеминутно меняется: оно и грустно и нахмурено, то сурово, то мягко, и бледнеет и загорается румянцем…» [с. 25];
• в трактире – привычные выходки Вавилы («…он вскочил, опрокинул стол, скрипнув зубами, разорвал на себе рубаху, затопал, затрясся, схватил Тиунова за ворот и, встряхивая его, орал: «Яков! Не бунтуй меня!»») вызывают раздражение у окружающих («Дай послушать серьёзный человечий голос…»), и Бурмистров чувствует себя «проигравшим игру» [с. 29];
• в комнате Тиунова – покаяние в филистёрстве: «… войдя в комнату Тиунова, сбросил на пол мокрый пиджак и заметался, замахал руками, застонал, колотя себя в грудь и голову крепко сжатыми кулаками… Он – играл, но играл искренно, во всю силу души: лицо его побледнело, глаза налились слезами, сердце горело острой тоской» [с. 34–35];
• в притоне – любовь к Лодке: «Бурмистров является красиво растрёпанный, в изорванной рубахе, с глазами, горящими удалью и тоской. «Глафира!» – орёт он, бия себя в грудь, – «Вот он я, – твой кусок! Зверь жадный, на, ешь меня!»» [с. 40];
• на базарной площади – участие в «окуровской революции»: «Братья!» – захлёбываясь и барабаня кулаками в грудь, пел Бурмистров. – «Душа получает свободу! Играй, душа, и – кончено!'» [с. 83];
• в комнате Лодки – убийство Симы: «Нечаянно это! Так уж – попал он под колесо, ну и… Что мне – он?» [с. 92] и т. д.
Нередко Вавила по-детски «заигрывается»: «…увлечённый игрою, он сам любовался ею откуда-то из светлого уголка своего сердца» [с. 35], – но некогда спасительный инфантилизм в конце концов губит его. На «нечаянное убийство» Вавилу толкает двойное предательство: во-первых, предательство Тиунова, который убежал от полупьяного Вавилы, восторженно переживавшего – и нуждавшегося в сопереживании – свой недавний триумф на охваченных бунтарскими волнениями улицах Окурова («Я – всех выше, и говорю, и все молчат, слушают, ага-а! Поняли? Я требую: дать мне сюда на стол стул! Поставьте, говорю, стул мне, желаю говорить сидя! Дали! Я сижу и всем говорю, что хочу, а они где? Они меня – ниже! На земле они, пойми ты, а я – над ними!..» [с. 87], и во-вторых, предательство Лодки, изменяющей Бурмистрову с Симой. Создавая пародийный по отношению к русской литературной традиции образ «добродетельной проститутки», М. Горький заставил её – женщину, в сущности, неумную, лживую, не способную никого полюбить – замаливать грехи не только стоя на коленях перед образом Богородицы, но и одаривая Симу – юродивого со взглядом «робкого нищего» – «спешно-деловой лаской», «отдаваясь ему торопливо, без радости и желания» [с. 46–47, 51, 66–70]. Склонность к предательству выражает доминирующее в личности горьковских героев эгоистическое начало. Эта черта, по М. Горькому, чуть ли ни в крови у окуровцев. Так, Вавила доносит исправнику на Тиунова («Мы, говорит, мещане – русские, а дворяне – немцы, и это, говорит, надо переменить…» [с. 32]), Четыхер рассказывает Вавиле об измене Лодки («… там у неё Девушкин» [с. 89]), Лодка пускает по городу слух о богохульстве Жукова и Ряхина («Сначала, – прищурив глаза, подумала она, – пойду я к Зиновее. Уж она прозвонит всё, что скажешь, всему городу…» [с. 110]), Кулугаров с мещанами после драки на площади отводят Вавилу в полицию («Они начали злобно дёргать, рвать, бить его, точно псы отсталого волка…» [с. 122]) и т. д.
Кульминация и развязка художественного конфликта – «Бурмистров валялся на нарах арестантской…» (15): стычка между горожанами и слобожанами на площади у собора (страх свободы). На арестантских нарах в горячке самооправдания Вавило меньше всего думает о Симе: его душит «злая горечь», он кипит от злости и на Лодку, и на Тиунова: «Он плевал в стену голодной горячей слюной и, снова вспоминая Лодку, мысленно грозился: «Ладно, собака!» Вспоминал Тиунова, хмурился, думая: «Чай, с утра до вечера нижет слово за словом, кривой чёрт! Опутывает людей-то… Кабы он, дьявол, не покинул меня тогда, на мосту, – ничего бы и не было со мной!»» [с. 112, 115].
Анархический порыв к свободе неожиданно оборачивается для него утратой сначала внешней (социальной), а затем – и внутренней (экзистенциальной) свободы, изменой самому себе: «…бывало, говоря и думая о свободе, он ощущал в груди что-то особенное, какие-то неясные, но сладкие надежды будило это слово, а теперь оно отдавалось в душе бесцветным, слабым эхом и, ничего не задевая в ней, исчезало» [с. 113]. После квазиосвобождения пёстрая душа Вавилы снова мечется в эгоистическом стремлении самоутверждения: «Православные! Все вы… собрались… и вот я говорю, я! Я!» [с. 119]. Импульсивно принятое решение («И вдруг в нём вспыхнул знакомый пьяный огонь – взорвало его, метнуло…» [с. 116]) перейти на сторону Кулугарова, горожан – помочь им и заручиться их поддержкой, – на уровне подсознания выглядит логичным продолжением соперничества с Тиуновым и поначалу не осознаётся им как измена, как попытка ценой предательства купить личную свободу («Сквозь гул толпы доносились знакомые окрики Стрельцова, Ключникова, Зосимы… «Наши здесь!' – подумал Вавило, улыбаясь пьяной улыбкой; ему представилось, как сейчас слобожане хорошо увидят его» [с. 119]). Но его покаяние, отказ от идеи свободы («Я ли, братцы, свободе не любовник был?..» [с. 117]) представляет собой жалкое зрелище. Затем ирреальное, напоминающее исступленность юродивого, поведение в кульминационном эпизоде повести: на соборной площади он бьёт своих, слобожан, отсутствие привычного куража во время драки («Вавило бил людей молча, слепо… Люди, не сопротивляясь, бежали от него, сами падали под ноги ему, но Вавило не чувствовал ни радости, ни удовольствия бить их» [с. 120]) и после неё («Он как будто засыпал, его давила усталость…» [с. 121]) – здесь, кажется, впервые ему не до игры, – наконец, предательство Кулугарова приближают страшное и мучительное прозрение: «… ему всё казалось, что земля сверкает сотнями взглядов и что он идёт по лицам людей» [с. 121].
Не предательство обывателей, ведущих его обратно в полицейский участок, но запоздалое осознание собственного предательства, измены самому себе – а судьба Вавилы естественно проецируется на судьбу России – гибельно для Вавилы, впервые не оставляет ему выбора: «Удавлюсь я там, в полиции! – глухо и задумчиво сказал Вавило» [с. 121]. В концовке повести возвращение Вавилы в арестантскую (социальная несвобода) ассоциативно соотносится с гротескно-метафорическим образом города-тюрьмы, на который набит тесный обруч (экзистенциальная несвобода).
Итак, в повести «Городок Окуров» М. Горький использует романные принципы организации повествования: многосюжетность, многогеройность, полифоничность и др. («повесть-роман»). В центре внимания писателя – судьба России. Автор занимает позицию ad marginem: вводит в повествование вместо героя-протагониста «антигероев». Единый сюжет распадается на отдельные сюжетные линии, – они развиваются параллельно и имеют самостоятельное значение, связанное с мотивами двоемирия, выбора, свободы, страха, соперничества, любви, национального и креативного начал.
Графически каждая сюжетная линия может быть представлена в виде пунктира или как цепь, звенья которой образуют ключевые эпизоды повести: на берегу реки (2) – в трактире (3) – в кабинете исправника (4) – в доме Тиунова (4) – в комнате Лодки (5) – в саду (6) – на загородной дороге (8) – в комнате Лодки (9) – на базарной площади (10) – на мосту (13) – в комнате Лодки (13) – в арестантской (15) – на соборной площади (15).
В хронотопе повести последовательно реализуется тема несвободы, страха свободы – только в одном повествовательном фрагменте действие происходит на открытом пространстве (на загородной дороге), дважды местом действия становится «пограничное пространство» (берег реки, мост).
В основном же действие сосредоточено в замкнутом пространстве города, которое постоянно сужается до размеров площади, дома, комнаты, при этом символический образ обывательского «дома-темницы» ассоциативно перекликается с «душным сумраком» комнаты Лодки (место убийства) и оцепеняющей атмосферой арестантской. Завершается этот ассоциативный ряд гротескно-метафорическим образом города-тюрьмы с набитым на него тесным обручем. Образ подготовлен в ходе повествования звуковым лейтмотивом, который по мере движения сюжета звучит всё более настойчиво, угрожающе: «…бухали бондари по кадкам и бочкам» [с. 33], «Гулко и мерно бухали бондари, набивая обручи…» [с. 76], «Кое-где раздавались глухие удары бондарей: Тум-тум-тум! тум-тум!» [с. 78], «Ненадёжная, выжидающая тишина таилась в городе, только где-то на окраине работал бондарь: мерно чередовались в холодном воздухе три и два удара: Тум-тум-тум…
Тум-тум…» [с. 110] и наконец – «…всё работал неутомимый человек, – где-то на Петуховой горке, должно быть; он точно на весь город набивал тесный крепкий обруч, упрямо и уверенно выстукивая: Тум-тум-тум… Тум-тум…» [с. 122].
Выбор окуровцев утопической формулы: счастье = несвобода – оказался пророческим для судьбы России, для всех нас: мы все, до тех пор, пока не сумеем преодолеть страх свободы, рискуем однажды обнаружить себя там, внутри «горьковской прозы», внутри той скорлупы, в которую сами себя закупорили.
2.2.2. «Русский сфинкс» – Леонид Андреев
«Мысль»
«Бездна»
«Красный смех»
«Иуда Искариот»
Основную и наиболее значительную часть творчества Л. Андреева составляют лирико-философские произведения. Лучшие из них – рассказы «Стена» (1901), «Бездна» (1902), повести «Мысль» (1902), «Жизнь Василия Фивейского» (1903), «Красный смех» (1904), «Иуда Искариот» (1907), пьесы «Жизнь Человека» (1906), «Анатэма» (1909), роман «Дневник Сатаны» (1919) и др. – вызывали у критиков и читателей весь спектр эмоций – от восторга до отвращения. Объясняется это, с одной стороны, содержательной направленностью творчества Л. Андреева (многие критики видели в его приверженности однажды освоенным темам игру на публику: в частности, Д. Мережковский сравнивал «избалованный талант» Л. Андреева с «ребёнком, которого насмерть заласкала обезьяна»1) и проблематикой его произведений, которую теперь с уверенностью можно определить как экзистенциальную: переклички Л. Андреева с М. де Унамуно, Л. Пиранделло, Ж. – П. Сартром и А. Камю достаточно очевидны2. С другой стороны, сказалась обособленность Л. Андреева от всех существовавших тогда литературных течений. Своё положение в литературном мире сам Л. Андреев определил так: «для благороднорождённых декадентов – презренный реалист, для наследственных реалистов – подозрительный символист»). Это, в свою очередь, оказало существенное влияние на характер восприятия его творчества современниками; для многих из них он так и остался «сфинксом российской интеллигенции и непонятым писателем»3.
Мировоззренческую основу большинства произведений Л. Андреева составляет анализ взаимосвязи между судьбой отдельного человека и судьбой всего человечества, осмысление космогенеза. Решение этой задачи в творчестве Л. Андреева во многом связано с проблемой «человек и рок», которая объединяет большую группу его произведений. Открывает этот ряд рассказ «Стена», положивший начало нескончаемой полемике между сторонниками и противниками писателя, а завершает итоговый роман «Сашка Жегулёв». В понятие «рока» герои Л. Андреева вкладывают представление о тех социальных и биологических препятствиях, которые стоят на жизненном пути каждого человека и существенно ограничивают его свободу, – зачастую лишь смерть равносильна для них освобождению.
Иначе относится к проблеме смерти автор: по Л. Андрееву, человек не может перешагнуть через себя, через свою несвободу в смерти. Как отмечает Иванов-Разумник, «признание объективной бессмысленности человеческой жизни идёт у Л. Андреева рядом с сознанием её субъективной осмысленности»4. Последнюю писатель понимал как нескончаемость борьбы, самоценность поединка свободного человеческого разума с непреодолимыми для него препятствиями – абсурдом, роком.
И всё же Л. Андреев не считал, что нескончаемая борьба, «бунт ради бунта» является ответом на вопрос о смысле жизни, для него это скорее некая альтернатива, некое позитивное начало, делающее существование хоть сколько-нибудь приемлемым: «Кто я? До каких неведомых границ дойдёт моё отрицание? Вечное «нет» – сменится ли оно хоть каким-нибудь «да»? И правда ли, что «бунтом жить нельзя»? Не знаю. Не знаю… Смысл, смысл жизни – где он?.. А ответа нет, всякий ответ – ложь. Остаётся бунтовать пока бунтуется, да пить чай с абрикосовым вареньем».
Квинтэссенция такого мироощущения (трагедия человеческого разума, измученного «проклятыми» вопросами, перед лицом абсурда) в полной мере отразилась в повести Л. Андреева «МЫСЛЬ». Контур сюжета повести определяет авторское восприятие окружающего мира как безумного, иррационального, абсурдного: «Безумный, счастливый в своём безумии мир…». Для выражения концепции безумия, абсурдности реальной действительности Л. Андреев использует целостную систему экспрессивных стилистических средств, в значительной степени усиливающих эмоциональное воздействие произведения.
Одним из основных изобразительных приёмов в повести «Мысль» является контраст. Повествование строится на столкновении антиномий: разум – безумие, свобода – тюрьма, господин – раб, палач – жертва. Холодный расчёт героя оборачивается безумием («… всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актёр, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек и каждую из них называл миллионом… Не с этим ли миллионом я жил?» [т. 1, с. 401]); свобода – несвободой («… я любил свою человеческую мысль, свою свободу» [т. 1, с. 417]; «Мне живо представилось, как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключённый в эту голову, в эту тюрьму…» [т. 1, с. 395]). Господин над своей мыслью превращается в её раба («…самое страшное, что я испытал, – это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока моё «я» находилось в моей ярко освещённой голове, где всё движется в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своём характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный…» [т. 1, с. 410]); палач – в жертву («Для себя вы можете решать, но для меня никто не решит этого вопроса: Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил потому, что был сумасшедшим?» [т. 1, с.419)]5.
Уже современники говорили о стилистических контрастах в произведениях Л. Андреева. В последующих литературоведческих исследованиях, значительно углубивших представление о функциональном аспекте андреевской стилистики, неоднократно высказывалось мнение о двойственности андреевского стиля. Так, Л.А. Иезуитова справедливо указывает на то, что «тональность всех произведений Л. Андреева отличается сочетанием размеренной, чуть стилизованной эпичности с нервной экспрессивностью»6.
В повести «Мысль» два стилистических плана отчётливо выражены. С одной стороны, ровное эпическое повествование, характеризуемое краткостью, лаконичностью авторской речи, констатирующей факты: «Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей…» [т. 1, с. 382]; «На суде доктор Керженцев держался очень спокойно и во всё время заседания оставался в одной и той же, ничего не говорящей позе. На вопросы он отвечал равнодушно и безучастно…» [т. 1, с. 420]. С другой стороны, исповедь героя, где короткие фразы информационного характера сменяются сложной системой экспрессивных стилистических средств, призванных создать доминирующую атмосферу безумия, иррациональности, абсурда. При этом кольцевая композиция – небольшой зачин (сообщение о факте убийства) и такая же лаконичная концовка (краткая зарисовка сцены суда перед вынесением приговора) – выражает идею замкнутого круга, из которого нет выхода.
Исповедь героя, в свою очередь, включает в себя два эмоционально-стилистических плана, написанных резко-контрастными, чёрно-белыми красками. Смысловой доминантой первого плана становится восприятие героем собственной мысли как послушной исполнительницы его воли: «Как она была послушна, исполнительна и быстра, моя мысль, и как я любил её, мою рабу, мою грозную силу, моё единственное сокровище!» [т. 1, с. 392]. Образно-смысловая доминанта второго плана – сюрреалистическая метафора («пьяная змея»), передающая ужас героя, утратившего контроль над собственной мыслью: «Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота её ещё усилились, а зубы всё так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьётся клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль… Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке. Из головы, где я крепко держал её, она ушла в тайники тела, в чёрную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности» [т. 1, с. 409].
Соответственно, и эпитеты, будучи средством субъективной оценки внутреннего состояния героя, резко контрастны: с одной стороны, его мысль характеризуется как ясная, точная, твердая, острая, упругая, светлая, энергичная, превосходная, послушная, торжествующая, непогрешимая; а с другой – как жалкая, бессильная, лгущая, ничтожная, изменчивая, призрачная, враждебная, страшная, подлая. При этом, с характерной для него тенденцией к лейтмотиву эпитета, Л. Андреев неоднократно повторяет эпитеты «ясная», «точная», «жалкая», «подлая», «ничтожная». В то же время поставленные рядом существительные зачастую подменяют эпитеты или образуют, в своей совокупности, подразумеваемые эпитеты: «И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами моей мысли: ясностью, точностью и простотой» [т. 1, с. 408].
В целом роль эпитетов в повести Л. Андреева связана с резко выраженным авторским началом повествования, со стремлением достичь предельного эмоционального воздействия. Посредством нагнетания и сочетания эпитетов писатель добивается экспрессии изображаемого: «Как ужасно, когда человек воет… Рот кривится на сторону, мышцы лица напрягаются, как верёвки, зубы по-собачьи оскаливаются, и из тёмного отверстия рта идёт этот отвратительный, ревущий, свистящий, хохочущий, воющий звук…» [т. 1, с. 392]. Однако, как справедливо полагает Л.В. Чичерин, «грамматическая форма нагнетания однородных членов имеет смысловое значение…»7. Здесь нагнетание, накопление эпитетов является не простым перечислением однородных членов предложения, а заключает в себе (как в грамматической форме) своего рода превосходную степень, смысл которой – в передаче страха героя перед приближающейся неизбежностью признания собственного безумия.
Важной составной частью экспрессивного стиля повести «Мысль» является её ритмико-синтаксическая структура. Характерная примета андреевского экспрессивного синтаксиса – так называемые паратаксические конструкции, представляющие собой «нанизывание» простых предложений, словосочетаний и отдельных слов, скрепляемых анафорическим союзом «и»: «А мир спокойно спит: и мужья целуют своих жён, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копейке»; «Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив?» [т. 1, с. 418]. Большое значение паратаксические конструкции приобретают в создании экспрессии ритма. Их роль усиливается разветвлённой системой повторов, среди которых наиболее важное место занимают лексико-синтаксические параллелизмы: «И я наслаждался своею мыслью. Невинная в своей красоте, она отдавалась мне со всей страстью, как любовница, служила мне, как раба, и поддерживала меня, как друг» [т. 1, с. 404].
Повторы разных типов, которые выполняют различные функции, – неотъемлемая часть стиля Л. Андреева. Хотя объём повторяющихся отрезков в прозе Л. Андреева обычно не превышает фразы, именно повтор фразы, как справедливо отмечает Н.А. Кожевникова, – один из источников повышенной экспрессивности его стиля8. В повести «Мысль», как и в других произведениях писателя, повторяются фразы, важные в смысловом отношении, определяющие смысловой центр сцены («Мне тяжело. Мне безумно тяжело…» [т. 1, с. 388]) или всего произведения («Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший…» [т. 1, с. 408, 409, 410]). Совершенно особый характер повествования создаётся системой повторов в пределах одной фразы. Эти повторы, – как правило, троекратные, – позволяют автору заострить переживание героя, задержать на нём внимание читателя: «И я это знал, знал, знал…»; «Я очень рад, что вспомнил его, очень, очень рад…»; «… мне стало так смешно от этой нелепости, что я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал…» [т. 1, с. 392, 400, 415].
Особое место в художественной структуре повести «Мысль» занимают развёрнутые ассоциативные сравнения. Некоторые из них, подчёркивая полярные психологические состояния героя (ясность сознания – безумие), становятся своеобразным лейтмотивом повествования: «И разве я не чувствовал своей мысли, твёрдой, светлой, точно выкованной из стали и безусловно мне послушной? Словно остро отточенная рапира, она извивалась, жалила, кусала, разделяла ткани событий; точно змея, бесшумно вползала в неизведанные и мрачные глубины, что навеки сокрыты от дневного света, а рукоять её была в моей руке, железной руке искусного и опытного фехтовальщика…»; «Подлая мысль изменила мне, тому, кто так верил в неё и её любил. Она не стала хуже: та же светлая, острая, упругая, как рапира, но рукоять её уж не в моей руке. И меня, её творца, её господина, она убивает с тем же тупым равнодушием, как я убивал ею других» [т. 1, с. 392, 418].
Сближение конкретных и абстрактных понятий («Сумасшествие – это такой огонь, с которым шутить опасно…» [т. 1, с. 392]) служит основным принципом андреевских сравнений, позволяющим драматизировать повествование, переключая конкретно-бытовые явления в ирреальную атмосферу кризисной ситуации. В ряде случаев в повести «Мысль» образ конкретного явления утрачивает свою предметную определённость и приобретает символическое значение. Такими символами, в частности, становятся сравнения человеческого разума с неприступным замком («Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив? Как средневековый барон, засевший, словно в орлином гнезде, в своём неприступном замке, гордо и властно смотрит на лежащие внизу долины, – так непобедим и горд был я в своём замке, за этими чёрными костями. Царь над самим собой, я был царём над миром» [т. 1, с. 418]) и тюрьмой («И мне изменили. Подло, коварно, как изменяют женщины, холопы и – мысли. Мой замок стал моей тюрьмой…»; «Мне живо представилось, как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключённый в эту голову, в эту тюрьму…» [т. 1, с. 418, 395]). Таким образом, художественное содержание повести Л. Андреева «Мысль» реализуется с помощью её сложной жанрово-стилевой организации. При этом авторское начало является тем стержнем, который создаёт соизмеримость и единство элементов жанра и стиля.
В несколько ином аспекте проблема рока рассматривается в рассказе Л. Андреева «БЕЗДНА»: здесь в центре внимания писателя оказывается не безумие и абсурд окружающего мира, подавляющие человеческую мысль, человеческое сознание, а не поддающаяся контролю «бездна подсознания», которая, в свою очередь, давит на разум человека, – только не снаружи, а изнутри. Этот аспект до Л. Андреева недооценивался в русской литературе, возможно, именно поэтому «эпатирующий» финал рассказа «Бездна» произвёл столь ошеломляющее впечатление. Читатели и критики, воспитанные на целомудренной классике XIX века, оказались не готовы к восприятию идей, восходящих, в частности, к учению З. Фрейда. Из многочисленных откликов на рассказ Л. Андреева самым корректным было, пожалуй, суждение Е. Колтоновской: «То, что разыгралось в «Бездне», вероятно, невозможно в действительности, а если и возможно, то так исключительно, что в обыденном смысле слова не типично. Но сущность интеллигентской психологии, её основная болезнь замечательно угадана художником. Задатки Андреевской бездны существуют в большинстве раздвоенных интеллигентских душ, и с внутренней точки зрения безразлично, проявятся ли они реально или нет»9. Она сумела найти ту грань, за которой начинались бессмысленные споры: возможно – невозможно, типично – нетипично, реально – нереально и т. п., создававшие лишь никому не нужный шум вокруг рассказа, и поддержала Л. Андреева в его праве на эксперимент.
Основные упрёки в адрес Л. Андреева со стороны критики – отсутствие художественной правды, «физиологический абсурд», заигрывание с читателями, искусственное стремление «сгустить ужас» и т. п.10 Среди осудивших рассказ «Бездна» был и Л. Толстой («Ведь это ужас!.. Какая грязь, какая грязь!.. Чтобы юноша, любивший девушку, заставший её в таком положении и сам полуизбитый – чтобы он пошёл на такую гнусность… Фуй!.. И к чему это всё пишется? Зачем?..»). Это особенно огорчило Л. Андреева («Напрасно это он – «Бездна» родная дочь его «Крейцеровой сонаты», хоть и побочная…»). В конце концов, признав неудачу эпатирующего финала, он опубликовал своеобразную «анти-бездну» – «Письмо Немовецкого», где предложил другой вариант развязки: Немовецкий с омерзением отталкивает обесчещенную Зиночку, которая ищет у него поддержки, – более правдоподобный («Если бы я совершил гнусность, которую он мне приписал, это был бы редкий и даже исключительный случай. Это было бы какое-то минутное затемнение рассудка животной страстью и только. То же, что совершилось со мной, именно потому и страшно, что оно не чуждо никому…»), но парадоксальным образом не менее убедительный в плане оценки человеческой природы: «Все мы – звери и даже хуже, чем звери, потому что те, по крайней мере, искренни и просты, а мы вечно хотим и себя и ещё кого-то обмануть, что всё звериное нам не чуждо. Мы хуже, чем звери… мы подлые звери…» [т. 1, с. 615, 616].
В рассказе «Бездна» ровное эпическое повествование сочетается с системой экспрессивных стилистических средств, призванных усилить необходимые автору смысловые и психологические акценты. Его событийная схема несложна: молодые люди, студент-технолог Немовецкий и гимназистка Зиночка, совершают загородную прогулку; трое пьяных бродяг, избив Немовецкого, насилуют девушку; Немовецкий находит бесчувственное тело Зиночки и в свою очередь насилует её. Рассказ состоит из двух частей, написанных резко-контрастными, чёрно-белыми красками: первая – светлая, радостная, чистая (прогулка влюблённых); вторая – чёрная, мрачная, натуралистически-отталкивающая (сцена изнасилования). Контраст белого и чёрного – цвето-световая символика рассказа – является метафорическим выражением противоречивости природы человека, внутри которого борются свет и тьма, добро и зло, духовное и животное, созидательное и разрушительное начала.
Повествование в рассказе «Бездна» ведётся от третьего лица, причём Л. Андреев, как всегда, избегает открытого авторского вмешательства в виде рассуждений или оценок, основным средством выражения авторской позиции является повышенная экспрессивность стиля. Главным средством экспрессии становится свет, он обогащает семантику сцен и описаний, создаёт эмоциональную глубину. Игра света окрашивает первые же страницы повествования: свет делает призрачной или похожей на мираж обыденность («… красным раскалённым углем пылало солнце, зажигало воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что всё кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и ровняло её» [т. 1, с. 355]) и, наоборот, придаёт правдоподобие, осязаемость фантазии («Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь носились перед их глазами… Печальны были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно-красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее её и краше» [т. 1, с. 357]). Все события первой части рассказа изображаются в свете чистой любви, которая переполняет героев, освещая им путь: их разговор был «всё об одном: о силе, красоте и бессмертии любви» [т. 1, с. 355]. Благодаря свету в рассказе открываются смысловые перспективы: сгущающаяся тьма усиливает волнующую, тревожную атмосферу повествования.
Первая глава рассказа Л. Андреева завершается символическим описанием заката солнца, который в иносказательной форме передаёт дальнейшее развитие действия: «Свет погас, тени умерли, и всё кругом стало бледным, немым и безжизненным… Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвигались вперёд, точно их самих, против их воли гнала какая-то неумолимая, страшная сила…» [т. 1, с. 358]. Здесь особенно остро ощущается внутренняя несвобода, слабость человека, его неспособность сопротивляться воле рока – «неумолимой и страшной силе», влекущей его к краю бездны.
Характерно, что все пейзажные зарисовки, отражающие борьбу тьмы и света в душе человека, во второй части рассказа даются с учётом восприятия героя. При этом природные явления, как всегда у Л. Андреева, персонифицируются и изображаются при помощи психологических эпитетов: «свет погас, тени умерли, и всё кругом стало бледным, немым и безжизненным»; «без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, она (местность. – С.Т.) казалась неприветливой и холодной»; «тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в неё поверить, и казалось, что всё ещё это день, но день тяжело больной и тихо умирающий» [т. 1, с. 358, 360], которые повторяются в конце рассказа при описании Зиночки: «рука его попала на обнажённое тело, гладкое, упругое, холодное, но не мёртвое»; «тело было немо и неподвижно» и т. п. [т. 1, с. 365, 366]. С помощью нагнетания и сочетания эпитетов Л. Андреев достигает предельного эмоционального воздействия: повторяющиеся эпитеты становятся средством его субъективной оценки изображаемого.
Финал рассказа, казалось бы, не содержит обычной для Л. Андреева двуплановости, – Немовецкий полностью утрачивает человеческий облик: «На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним чёрную бездну. И чёрная бездна поглотила его» [т. 1, с. 367]. Однако мотив возвышенной, чистой любви не исчезает из рассказа бесследно, а уходит в подтекст, образуя второй план повествования. Намеренная психологическая неразработанность образа Немовецкого компенсирована экспрессивной выразительностью последней главы рассказа, создаваемой во многом за счёт контрастных сопоставлений, выражающих суть, основную идею произведения («С глубокой нежностью и воровской, пугливой осторожностью Немовецкий старался набросать на неё обрывки её платья, и двойное ощущение материи и голого тела было остро, как нож, и непостижимо, как безумие. Он был защитником и тем, кто нападает, и он искал помощи у окружающего леса и тьмы, но лес и тьма не давали её. Здесь было пиршество зверей, и, внезапно отброшенный по ту сторону человеческой, понятной и простой жизни, он обонял жгучее сладострастие, разлитое в воздухе, и расширял ноздри» [т. 1, с. 366]): животное, первобытное начало прячется в каждом человеке; прикрытое рассудочными императивами, этическими нормами, убеждениями и принципами, оно таит в себе силы, не поддающиеся контролю.
Немовецкий – один из многих героев Л. Андреева, которых он подводит к роковому краю: Сергей Петрович («Рассказ о Сергее Петровиче»), отец Василий («Жизнь Василия Фивейского»), доктор Керженцев («Мысль»), Савва («Савва») – среди тех, кого Л. Андрееву не удалось (или не захотелось) отвести от края бездны. Заглядывая их глазами в её глубины, он одного за другим сталкивает их с обрыва. Недостижимость мечты о прекрасном и свободном человеке, выраженная как в стилевой атмосфере произведения, так и в особом соотношении сознаний автора и героя, в символическом звучании подтекста, трактуется Л. Андреевым метафизически – как непреодолимый закон бытия. Психологический рисунок сюжета рассказа «Бездна» подсказывает именно такую его интерпретацию.
В повести «КРАСНЫЙ СМЕХ», которая явилась откликом Л. Андреева на русско-японскую войну, поразившую его своей бессмысленной жестокостью, смысловой доминантой стало авторское восприятие войны как «безумия и ужаса». Произведение имеет подзаголовок «Отрывки из найденной рукописи» – всего их девятнадцать – и делится на две части. В первой повествование ведётся от лица офицера, который, не выдержав «безумия и ужаса» войны, сходит с ума и умирает; вторую часть составляют размышления и наблюдения его брата, также постепенно теряющего рассудок. Соответственно, в первой части воспроизводятся главным образом эпизоды войны, «некоторые отдельные картины», которые «неизгладимо и глубоко вожглись в мозг» рассказчика: многочасовое отступление по энской дороге (1-й отр.), трёхдневный бой (2-й отр.), офицерский пикник (4-й отр.), поездка за ранеными (5-й отр.), пребывание в лазарете (6-й отр.) и т. д.; а во второй части действие переносится в его родной город. Параллелизм, соотнесённость двух частей проявляется в характере повествования, которое буквально пронизано атмосферой войны: в болезненном сознании рассказчиков реальные события приобретают ирреальный, – фантасмагорический оттенок, оборачиваются страшным гротеском. Фрагментарность повествования максимально усиливает иллюзию хаотичности логически неупорядоченного потока сознания героев.
Для выражения концепции «безумия и ужаса» войны Л. Андреев использует целую систему образных и стилистических средств, в значительной степени усиливающих экспрессивность повествования. В названии повести – как это нередко бывает у Л. Андреева (например, «Мысль», «Тьма» и др.) – обозначен центральный символический образ произведения. В первой же фразе, выполняющей кодирующую роль зачина, называются его основные черты: безумие и ужас, которые затем развиваются и варьируются на всех уровнях жанровой структуры: повествовательном, сюжетно-композиционном, пространственно-временном и предметно-образном.
Гротескно-символический образ Красного смеха является одним из самых содержательно ёмких, структурно сложных и эмоционально выразительных в прозе Л. Андреева. Как отмечает И.И. Московкина, «он складывается из всех доступных человеческому восприятию ощущений и впечатлений: зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных и т. п.»11 Постоянно повторяясь, образ Красного смеха создаёт ритмико-смысловой центр отдельных частей повести, обнаруживая в разных отрезках повествования различные оттенки смысла. В финале повести образ мифологизируется, что не только увеличивает степень экспрессивности повествования, но и создаёт возможность для философско-мифологического осмысления конфликта12.
Важной составной частью жанрово-стилевой структуры повести Л. Андреева является её ритмико-синтаксическая конструкция. Разрозненные отрывочные впечатления, разорванные психологические движения, характеризующие потрясённое сознание героев, усиливают ирреально-фантасмагорический оттенок изображаемой действительности. Сгущённую экспрессивную манеру повествования создают повторяющиеся бытовые, портретные и пейзажные подробности, расположенные по принципу градации эпитеты, а также детали, выполняющие роль символов.
Разного рода словесные и фразеологические повторы, как правило, в пределах одной фразы, позволяют автору заострить переживания героев, задержать на них внимание читателя: «Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и достали самовар, и достали далее лимон и стакан, и устроились под деревом – как дома, на пикнике» [т. 2, с. 30]. Иногда система повторов придаёт повествованию своеобразный ритмический рисунок: «Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольётся по всей земле, этот красный смех!» [т. 2, с. 27–28].
В создании экспрессии ритма большое значение приобретают так называемые паратаксические конструкции: «Эти дети, эти маленькие, невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уже плакал тоненьким детским голосом – и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушёл домой, и ночь настала, – и в огненных грёзах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие ещё невинные дети превратились в полчище детей-убийц» [т. 2, с. 60].
Излюбленными тропами Л. Андреева являются сравнения. Они занимают огромное место в художественной структуре повести «Красный смех» как при характеристике образов, так и в создании эмоциональной атмосферы. Характерно, что для образов солдат, убивающих друг друга, постоянными становятся сравнения с животными: «Сообщают, что у некоторых частей не хватало снарядов, и там люди дрались камнями, руками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков, – но они не вернутся: они сошли с ума и перебьют всех…» [т. 2, с. 62]. Подобными сравнениями Л. Андреев подчёркивает бессознательность, инстинктивность их поведения. В целом система экспрессивных стилистических средств в повести призвана создать атмосферу ирреальности, фантасмагории, олицетворяющую безумие насильственной смерти.
Этому же способствует символико-мифологическая природа хронотопа, который, в свою очередь, во многом определяет своеобразие жанровой структуры этого произведения. Пространственно-временную модель повести «Красный смех» можно представить в виде двух пространственных («горизонтальной» и «вертикальной») и двух временных («психологической» и «эсхатологической») подсистем. Основу горизонтальной пространственной подсистемы составляет оппозиция «война – дом». Она реализуется и в композиции произведения, и в движении сюжета: безумие войны (Красный смех) постепенно распространяется на весь мир, переходит на улицы и площади городов, проникает в дома; в финале повести рядами лежащие трупы покрывают всю обезумевшую землю.
Важнейшим средством экспрессии при изображении безумия и ужаса войны становится цветовая символика, усиливающая необходимые автору смысловые и психологические акценты. Как правило, Л. Андреев в своих произведениях, избегая реалистической многокрасочности, использует ограниченное количество цветов. В повести «Красный смех», пытаясь символически выразить квинтэссенцию изображаемого явления, Л. Андреев насыщает пространство войны красным цветом: «…всё кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зелёный и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнём» [т. 2, с. 29]. Рядом с красным – различные оттенки жёлтого и чёрного цвета, которые соотносятся друг с другом и создают полихромное единство, являющееся метафорическим выражением, символом смерти: «…всё было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир – мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был жёлтый, холодный; над ним тяжело висели чёрные, ничем не освещённые, неподвижные тучи, земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов» [т. 2, с. 30–31]. С образом дома у рассказчика ассоциируются голубой и зелёный цвета («привычные и тихие»), с которыми Л. Андреев связывает представление о счастье, любви, покое и безмятежности.
Вертикальная пространственная подсистема представлена оппозицией «земля – космос». Одной из ипостасей Красного смеха в повести Л. Андреева становится неведомая, чуждая, нечеловеческая сила, управляющая миром, людьми, их жизнью и их поступками – «оно»: «И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих тёмных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих чёрных ущелий, где, быть может, ещё умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром» [т. 2, с. 32]13. Эта ипостась Красного смеха, варьируясь, проходит через всё повествование («Он в небе, он в солнце, и скоро он разольётся по всей земле, этот красный смех!» [т. 2, с. 28]; «Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы…» [т. 2, с. 56]) вплоть до финала повести, где Красный смех объективируется, начинает жить самостоятельной жизнью и становится олицетворением обезумевшего мира.
Две временные подсистемы повести условно можно определить как психологическую и эсхатологическую. Психологическая подсистема представляет собой оппозицию «переживаемого» и «фонового» времени. Переживаемое время идентично реальному, – это, в сущности, время смены событий, переживаний, настроений рассказчиков. Оно подчинено своему ритму, имеет свой строй, свои опорные точки. Его ход подчёркивается как посредством прямых указаний («…мы шли по энской дороге, – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь» [т. 2, с. 22]; «Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия…» [т. 2, с. 25] и др.), так и при помощи косвенных временных определителей («…к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу» [т. 2, с. 51] и др.).
Фоновое, довоенное время постоянно вторгается в переживаемое: «…внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моём столике – столике, у которого одна ножка короче двух других и под неё подложен свёрнутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын…» [т. 2, с. 23]; «Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике…» [т. 2, с. 30] и др. Именно воспоминания о прошлой, довоенной жизни вызывают у героев повести ощущение безумия происходящего.
Сразу отметим, что психологическое время в повести Л. Андреева соотносится с горизонтальной пространственной моделью. На уровне переживаемого времени реален только мир войны, мир безумия и смерти, в котором нарушаются все нормальные представления людей. Характерно, что героями произведения этот мир воспринимается как «чужой», «перевёрнутый». Сходящий с ума доктор показывает это наглядно: «С гибкостью, неожиданною для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевёрнутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова: «А это… вы также… понимаете?»» [т. 2, с. 42].
Образ дома, напротив, нереален («Какой дом, разве где-нибудь есть дом?..» [т. 2, с. 82]). Он существует только в воображении рассказчика и даёт лишь иллюзорную надежду на спасение, поскольку, хотя внешние атрибуты дома остаются без изменений («В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зелёным колпаком и столик, на котором стоял графин с водою. И он был немного запылён… И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел…» [т. 2, с. 45]), изменяется сам герой – из молодого, красивого, полного жизненных сил человека он превращается в немощного, безумного, умирающего калеку, который даже не в состоянии осознать всю трагичность своего положения. В финале произведения образ дома полностью отождествляется с чуждым героям повести миром войны: «…дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мёртвой улице» [т. 2, с. 70]. На уровне фонового, довоенного времени, наоборот, реален только образ дома, а мир войны, где «непрестанно из людей делают трупы», представляется невозможным: «И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет…» [т. 2, с. 67].
Эсхатологическая временная подсистема включает в себя «историческое» и «мифологическое» время. Но здесь дана уже не оппозиция, а ироническая сцеплённость временных пластов: историческое, текущее время в повести Л. Андреева уживается с мифологическим. Эсхатологическое время соотносится с вертикальной пространственной подсистемой: в финале повести в потрясённом сознании рассказчика возникает картина Апокалипсиса: «От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звёзд, без солнца, и уводило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами… по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежащих рядами…» [т. 2, с. 72]. Образ Красного смеха мифологизируется: в своей последней ипостаси он олицетворяет гибель мира, конец истории.
Среди произведений Л. Андреева, написанных на евангельские мотивы («Бен-Товит», «Елеазар», «Иуда Искариот» и др.), выделяется повесть «ИУДА ИСКАРИОТ», за основу которой взят широко известный сюжет о предательстве и гибели Христа. Она также даёт основания для сближения с отдельными сторонами различных модернистских течений: стилистика и отчасти поэтика повести во многом соответствуют стилистике и поэтике экспрессионизма и символизма; а философия жизни героя сближает её с художественными произведениями экзистенциализма.
Современниками Л. Андреева повесть «Иуда Искариот» была осмыслена как апология предательства и воспринята в основном негативно, поскольку вариации на тему Иуды в те годы не выходили за пределы этико-политической модели расплаты за предательство общественных идеалов: подразумевалась известная часть русской интеллигенции, отошедшая от революционных идей после поражения революции 1905 года14.
Однако в наше время повесть Л. Андреева воспринимается вне её соотнесённости с идеями первой русской революции и, очевидно, может быть прочитана как философская притча экзистенциальной ориентации. Известно, что все понятия, вводимые экзистенциализмом, сосредоточены вокруг проблемы личности. Причём личность в эстетике экзистенциализма рассматривается как нестабильная: отмечается деление «я» на истинное (личное) и неистинное (социальное) – в каждом человеке неотъемлемо одно от другого уживаются добро и зло, любовь и насилие и т. д. Экзистенциализм смотрит на человека сквозь призму конкретной ситуации его существования. В «пограничных ситуациях», которые определяются ощущением страха, неискупимой вины, тяжёлой болезни, смерти и т. д., человеком осуществляется свободный выбор самого себя. Нравственная высота личности в экзистенциализме измеряется глобальностью ситуации, в которой ей предстоит сделать свой выбор, но разговор о человеке всегда ведется на уровне общезначимых сюжетов: любви, ненависти, смерти…
Очевидно, что в центре повести «Иуда Искариот» – проблема личности, исследуемая в духе экзистенциальных антиномий: свобода – несвобода, палач – жертва и т. д. По сути, Л. Андреев предлагает неканонический вариант классической ситуации предательства. Проводя свой излюбленный психологический эксперимент – проверку личности человека кризисной ситуацией, – он показывает персонажей разной духовной и интеллектуальной организации: Иуду, Иоанна, Петра, Фому и, анализируя их поведение во время казни Иисуса, решает поставленную задачу: разоблачить не столько предательство Иуды, сколько предательство апостолов, не сумевших защитить своего учителя15.
Характерно, что на протяжении всего повествования, начиная с момента появления Иуды среди учеников Христа и заканчивая их последней встречей, герои повести сталкиваются с проблемой выбора: каждый из них пытается доказать своё право быть рядом с Иисусом. При этом Иуда постоянно противопоставляется другим апостолам, но всегда оказывается неизмеримо выше их. Однако все его попытки доказать свою преданность Христу лишь отдаляют от него Иисуса: «Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принёс ему ящерицу – я бы принёс ему ядовитую змею. Пётр бросал камни – я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у неё зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду!..» [т. 2, с. 226].
Художественный конфликт повести Л. Андреева строится на столкновении жизненных позиций Иуды и Иисуса: «…что бы он (Иисус. – С.Т.) не говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, – казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды» [т. 2, с. 213]. Они внутренние антагонисты: Иуда никому и ни во что не верит, для него ложь – форма существования мира; Иисус, напротив, верит в людей и надеется любовью преобразить мир. Жизненный опыт подсказывает Иуде, что проповедь любви не способна повернуть человечество в сторону добра, поэтому ему нелегко поверить в идею Христа. Не случайно он постоянно задает себе вопрос: «Кто обманывает Иуду? Кто прав?» [т. 2, с. 251, 253 и т. д.]. Именно на него долго и мучительно ищет ответ, прежде чем сделать свой выбор: «…долго плакал, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашёптывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжёлый, решительный и всему чужой, как сама судьба» [т. 2, с. 237–238].
Исследователи творчества Л. Андреева неоднократно отмечали, что образ Иуды как бы ускользает от однозначной трактовки. Между тем двойственность этого персонажа, – а она проявляется и в его внешнем облике, и в поведении, – задана изначально и продиктована логикой построения образа. Ведь особенность андреевского героя в том, что он лишь отчасти создан воображением автора, Л. Андрееву нельзя было не считаться с теми качествами, которые присущи Иуде в Евангелии: ложь, лицемерие, корыстолюбие.
Однако формальные атрибуты библейского Иуды в трактовке Л. Андреева подчас получают совершенно неожиданное освещение. Так, согласно тексту Евангелия, воля к предательству была вложена в Иуду дьяволом: «Вошёл же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, И он пошёл и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им…» (Лук., 22, 3–4). Освободившись из-под власти сатаны, Иуда раскаивается и совершает самоубийство: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и раскаявшись, возвратил тридцать серебренников первосвященникам и старейшинам… пошёл и удавился» (Матф., 27, З – 5)16.
В интерпретации Л. Андреева Иуда совершает предательство также против своего желания, но повинуясь воле Христа. В понимании философско-этических мотивов предательства андреевского Иуды ключевой является сцена из третьей главы повести: «Так стоял он (Иуда. – С.Т.), загораживая дверь, огромный и чёрный, и говорил Иисус… Но вдруг Иисус смолк – резким незаконченным звуком… Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и всё у него – глаза, руки и ноги – точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шёл Иисус и слово какое-то нёс на устах своих – и прошёл мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь» [т. 2, с. 225–226]. В завуалированной форме, метафорически сцена выражает мысль о необходимости привлечь внимание к личности Христа («открыть дверь»), для того чтобы его учение стало понятно и доступно людям.
Философско-этические мотивы предательства в повести Л. Андреева тесно сплетаются с психологическими: Иуда – единственный из апостолов, кто не верит в идею Христа, – решает предать его, чтобы доказать и ему, и себе самому свою правду о жизни и людях. Но в глубине души он хочет опровергнуть самого себя так же сильно, как и утвердить («Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы…» [т. 2, с. 239]): предавая, Иуда надеется, что прав окажется всё-таки Иисус, и люди – прежде всего апостолы – не допустят его гибели, хотя прекрасно понимает, насколько иллюзорна эта надежда («Своего учителя они всегда любят, но больше мёртвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим…» [т. 2, с. 234]). Тем не менее сомнения не оставляют Иуду вплоть до смерти Христа, которая расставляет все точки над формально в их споре о сущности человека побеждает Иуда, но это пиррова победа, – любовь к Иисусу толкает его на самоубийству. Своей смертью Иуда утверждает правоту Христа: он мечтает вернуться вместе с Иисусом на землю, чтобы продолжить его дело – переустройство мира на началах добра17. Таким образом, в финале повести Л. Андреев, по сути, возвращается к мысли Ф. Достоевского: «Красота Христа спасёт мир».
2.2.3. «Русский Эдгар По» – Валерий Брюсов
«Республика Южного Креста»
«Последние страницы из дневника женщины»
«Рея Сильвия»
Биографами В. Брюсова обычно создаётся портрет человека, с юности мечтавшего о всероссийской славе: не беспринципного, но и ни в чём полностью не убеждённого; разносторонне, даже блестяще образованного, но не преодолевшего механистичности восприятия мира; одержимого эротикой, но не способного отдаться страсти1.
Быть может, отсюда его бесконечные колебания («принцип маятника») между двумя творческими началами: новаторством и традицией. Их соотношение изменяется на разных этапах эволюции В. Брюсова. Так, до середины 1890-х годов в художественном мире поэта довлеет установка на новизну, эпатажность – в это время он приобретает славу мэтра русского символизма (сб. «Русские символисты», 1894–1895; «Chefs d'oeuvre» («Шедевры»), 1895; «Me eum esse» («Это – я»), 1896). А с конца 1890-х – до середины 1900-х годов соотношение традиции и новаторства в творчестве В. Брюсова находится в равновесии, именно тогда были созданы общепризнанно лучшие книги его стихов «Tertia vigilia» («Третья стража») 1900, «Urbi et orbi» («Городу и миру») 1903, «Stepha-nos» («Венок»), 1906; «Все напевы», 1909. В это же время выходят первый роман «Огненный ангел» (1905–1906) и первый сборник повестей и рассказов «Земная ось» (1907). В конце 1900-х – 1910-е годы В. Брюсов сознательно погружается в стихию классики: в его поэзии (сб. «Зеркало теней», 1912; «Семь цветов радуги», 1916 и др.) и прозе (второй сборник повестей и рассказов «Ночи и дни», 1913; «римская» трилогия – «Алтарь Победы», 1912; «Рея Сильвия», 1914; «Юпитер поверженный», 1918) возрастают реалистические тенденции; 1920-е годы – период творческого кризиса, новый поворот к экспериментальной, «научной поэзии» (сб. «Mea» («Спеши»), 1924 и др.) и драматургии (пророческая трагедия «Диктатор», запрещённая цензурой и впервые опубликованная только в 1986 г.)2.
Дифференцированный подход к В. Брюсову – поэту, драматургу, прозаику – стал в литературоведении нормой3. Проза В. Брюсова представляет наименее исследованную часть его творческого наследия. Общепризнанно, что он первым из русских писателей ХХ века начал сознательно опираться на опыт европейской (А. Франс, Г. Уэллс) и американской (Э. По) новеллистики. Всемирная отзывчивость В. Брюсова-прозаика одних современников раздражала (З. Гиппиус: «…писать, как Эдгар По – значит не быть ни Эдгаром По, ни самим собой»)4, других восхищала (С. Ауслендер: «Нигде не изменяя своей строгой точности, он умеет совсем незаметно согласовать внешнюю форму с внутренним содержанием»)5. О В. Брюсове вообще было сказано слишком много крайностей: его называли «вторым поэтом» после А. Пушкина и саркастически «героем труда»6.
Современное брюсоведение стремится разрушить, сложившиеся вокруг имени В. Брюсова легенды и стереотипы («сальери», «морфинист», «продался большевикам»)7. Но в наши дни, когда к нему многие относятся с предубеждением, бездумно повторяя фразу О. Мандельштама о том, что у В. Брюсова нельзя найти ни одной строчки, заслуживающей включения в антологию русской поэзии, или цитируя явно несправедливых к нему мемуаристов (3. Гиппиус – М. Цветаева – В. Ходасевич), он всё чаще превращается в объект постмодернистских издевательств: в политической иерархии русских классиков В. Брюсов вместе с А. Толстым разделяет последнее и предпоследнее места.
Психологически мы далеко отстоим от эпохи русского символизма: поиски мифической духовной родины, «магическое понимание нордизма» – вот что, по мнению В. Молодякова, определило становление В. Брюсова как символиста, сделало его причастным великой традиции8. Нордизм В. Брюсова был, конечно, не более чем игрой, маской, приросшей к лицу: «внутренний мир В. Брюсова – монада без окон на окружающий мир»9. С одной стороны, в нём смущает приверженность к театрализации жизни, самолюбованию и экзальтации; с другой – он кажется чересчур серьёзным, даже мрачным.
Любовь В. Брюсова к мистификации, его способность создавать себе разнообразные литературные маски реализуется в обращении к стилизации, – в его прозе этот повествовательный принцип превращается в символистскую игру с реальным и ирреальным мирами. В этом отношении его первый прозаический сборник «3емная ось» – последовательно проведённый эксперимент: все входящие в него произведения сознательно ориентированы на конкретные образцы повествовательного искусства (от романтизма – до эстетизма). Несхожие по сюжету повесть «Республика Южного Креста» и рассказы («Теперь, когда я проснулся…», «В зеркале», «Мраморная головка» и др.) объединяет идея взаимопроникновения иллюзии и действительности, порождающая фантастические метаморфозы во внутреннем мире человека.
Повесть «РЕСПУБЛИКА ЮЖНОГО КРЕСТА» (1904–1905) можно назвать мостом между Э. По и современной антиутопией, предвосхищением романов Е. Замятина, О. Хаксли и Дж. Оруэлла. По сути, она открывает новый этап развития литературной утопии, связанный с её психологизацией: «с первого десятилетия ХХ века классическая утопия Нового времени сосредоточилась на программах психологического раскрепощения – «спиритуализации» или «либидоизации», связанных, в первую очередь с обнажением «иррациональной изнанки» человека в работах З. Фрейда и культуры в трудах М. Вебера; а в утопическом зазеркалье – антиутопии – восторженная интонация, с которой прежние островитяне демонстрировали путешественнику свои достижения, сменилась ожесточённым иррациональным антиутопизмом – ненавистью к сытой, спокойной, надёжной жизни»10.
Повесть В. Брюсова написана в форме журнальной статьи, – установка на стилизацию прямо обозначена в подзаголовке к названию произведения: статья в специальном номере «Северо-Европейского Вечернего Вестника». Повествователь (автор статьи) – безымянный корреспондент (впрочем, им вполне мог быть г. Андрю Эванс, отправившийся в столицу Республики Южного Креста с намерением продолжить серию репортажей, – о чём упоминается в концовке повести), спешащий по горячим следам сообщить читателям «д о с т о в е р н ы е сведения» (разрядка – в тексте) о катастрофе, постигшей Звёздный город. Это брюсовский вариант рационализированного почти до абсурда «нового мира».
Акцент на достоверность повествования (при том, что он ориентирован на виртуальных читателей статьи, а для читателей повести всего лишь элемент игры) – не случаен. Здесь пересекаются сразу несколько литературных традиций – от собственно-утопической (авторы классических утопий последовательно убеждают читателей в реальности атлантов (Платон), утопийцев (Т. Мор), телемитов (Ф. Рабле), соляриев (Т. Кампанелла), бенсалемцев (Ф. Бэкон) и т. п.) до романтической (у Э.Т.А. Гофмана, Э. По, Н. Гоголя и др. фантастика вводится в реальную действительность, приобретает признаки внешнего правдоподобия). В свою очередь, очерковая форма (бесстрастное журналистское расследование), точнее, её пародийная парадигма, идеально отвечает авторскому замыслу дискредитировать не только утопическую идею общества, построенного на рационалистическом отрицании противоречивости человеческой природы и берущегося обеспечить всеобщую гармонию, но и собственно культ разума, «требующего несвободы каждого и всех в качестве гарантии счастья»11.
Контур сюжета повести В. Брюсова составляет история гибели Звёздного города в результате «болезни противоречия» – mania con-tradicens12. Условно повествование можно разделить на четыре части, каждая из которых включает в себя один из элементов сюжета:
• подробное описание образа жизни в Республике Южного Креста и Звёздном городе (экспозиция) [с. 76–80];
• начало эпидемии mania contradicens (завязка конфликта) [c. 80–82];
• хроника эпидемии (развитие действия) [с. 82–89];
• оргия отчаяния (кульминация) [c. 89–91];
• последствия эпидемии (развязка) [c. 91–94]13.
Многие исследователи отмечают, что антиутопические произведения обладают устойчивыми сюжетно-композиционными признаками, более того, используя интертекстуальный подход – как это делает, к примеру, А. Жолковский – можно наметить их типовую схему или «архисюжет»: изображаемое общество прокламирует себя счастливым – главный герой встречает любимую женщину, под влиянием которой перестаёт доверять системе, становится «вероотступником» – спор главного героя со своим идейным антагонистом – трагический финал, констатирующий поражение героя14.
Повесть В. Брюсова, в отличие, например, от антиутопии Н. Фёдорова «Вечер в 2217 году» (1906)15, лишь отчасти вписывается в эту схему: бунт личности против всеобщей стандартизации, единомыслия у В. Брюсова парадоксально происходит в массовом порядке. Рассказчик (репортёр), выполняющий роль путешественника из классической утопии, подробно описывает «новый мир», его устройство:
• географическое: «Республика Южного Креста возникла из треста сталелитейных заводов, расположенных в южнополярных областях (…) Главный город Республики, получивший название Звёздного, был расположен на самом полюсе. В той воображаемой точке, где проходит земная ось (выделено нами. – С.Т.)16 и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши (…) Улицы города расходились по меридианам от ратуши, а меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным кругам (…) Ввиду суровости климата над городом была устроена непроницаемая для света крыша…» [с. 76–77];
экономическое: «Всё население Республики, исчислявшееся в 50 000 000, сосредоточивалось вокруг портов и заводов (…) Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах была обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью (…) Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей, медицинская и юридическая помощь (…) было государственной заботой…» [с. 77–78];
политическое: «Конституция Республики, по внешним признакам, казалась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов (…) Из среды тех же работников, путём всеобщего голосования, избирались представители в Законодательную Палату Республики (…) Однако демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов-учредителей бывшего треста (…), они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках Совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны (…) Законодательная Палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли Совета…» [с. 78–79].
Геометрически организованное пространство брюсовской Республики Южного Креста (в пределах полярного круга) и Звёздного города (улицы, расходящиеся от центра – южного полюса по меридианам, пересекают идущие по параллельным кругам) символизирует утопический идеал совершенства, не поддающийся дальнейшему усовершенствованию:
Здесь же намечается знаковая для классических антиутопий оппозиция «мир природы – мир цивилизации» (= «мир свободы – мир несвободы»). На враждебность искусственного мира людей естественному миру природы указывает не только замкнутость утопического пространства (купол над Звёздным городом), но и контраст между однообразной необитаемой пустыней («…дикие животные были давно истреблены, а человеку нечем было существовать там» [с. 77]), какой осталась большая часть территории страны, и напряжённой жизнью портовых городов и заводских центров («…достаточно сказать, что за последние годы около семи десятых всего металла, добываемого на земле, поступало на обработку в государственные заводы Республики» [с. 77–78]). В связи с этим интересным представляется указание на петербургский прототип Звёздного города17, – выраженные в условной форме эсхатологические предсказания В. Брюсова вполне отвечают эстетике «петербургского мифа».
Характерно, что В. Брюсовым, как и другими создателями ранних антиутопий (Е. Замятин, О. Хаксли), «ещё не ставится под сомнение материальный достаток и блеск будущего возможного общества, так сказать, хрустальность «хрустального дворца» – тесного для жизни духа, словно «курятник» или «казарма», но тем не менее надёжно выстроенного и предлагающего всем свои богатства»18. В основе процветания брюсовской Республики Южного Креста – культ разума: жизнь «нового мира» строго регламентирована. Унификации подвергается всё без исключения: «Здания всех городов Республики строились по одному и тому же образцу, определённому законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши, было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно, в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определённого часа (…) воспрещалось выходить из дома. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре…» [с. 79]. Здесь свойственная всем утопиям тенденция к уничтожению различий между людьми. Как показывает Д. Штурман, «одинаковость – есть, по убеждению утопистов, высшая, абсолютная форма равенства, а значит, и справедливости, предел того и другого (…) Утопии стремятся (…) к всепроникающей равнокачественности людей, к одинаковости их труда, поведения, поступков и свойств, а главное – их обеспеченности житейскими благами»19.
Утопическое мировоззрение основывается на идее тождества внешнего и внутреннего: «предельный идеал равноправия – абсолют одинаковости», по Д. Штурман, рассматривается как средство перестройки внутреннего мира человека, достижения е д и н ом ы с л и я. В повести В. Брюсова этот принцип лишь доводится до логического конца: всеобщая унификация – материализованный способ отрицания личности20.
Бунт против насильственно сформированного единомыслия, обезличивания человека у Брюсова принимает форму метафоры: Звёздный город (столицу Республики Южного Креста) охватывает эпидемия болезни противоречия – mania contradicens («Своё название болезнь получила от того, что больные ею постоянно сами противоречат своим желаниям, хотят одного, но говорят и делают другое…» [с. 80]). Рассказчик отмечает, что единичные случаи заболевания встречались и раньше, но им не придавали особого значения. Тем беззащитнее оказались жители города в период эпидемии (май – август); бесстрастное репортёрское перо восстанавливает хронику событий – от комических эпизодов («Заболевший кондуктор метрополитена, вместо того чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им…» [с. 81]) до массовой гибели людей («… две няньки в городском детском саду, в припадке «противоречия», перерезали горло сорок одному ребёнку (…) В тот же день (…) милиционеры выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до пятисот человек» [с. 82]) и повального бегства из города («Началось бегство из Звёздного города (…) Стремление бежать, в свою очередь, стало манией (…) Станции электрических дорог осаждались громадными толпами. Билеты в поездах покупались за громадные суммы и получались с бою. За места на управляемых аэростатах, которые могли поднять всего десяток пассажиров, платили целые состояния…» [с. 82–83]), пока не оборвалась связь с внешним миром («…все шесть магистралей, связывающих Звёздный город с миром, оказались испорченными (…) Население города, доходившее в то время до 600 000 человек, оказалось отрезанным от всего человечества» [с. 87]).
Эти описания даны со ссылками на местные газеты, телеграфные сообщения и, главным образом, на найденный в разгромленной Ратуше дневник председателя Городского Совета Ораса Дивиля, который в течение полутора месяцев боролся с возрастающей анархией… Психологически очень точно В. Брюсов рисует гротескные картины гибели города и его жителей: «…из-за недостатка служащих остановилось движение по метрополитену, была прекращена служба на городском телефоне, были закрыты все аптеки (…), прекратилась подача электроэнергии и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак (…) С наступлением мрака пала последняя дисциплина в городе. Здоровые перестали отличаться от больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей (…) В эти дни Звёздный город был громадным чёрным ящиком, где несколько тысяч ещё живых человекоподобных существ (…) истребляли друг друга, убивая кинжалами, перегрызая горло, умирали от ужаса, умирали от голода и от всех болезней, которые царствовали в заражённом воздухе» [с. 87–91].
Необходимо указать на вероятность (из-за условности избранной формы повествования) слияния в читательском сознании образов автора и рассказчика21. Между тем если рассказчик, увлечённый перечнем событий с фиксацией дат, цифр, процентов, сконцентрирован исключительно на описании последствий катастрофы и не задумывается о её причинах, то для автора, моделирующего апокалипсическую структуру сюжета, ключевой является мысль о невозможности воплощения в реальность утопической идеи всеобщего равенства и благоденствия: быть может, людям и нужен образ хрустального дворца, виднеющегося где-то вдали, но это не значит, что они сумеют жить в нём. По сути, В. Брюсов вступает в диалог с Ф. Достоевским, который вывел универсальную формулу антиутопического сознания: человек не сможет жить в мире, где несвобода приравнивается к счастью. Желания человека иррациональны, он может желать даже страдания, хаоса и самоуничтожения, он хочет жить по-своему, поэтому самые лучшие условия жизни станут ему ненавистны, если будут кем-то навязаны22.
Мотив болезни в повести В. Брюсова следует рассматривать в контексте формулы Ф. Достоевского как иррациональный порыв к свободе, синоним инакомыслия, а не воплощение агрессивной злобы толпы. Трудно понять логику исследователя, который утверждает, что картина «конца всеобщего счастья» в повести «Республика Южного Креста» во многом предвосхищает риносерит Э. Ионеско: «Звёздный захлёстывает волна людей-носорогов – убийства, насилия, грабежи, поджоги. Люди возвращаются к животному состоянию, орды маньяков мечутся по городу, предаваясь вакханалии смерти…»23. Люди-носороги («одинокая толпа» (Э. Фромм)) жили в Звёздном городе до начала эпидемии mania contradicens: в финале повести те из них, кто остался в живых, возвращаются в надежде вернуть «утраченный рай» и, как прежде, «раствориться в единомыслии» – вот что, на наш взгляд, должно вызывать настоящий страх, почище любой «вакханалии смерти».
В финале повести В. Брюсов почти цитирует Великого Инквизитора (из вставной новеллы в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы»), который утверждал, что нельзя стать счастливым, не поборов свободы. Но если допустить, что «свобода связана с несовершенством, с правом на несовершенство» 24, то тогда следует признать, что «страсть» к разрушению и хаосу (= ненависть к сытой и спокойной жизни), о которой – вслед за Ф. Достоевским – пишет В. Брюсов, связана с присущим человеку страхом перед всякой завершённостью и окончательностью. Эта аргументация доведена до крайности А. Камю в «Мифе о Сизифе»: по-настоящему счастлив только Сизиф, так как вся его жизнь протекает в стремлении, которому не грозит удовлетворение25. Формула А. Камю как одна из составляющих антиутопического контекста созвучна и брюсовским представлениям о человеческом счастье – «пиджачный» уклад жизни «среднего европейца» всегда был для него символом пошлости. Может быть, отсюда и эстетическое принятие революции: как известно, В. Брюсов не сразу и далеко не по тем причинам, о которых писали в официальных историях литературы, принял диктатуру большевиков (в неопубликованных стихотворениях января-февраля 1918 г. «Страшных зрелищ зрителями мы…», «Рушатся царства. Народы охвачены…» он недвусмысленно говорит о новой власти как о насилии и бесовщине, как о наказании за исторические грехи России, выражает протест, но более всего – отчаяние), – впрочем, очень скоро пришло отрезвление и вернулось отчаяние26.
Подобно героям своей повести В. Брюсов не смог жить в «новом мире» и умер от «болезни противоречия», – в этом смысле «Республика Южного Креста» выполнила изначально предназначавшуюся ей роль пророчества (повесть-антиутопия).
Одним из самых совершенных произведений В. Брюсова по праву считается повесть «ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ЖЕНЩИНЫ» – genius loci его книги «Ночи и дни», включающей в себя этюды из современной жизни, объединённые, как указывается в авторском предисловии, общей задачей – «всмотреться в особенности психологии женской души»27. В целом сборник «Ночи и дни» представляет собой новый шаг в развитии В. Брюсова-прозаика: фантастические и условно-символические картины вытесняются здесь сюжетами, выдержанными в рамках бытовой конкретности и жизненного правдоподобия, на смену стилизации приходит «собственно брюсовский стиль тщательно выверенной и достоверной во всех частностях психологической новеллы»28.
Новый прозаический сборник В. Брюсова сразу же привлёк внимание читателей, особенно много отзывов вызвала повесть «Последние страницы из дневника женщины», за которую писатель даже подвергся судебному преследованию по обвинению в безнравственности. Современники же хвалили её за «классическую строгость языка, искусное распределение повествовательного материала и внешнюю занимательность фабулы» (без подписи), «совершенство формы… обилие подробностей и сильно отчеканенный язык» (С. Венгеров), «строгую архитектурность» (А. Альвинг), «яркий и живой образ женщины» (А. Закржевский). В то же время в адрес В. Брюсова раздавалось немало упрёков за «эскизность персонажей» (П. Струве), «односторонность миропонимания» (Д. Агов), «безвкусие «ассирийской» сцены» (С. Адрианов) и др.29
Повесть В. Брюсова написана в форме дневника молодой женщины из высшего света по имени Nathalie. Записи включают в себя события с момента убийства её мужа до суда над убийцей и в общей сложности охватывают чуть больше месяца. Дневник завершается небольшой припиской, сделанной через год после последней записи и выполняющей роль эпилога. Повествование фрагментарно и делится на 19 глав-микроэпизодов: большинство таких микроэпизодов разделяет 2–3 дня, т. е. героиня старается не упустить ничего более или менее важного из случившегося с ней в этот период жизни; но некоторые записи относятся к одному и тому же дню, в этом случае события одного дня дробятся надвое, а то и натрое, как бы накладываясь друг на друга, но не сливаясь, – тем самым подчёркивается экспрессивный характер героини.
С первых же строк обращает на себя внимание стиль повествования. Предложения краткие, односложные. Мысль выражается лаконично, вернее, просто констатируются факты, относящиеся к совершённому убийству. Рассказчица как бы самоустраняется от всех происходящих в доме событий – для неё более чем неприятных не столько из-за потери (гибели) нечужого для неё человека – как-никак муж! – сколько из-за того, что неожиданно нарушен привычный распорядок дня («…когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу» [с. 115]). Более всего её раздражает то, что в доме распоряжаются «чужие люди» (полицейские): «Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моём столе, на моей бумаге…» [с. 115]. Дополняет общее впечатление абсурдности происходящего диалог героини со следователем, переданный опять-таки без каких-либо ремарок: на все вопросы относительно её мужа (Сколько он хранил дома денег? Где был накануне вечером? С кем чаще всего встречался?) у неё один ответ – «не знаю».
Пожалуй, читатель мог бы разделить точку зрения следователя, подозревающего её, если не в самом убийстве, то как минимум в соучастии в нём, но избранная автором повести форма дневника, предполагающая предельную искренность героини перед самой собой, делает подобное предположение несостоятельным. Более того, как это ни странно на первый взгляд, положение, в котором оказалась героиня, начинает вызывать у читателя сочувствие. Особенно, когда, после её разговора с матерью – женщиной, несомненно, лицемерной и корыстолюбивой («Maman – злой гений всей нашей семьи. С раннего детства она учила меня и сестёр лицемерию. Мать готовила меня к одному: к разврату и к торговле собой» [с. 134]), – выясняется, что Nathalie ничего не знает о завещании мужа: «Я брала те деньги, которые мне давал Виктор на дом и на мои личные расходы, и больше ни во что не вмешивалась» [с. 116], хотя впоследствии оказывается, что она унаследовала немалое состояние.
Вместе с тем разговор с матерью уводит читателя от возникшего было соблазна сопоставления героини В. Брюсова с «посторонним» А. Камю (смерть близкого человека, чашка кофе у тела покойного, «нулевой градус письма» и т. д.). Nathalie не столь бескомпромиссна, как Мерсо: «…нельзя же нарушать установившиеся формы общежития» [с.117], что, впрочем, не мешает ей описание похорон мужа ограничить фразой: «Все говорили, что в трауре я была очень эффектна» [с. 121]. Внешний цинизм героини на самом деле таковым не является – это скорее попытка отстоять свою внутреннюю свободу, жить в соответствии со своими чувствами, а не по правилам, навязываемым извне («Благовоспитанность состоит в том, чтобы ничем не отличаться от других» [с. 134]).
Вскоре проясняется и более чем прохладное отношение Nathalie к смерти мужа. Оказывается, уже много лет каждый из них жил своей жизнью, не вмешиваясь в жизнь другого. Более того, у Nathalie имеется два любовника – опытный ловелас, художник Модест и юный романтик, студент Владимир: «В Володе я люблю его любовь ко мне. В Модесте – возможность моей любви к нему» [с. 121]. Собственно, контур сюжета повести и сводится к этому любовному треугольнику, а смерть мужа Nathalie лишь способствует завязке художественного конфликта, суть которого определяет сама героиня: «Любовь и страсть прекрасны, но свобода – лучше вдвое!» [с. 128]. После смерти мужа каждый из любовников предъявляет на неё свои права, не считаясь с тем, что она прежде всего хочет принадлежать самой себе: «… я молода, хороша собой, богата – зачем же я отдам всё это в чужие руки?.. Я хочу иметь и право, и все возможности любить того, кто ещё мне понравится и кому я понравлюсь. Как бы ни была глубока и разнообразна любовь одного человека, он никогда не заменит того, что может дать другой. Иногда один жест, одно слово, одна интонация голоса стоят того, чтобы ради них кому-то «отдаться»» [с. 132].
Художественный конфликт в повести В. Брюсова приобретает характер экзистенциального. Героиня оказывается перед выбором, который отягощён чувством ответственности за жизнь любовников, – каждый из них готов пойти на самоубийство в случае её отказа выйти за него замуж. Нежелание замужества, с одной стороны («…как только кончатся хлопоты по введению в наследство, я уеду за границу, на Ривьеру или в Швейцарию, и год или другой отдохну от своей замужней жизни. Мне надо стряхнуть и смыть с себя всю эту грязь, что пристала ко мне за годы вынужденного разврата» [с. 136]), и боязнь невольно стать виновной в чьей-либо смерти – с другой («Всем я предоставляла свободу любить меня или нет, быть мне верными или покидать меня. Почему же мне не дают такой же свободы, требуют, чтобы я непременно любила такого-то, любила именно так, как ему угодно, и столько времени, сколько ему угодно, т. е. вечно? А если я отказываюсь, он убивает себя, и мне весь мир кричит: ты – убийца» [с. 160]), на самом деле не оставляют ей выбора. Поэтому события сами по себе, помимо её воли, идут к легко предсказуемой развязке: самоубийство Владимира, арест и суд над Модестом. C'est la vie.
Но В. Брюсов не был бы В. Брюсовым, не заверши он повествование казалось бы невозможным, невероятным финалом в стиле боготворимого им Эдгара По. Для этого потрясающего эффекта ему и понадобился эпилог. Ещё в ходе повествования любовный треугольник почти мистическим образом приобретает форму пирамиды (гл. Х):
когда Nathalie неожиданно для себя узнаёт, что в неё страстно влюблена ещё и младшая сестра Лидочка, но отвечать на её любовь в то время она ещё не готова: «Всегда связи между женщинами мне были отвратительны» [с. 139]. Тем невероятнее, на первый взгляд, финал повести: «Лидочка едет со мной. Её преданность, её ласковость, её любовь – последняя радость в моём существовании. О, я очень нуждаюсь в нежном прикосновении женских рук и женских губ» [с. 164]. Здесь отразился так называемый «протеизм» В. Брюсова – стремление к утверждению всех возможных путей поиска истины о мире.
В заключение отметим, что многие современники в повести В. Брюсова «Последние страницы из дневника женщины» усматривали заимствование сюжетных ситуаций из скандального судебного дела М. Тарновской, слушавшегося в 1910 г. в Италии. Хотя сам писатель не признавал никакого сходства, можно предположить, что в основе брюсовского повествования лежит реальный эпизод из повседневной жизни, облечённый в форму дневника-исповеди главной героини описываемых событий. Выбор исповедальной формы повествования для В. Брюсова не случаен – она таит в себе неисчерпаемые возможности вариаций стиля: «нулевой градус письма» в одних микроэпизодах (I, II, IV и др.) чередуется с проникновенным лиризмом в других текстуальных фрагментах (III (описание чувства любви к Владимиру); V (загородная поездка с Модестом); XVIII (скорбь после смерти Владимира) и др.), что становится одним из жанрообразующих принципов брюсовской прозы (повесть-исповедь).
Особое место в брюсоведении занимает тема «В. Брюсов и античность», постоянно привлекающая внимание исследователей. В её разработке несомненными корифеями являются А. Малеин и М. Гаспаров. Последний выделяет два периода в творчестве В. Брюсова, когда античный мир всецело определял его поэтику, – это 1890-е и 1910-е годы: ранние стихи, юношеские драмы, первые переводы из Овидия и Вергилия, монография «Нерон»; и поздняя проза – романы «Алтарь Победы», «Юпитер поверженный», повесть «Рея Сильвия», серия новых переводов из римских поэтов и др.30
Первое, что бросается в глаза – интерес В. Брюсова к римской (в ущерб греческой) литературе. Права была М. Цветаева, когда после смерти поэта записала: «В. Брюсов был римлянином. Только в таком подходе – разгадка и справедливость (…) За его спиной (…) Капитолий, а не Олимп»31. Рим – Вечный Город – «олицетворение державности и символ мировой любви, ибо в зеркальном отражении Roma есть Лшог»32 – становится доминантой существования Децима Норбана Юния, главного героя «римской дилогии» В. Брюсова («Алтарь Победы», «Юпитер поверженный») и Марии, героини повести «Рея Сильвия», которую можно считать своего рода этюдом на полях «римских романов» писателя.
При всей художественной достоверности, точности и яркости бытового, археологического и архитектурного фона эпохи, изображённой в этих произведениях (IV и VI века), – они не лишены определённых недостатков, затрудняющих их восприятие. Имеется в виду перенасыщенность текста (особенно это касается романов) экзотическими латинизмами. Но «декоративный историзм» В. Брюсова (М. Гаспаров) не всегда и не всеми рассматривается как недостаток. В 1910-е годы В. Брюсову было чуждо понятие прогресса, в этот период он склоняется к теории самозамкнутых цивилизаций, каждая из которых интересна не тем, что в ней общего с другими, а тем, что в ней отлично от других. То есть, изображая ту или иную эпоху, В. Брюсов всеми силами подчёркивает её экзотичность, отдалённость от современности и поэтому насыщает и перенасыщает свою «римскую прозу» археологическими реалиями и лексическими латинизмами.
Дух Вечного города пронизывает словесную ткань «римской прозы» В. Брюсова и целой системой мифологических и исторических образов, она порождает прочные интертекстуальные связи, тот культурно-исторический контекст, посредством которого создаётся эффект восприятия Рима как «всемирного», «вселенского» города. Рим у В. Брюсова самодостаточен и не требует для своей репрезентации вмешательства писательского вымысла – в этом аспекте своеобразной «нитью Ариадны», ведущей читателя лабиринтами «римской прозы» В. Брюсова, должен стать мифологический словарь.
В нашей книге мы не будем подробно останавливаться на анализе романов В. Брюсова, тем более, что этим занимались многие исследователи творчества писателя задолго до нас, поэтому ограничимся рассмотрением малоизученной повести «РЕЯ СИЛЬВИЯ», отразившей эпоху заката и гибели Римской империи, которая привлекала к себе пристальное внимание В. Брюсова на протяжении всей его творческой жизни33.
Повесть состоит из семи глав и эпилога, который включает в себя развязку художественного конфликта. Завязка конфликта происходит в момент, когда полубезумная Мария отождествляет себя с Реей Сильвией – весталкой, матерью близнецов Рема и Ромула, легендарных основателей Рима. Завязке конфликта предшествует пространная экспозиция: в ней предстаёт Рим, захваченный готами: разруха, грабежи, пожары, голод; жители то покидают город, то возвращаются. На этом фоне развёртывается судьба Марии, дочери бедного каллиграфа, переписчика рукописей: девушка немного не в себе, она живёт в мире преданий, мифов, видений прошлого и бродит среди руин Вечного города.
Схематично структуру сюжета повести «Рея Сильвия» можно представить следующим образом:
гл. 1–2: экспозиция – разорение Рима; детство Марии;
гл. 3–4: завязка конфликта – мечта о возрождении былого величия Рима;
гл. 5: развитие действия – любовь-страсть Марии = Реи Сильвии и Агапита = Марса;
гл. 6–7: кульминация – беременность Марии; смерть Агапита;
эпилог: развязка – смерть Марии; лирическое отступление: миф и мир.
Двойственность пространственно-временного положения Рима VI столетия (в прошлом – великолепие, в будущем – обречённость) становится источником «клинического» раздвоения личности героини повести: «Мало-помалу Мария в мечтах создала свою историю Рима, ничем не похожую на ту, которую рассказывал когда-то красноречивый Ливий, а потом другие историки и анналисты… Она создавала легенду за легендой, миф за мифом и жила в их мире, как в более подлинном, чем мир, описанный в книгах, а тем более чем тот жалкий мир, который окружал её» [с. 264]. Рим описываемого в повести периода утрачивает свой статус Вечного Города: римляне живут «скудной, подавленной жизнью» и его будущее – «полчища диких лангобардов» [с. 284]. «Полуразрушенный, полупокинутый город», современный Марии, – не более чем ирреальное, «мёртвое» пространство («… своим мечтам верила она больше, чем действительности» [с. 284]): оно оживает и населяется по-настоящему живыми образами только в воображении девушки («…домой она возвращалась в уверенности, что сегодня повстречалась с богиней Вестой, а сегодня – с диктатором Суллою. Она вспоминала то, что пережила в мечтах, как бывшее на самом деле» [с. 268]), так римская культура оживает в подсознании героини.
Композиционным центром повествовательного пространства повести становится одна из доминант римской архитектуры – остатки знаменитого дворца Нерона – domus aurea («Золотого дома»), который, по свидетельству А. Малеина, «применительно к нашему времени, должен был воспроизводить прежнее Царское Село в центре Петербурга или Версаль в середине Парижа, но, конечно, в более грандиозных размерах…»34. Именно в подземном дворце Мария находит символ возможного возрождения Вечного города – барельеф с изображением Реи Сильвии, матери близнецов, основавших Рим: «…Мария мечтала о пышности будущего Рима, который будет основан новыми Ромулом и Ремом» [с. 277]. «Диалог с мёртвыми» достигает своего апогея – Вечный город возрождается в Человеке, принося девушке мучительную, но счастливую смерть.
Концовка повести – лирическое отступление автора: он обращается к своей героине («Бедная девочка!..» [с. 284]), надеясь, что в своём заблуждении она обрела счастье, недоступное более никому, – счастье видеть, как два полюса реальности, миф и мир, сливаются в единое целое.
Такой предстаёт повесть В. Брюсова при беглом чтении: смысл её в целом вроде бы ясен, но остаётся неприятное ощущение «непрояснённости» чего-то главного… И это ощущение заставляет читателя возвращаться к брюсовскому повествованию: ставить вопросы (Почему Рим?.. VI век?.. Мария?..) – искать ответы… И в конце концов прийти к очевидной мысли: в повести В. Брюсова преломляются все ключевые мотивы «петербургской повести» А. Пушкина «Медный всадник», – а главное, её катастрофическое мироощущение. По А. Пушкину, Петербург – город двоевластия: здесь разыгрывается противостояние природы и культуры. Брюсовский Рим – аналог пушкинскому Петербургу: главное событие повести А. Пушкина – наводнение, бунт природы против порабощающей её цивилизации, – у В. Брюсова перемещается в экспозицию и реализуется как нашествие варварских племён, превращающих Вечный город в руины. Сюжетный диалог «Медный всадник – Евгений» также находит своё продолжение в диалоге «барельеф Реи Сильвии – Мария». Системы образов в произведениях А. Пушкина и В. Брюсова, в свою очередь, пронизаны общими смыслами («цитируют и окликают друг друга»): образы статуи (Петра I) и барельефа (Реи Сильвии) метонимически замещают Петербург и Рим, воплощая их величие. Не вызывает сомнения и типологическое родство образов Евгения и Марии – безумие героев изображается как погружение в ирреальный мир, деформирующий действительность:
Евгения поглощает мания преследования, Марию – мания величия. Участь «безумцев бедных» заранее предрешена: окончательная утрата рассудка и смерть в водах Невы и Тибра.
Особо следует подчеркнуть, что образ Марии создаётся В. Брюсовым в соответствии с его пониманием места образа Евгения в структуре «Медного всадника». В пушкиноведении определились три основные парадигмы интерпретации этой «петербургской повести»: «парадигма Петра I» – апология государственности, «парадигма Евгения» – защита личности и «парадигма X» – примиряющая эти концепции. В последнее время участились попытки «нового», непредвзятого прочтения пушкинского текста: особый интерес у исследователей сегодня вызывает «парадигма стихии» – апокалипсическое (антиутопическое) пророчество35.
Общепризнанно, что для В. Брюсова поиски «парадигмы автора» в «Медном всаднике» свелись к «парадигме Евгения»36. Естественно предположить, что в повести «Рея Сильвия» пушкинское сочувствие Евгению проецируется на брюсовское сочувствие Марии: отсюда авторское «Бедная девочка…» в концовке произведения. Но более существенным, на наш взгляд, оказывается то, что финал повести В. Брюсова (в минуту смерти героини на Рим «уже двигались с Альп полчища диких лангобардов!» [с. 284]) позволяет рассматривать это произведение не только как «столкновение между действительной историей (жизнью) и историей (жизнью) мифологизированной, вернее – мифом, обретшим самостоятельное существование в реальном мире»37, но и в контексте пушкинского дискурса как апокалипсическое (антиутопическое) пророчество. Судьба Рима (гибель в результате нашествия варваров) в сознании В. Брюсова проецируется на судьбу России: здесь эстетский призыв «Где вы, грядущие гунны…» сменяется ожиданием – 1917 год рядом! – разрушительных перемен, как «в дни революции Петра».
Антитеза Востока и Запада – важная грань историко-философских взглядов М. Горького, нашедшая отражение в его публицистике и художественном творчестве: писатель «рассматривал русскую историю как вечный поединок между Западом и Востоком»38. Негативно воспринимая такие качества восточной ментальности, как созерцательность, пассивность, фатализм и пессимизм, М. Горький объяснял восточным влиянием чуть ли не все пороки русского народа, – «универсальное лекарство», панацею от всех бед он искал на Западе, в Европе39.
Художественный конфликт, система оппозиций повести «Городок Окуров» прямо связаны с размышлениями М. Горького о судьбе России. Авторская позиция (отказ от созерцательности Востока в пользу действенности Запада) прочитывается в подтексте повести: Окуров – городок мещанских нравов и мещанских добродетелей («пёстрый городок») олицетворяет провинциально замкнутое бытие России. Поражение в войне с Японией пробуждает национальное сознание окуровцев, стремление вывести Россию из замкнутого провинциального существования в ширь («на равнину») мировой жизни. Путей («дорог на равнине») много, тем сложнее сделать правильный выбор. «Антигерои» повести М. Горького выбирают разные пути, но их вектор направлен на Восток: проповедь (Тиунов), бунт (Вавило), молитва (Сима), покаяние (Лодка), – все эти пути, по мысли автора, гибельны для России… Все они упираются в стену непонимания, которая вырастает в сознании обывателя на почве страха свободы.
Л. Андреев – один из наиболее спорных, противоречивых русских писателей: с одной стороны, он близок к тенденции, которая идёт от Ф. Достоевского, А. Стриндберга и Ф. Ницше к немецкому экспрессионизму; с другой стороны, разделяет взгляды на человеческое существование с Ф. Кафкой и французским экзистенциализмом. Проза Л. Андреева сориентирована на отображение неразрешимых философских дилемм и сложных психологических состояний. В центре его произведений – проблема личности, исследуемая в духе экзистенциалистских антиномий: сознание – подсознание, свобода – несвобода, палач – жертва и т. п. Сосредоточившись на изображении опасностей солипсизма, Л. Андреев разрушительному напору самолюбования противопоставляет бесконечный поиск выхода из порочного круга человеческого отчуждения (замкнутости). Лирико-философский сюжет большинства его произведений составляет поединок свободного человеческого разума с непреодолимыми для него препятствиями – абсурдом, роком. Недостижимость мечты о прекрасном и свободном человеке трактуется Л. Андреевым метафизически, как непреодолимый закон бытия. Психологический рисунок прозы Л. Андреева подсказывает именно такую её интерпретацию.
В своём повествовании Л. Андреев воспроизводит не последовательность внешних событий во времени, а последовательность особых, специфических событий внутренней жизни героев: отдельные вырванные из памяти эпизоды соединяются при помощи, казалось бы, случайных воспоминаний, неожиданных ассоциаций При этом авторское сознание зачастую сливается с сознанием героев. Проза Л. Андреева фиксирует мир, опрокинутый в сознание, – точнее: сознание, отражающее и одновременно творящее мир по своим законам.