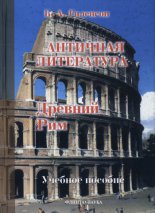Живая вода времени (сборник) Коллектив авторов

– А ведь все собачки в ошейниках, – задумчиво произнес Эрнст Алексеев. – Спасти, спасем, но в кутузку посадим.
– Хоть в кутузку, хоть в подземелье, только от них спасите, мы сознаемся, во всем сознаемся.
– Вася, давай! – приказал Эрнст.
Вася Пронский взял злодеев за воротники рубашек, поднял над головой, и так затряс, что боксер и колли свалились с них, как перезрелые яблоки с веток. А потом Пронский арестовал злодеев.
Собака-убийца в драке может и хороша, но слабо ей гнаться за сеттером, тем более по кочкам среди болот. Да и нюх у пса-убийцы слабоват, Степанычеву приходилось удерживать Квинта, чтобы убийца с шайтанчиком не отстали. Но вот и рубеж, Квинт с легкостью перескочил наполненный водой овраг, ссадил на землю Степанычева и грациозно понесся по заболоченному лугу. А вот пес-убийца до края оврага дотянулся лишь передними лапами, туловище его свисало вниз. Может быть он и выбрался бы, но за заднюю лапу ухватилась рука водяного.
Шайтанчик помогать псу не стал, наоборот, он по его голове, как по лестнице вылез на берег, а когда собака рухнула в воду, только почесал себе подмышку.
– Здорово, Гарри Поттер.
Шайтанчик испуганно оглянулся и задрожал. С дубинками в руках к нему приближались домовой и леший.
– Никакой я не Гарри Поттер, это я придумал, чтобы меня боялись, я обычный маленький шайтанчик.
– И зла не творил?
– Какого зла? Отпустите дяденьки, – пропищал шайтанчик, а про себя подумал: «Только бы спасись, потом я их по одиночке уделаю».
– И крови на тебе нет?
– Нет, – пропищал шайтанчик, и за спиной осторожно вынул спрятанный нож. Но руку обожгло, нож звякнул о камень, в испуге шайтанчик уставился на свою руку. Вцепившись зубами в его пальцы, там висела рыба.
– Крошки-щуренка испугался, дурак, – насмешливо булькнул водяной. – Глуши его, ребята.
Эпилог
Горели файеры, взлетали ракеты, трещал салют, хлопали петарды, ревели ревелки, орали и плясали студенты, брали интервью журналисты, а Тимофей в одиночестве сидел на траве. Подошел Петька и молча уселся рядом. Вскоре и Квинт примчался, рыкнул и, позволив себя погладить, убежал с Пифом по своим собачьим делам. Подошла Маша:
– Ребята, меня студенты на танцы и праздник победы пригласили.
– Иди.
– Так я пойду, ребята?
– Иди.
– Вы не обижаетесь?
– Иди, – сказал Тимофей, – у нас свои планы, не для девчонок.
А когда студенты шумною толпою ушли в свой лагерь, появился Степанычев с большой шишкой на лбу.
– Ну, как? – осведомился Тимофей.
– Сделали. Вот только он не Гарри Поттером оказался, а простым шайтанчиком, – устало ответил домовой.
– Не Гарри Поттером? Это хорошо.
– Чего же хорошего? Злых шайтанов много, а Поттер один. Вот если бы я его победил. Если бы я его победил, – продолжил Степанычев, – за меня любая невеста пошла бы. Если есть невеста, то будет семья. Будет семья, будет дом. А если нет дома, то где невесту взять? А без невесты семьи не будет, а семьи не будет, дом не потянешь. Понимаешь?
– Угу.
– Ну, то-то и оно. Собак мы спасли, шайтанчика победили, мне, Тимоха, домой надо, столько дел, столько дел.
– Иди.
Еще долго Тимофей и о чем-то задумавшийся Петька сидели молча, но и они отправились восвояси. Уже по дороге Петька вздохнул:
– Ну почему права только в восемнадцать лет дают? Мне еще столько ждать. А ты, Тимофей, хотел бы стать взрослым?
– Я? Да я за это котел макарон с сыром отдал бы, – серьезно ответил Тимофей. – Хотя… – и вдруг Тимофей задорно прищурился, – хотя, может быть, и сейчас бы его съел. А куда мне спешить. Столько дел впереди.
Арсений Анненков
Москва
Лето. Ветер пыльной тряпкой
Сушит Чистые пруды,
Солнце щиплет иномарки
За роскошные зады.
По-ефрейторски сурова,
Как дитя, всегда права,
Вдохновенно бестолкова,
Дремлет бабушка Москва.
Как положено – поезд, оставленный друг.
Разумеется, дождь, заоконная слякоть.
И уже перебор – стихотворный недуг.
Не хотелось скучать, а стараюсь не плакать.
Что поделаешь, рельсы – и те коротки.
Снова манят в ущелья гранитного глянца
Три вокзала – затоптанный остров тоски,
Людоедский, как наша привычка прощаться.
Весны не будет
Зима осталась здесь до ноября.
Устав морозом оживлять деревья,
Бывало, и капелями хандря,
Она достойно общее неверье
Несла и принималась за свое:
Пургою выла гимны, бодрым бегом
Гнала прохожих, била воронье
И к выходным белила мусор снегом.
Сухой асфальт обрывками газет
Всем обещал невиданное лето.
Повсюду утвердившись, серый цвет
Стал отрицанием самой идеи цвета.
Счастливчик-месяц в темном уголке
Один мог любоваться, как часами
Весна томилась с красками в руке
Над обессиненными небесами.
Балтика
Небу сестра и земле подруга.
Туго натянуты струны сосен.
Как в полусне ты – не лето, не вьюга,
То ли весна у тебя на душе,
То ли глубокая осень:
Тусклое солнце, серые воды,
Люди (на этой странице – петит).
Сладкий, холодный ветер свободы
В нашу пустыню не долетит.
Непогода
Непогода. Ртуть дневного света
Разлита вдоль белого окна.
Три недели слышит тишина
Быстрых капель микро-кастаньеты.
За окном покинутой планетой
Киснет долгожданная весна.
Дождь, что ночью шелестел сонеты
О скитаньях пилигримов-туч,
Днем, как содержание газеты,
Снова усыпляюще-кипуч.
Лист газетный (с обещаньем солнца
В рубрике прогноза) так же сер,
Так же стойко спит на дне колодца
В сырости активных полумер.
Первый снег
Первый снег подобрался к рекам,
В медсестер нарядил деревья
(Принаряженные калеки
Без листвы загрустили вдвойне).
Безнадежная радость доверья
К неизбежной зиме.
Ровный холод щекочет веки.
Первый снег, аккуратный такой,
Обнуляя цвета и пространства,
К нам идет. Не на службу – домой,
Вешать бирки на детские сны,
Всех возвысить до общей прямой
Непричастности и постоянства,
Уберечь от весны.
Утро
Долгих сумерек уродцы
Скрылись в неглубоких норах.
Молодые губы солнца
Обжигают тюль и штору.
Сотворяет свет обои,
Стол, кровати середину,
Мой зрачок, поклон алоэ
И мечты прямую спину.
Там, в мечте, лечу в луче я
Самой верткой из пылинок.
Непосильный казначеям,
Я мельчу любой учет.
Мной играет с увлеченьем
Свет, как я и прям, и зыбок
Просто в силу назначенья —
Обнаруживать полет.
Создатель прост и убедителен,
Как дождь в безлюдном переулке.
Как смех ребенка, плач родителей,
Как табурет в конце прогулки.
Мишень, возможность попадания
И кровь того, кто не промазал, —
Вот все истории создания.
Доступно. Внятно. Без отказа.
Смерть и поэт
Жизни-трудяге есть дело до каждого пустяка,
Но, хоть она всякий день
принимает любого прохожего,
Только Смерть и Поэт,
как два самых прилежных ученика,
Постоянно толкутся в ее прихожей.
И не то, чтобы Смерть и Поэт ревновали
друг к другу, нет,
Просто им в тесноте порой никуда не деться:
то вдруг Он ей отвесит двусмысленный комплимент,
то Она от избытка чувств поцелует Поэта в сердце.
Жизнь озабоченно выглянет из-за дверей,
громко вздохнет и глянет на них построже,
втайне довольная старой привычке своей —
двух самых преданных
и самых придирчивых учителей
сталкивать сразу же, прямо с порога, в прихожей.
Закатав штанины до коленей,
А глазенки к небу закатив,
Топчется поэт по белой пене,
Сеть души лохматит об отлив.
Разноцветных рыб на серый камень
Вывалит потом и без конца
Будет молча разводить руками,
Изумляясь мастерству Творца.
Стихотворение про вдохновение
То решительно, то несмело,
На малой скорости,
Со стороны затылочного отдела
Теменной области
Подбирается вдохновение. Его путь долог —
Столько нужно достать с высоченных полок,
Столько ингредиентов смешать на блюдце,
Столько собрать резолюций
И совершить революций,
Что лишь напрочь забытым способно оно заявляться.
Но еще не закончишь за ним подметать-прибираться,
С близвисящих ветвей не начнут еще критики собираться,
А оно уже где-то в пути —
След твой ищет на снежно-белом.
Долго сердцу грустить
По его разноцветным стрелам.
«Вот дом, который построил Джек…»
(из английского фольклора)
Сей храм возвели на деньги компании.
Об этом гласит не столько табличка на здании,
сколько собственно здание, плохо копирующее Ниццу
на фоне русской деревни, а также лица
входящих в него моих сослуживцев.
Глядя внутри как притихшее руководство
борется с чувством собственного превосходства
перед Матерью с Сыном,
затылком читая о чем просили,
я рассуждаю о милости Высшей Силы,
о том, что величие наше, наша убогость
одинаково верно выводят к Богу.
И. Бродскому
Каждое утро нам день возвращает на плечи.
И начинает скорее катить его к новому вечеру,
Не уставая шептать потревоженному сознанью,
Что день наш обычно имеет не больше общего с явью,
Чем наша обычная ночь. И возразить тут нечего.
Каждое утро твердит недоверчивому воображению,
Что абсолютный покой – это лучшая форма движения.
Мы посему никогда не выходим из дома,
Где та же контора – одна из немногих комнат.