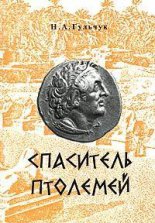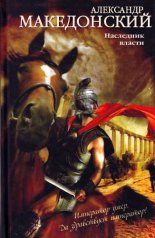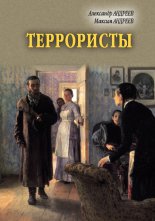Другие барабаны Элтанг Лена

Год был на редкость неудачный. Из «Янтарного берега» меня выставили еще осенью, квартиру на улице Руднинку пришлось покинуть, я остался должен хозяину пару сотен. Город, где ты теряешь крышу над головой, сразу меняется, становится тебе великоват и наполняется сквозняками, особенно, если дело к зиме. Я шлялся по улицам, читал газеты в кафе, просматривал объявления о работе, выпивал за день фляжку дешевого молдавского коньяку и приходил к девчонкам ночевать. По утрам Габия уходила в академию, а ее сестра будила меня, варила кофе в закопченной турке, и мы пили его вдвоем, смахнув с рабочего стола лоскуты. Соля ходила по дому в чем-то вроде короткой рубашки без рукавов, и я дразнил ее tunicato popello — народишко в туниках.
Однажды утром я открыл глаза оттого, что Соля стянула с меня одеяло. Я увидел ее лицо над своим лицом и понял, что она немного старше, чем я думал. Потом я заметил полоску плохо выбритых волосков на ее голени, наверное, она торопилась, к тому же в ванной у девочек никогда не бывало свежих лезвий. Теперь у меня было две любовницы, одна утренняя, другая ночная, но это оказалось вовсе не так забавно, как мне представлялось. Не прошло и двух недель, как я начал томиться, путаться в именах, мне до смерти надоел пропахший мускусом чулан, и я здорово обрадовался, когда, позвонив домой, услышал, что мать, наконец, переезжает.
В начале мая, когда на улицу Св. Йонаса приехала машина за вещами, я целый день грузил мебель, таскал книги в связках, выслушивал указания, обещал послать объявления во все газеты, и только ближе к вечеру, когда мать села в кабину фургона и наклонилась, чтобы ткнуться носом мне в щеку, я вдруг понял, что остаюсь один, и немного насторожился. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, тут должен был быть какой-то подвох.
Я вернулся в дом, обошел пустые комнаты, распахнул оголившиеся окна, сел в кресло, закрыл глаза и понял, что никому не стану звонить. Я впервые жил в этом доме один: я мог вставать, когда захочется, читать в тишине, отключать телефон, никого не спрашивая, я мог грызть орехи и бросать шелуху на ковер, я мог позвать знакомых — как жаль было, что Лютас в Германии! — и пить с ними водку в бабушкиной спальне, где столом служило теперь перевернутое трюмо.
Мать звонила мне из Друскеников каждую неделю, но ее жалобы и упреки скользили в прохладном воздухе пустой квартиры, будто облачка, выдуваемые персонажами комиксов. Я ничего не хотел знать и не хотел давать объявлений, напротив — я собирался жить в обретенном раю до того сентябрьского дня, когда хаос постучится в обитую коричневой кожей дверь. В роли хаоса выступал мамин знакомый маклер, он должен был вернуться в город в начале осени, и я был намерен тянуть до последнего.
Когда маклер, наконец, отыскался, я почувствовал себя правителем Лаваном из «Йоги-Васиштхи», которому некий волшебник посмотрел прямо в глаза. От этого взгляда Лаван перенесся в другой мир, прожил там семьдесят лет в нищете и, вконец отчаявшись, решился накормить детей своим телом. Сказав жене не забудь посолить мясо!, он проснулся в своем дворце и понял, что прошло всего несколько минут, а волшебник стоит перед ним и усмехается.
— Ну что же, мальчик, — сказал маклер, появляясь на моем пороге вместе с каким-то раскосым типом в дубленке, — квартира продана, вот ее новый хозяин. Давай сюда ключи и выметайся.
...город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
— Нет, Косточка, нам этого нельзя, — сказала Зоя, когда я попытался прижать ее к себе, до этого она лежала рядом с закрытыми глазами, а тут вдруг отодвинулась и весело на меня посмотрела. Синеватый свет от уличного фонаря падал на ее лицо, такое запавшее, острое, что тени под скулами казались заштрихованными угольным карандашом.
— Потому что ты моя тетка?
— Какая я тебе тетка, — Зоя нахмурилась. — Никакая я тебе не тетка. Причина в другом: ты и я на три четверти состоим из воды. Печально, правда?
— Печально, — согласился я.
— Выходит, если мы соединимся, то воды станет шесть четвертей, и она перельется через край. Все здесь поплывет, вода закружится, свернется воронкой и быстро-быстро унесет и кровать, и гостиницу, и город, и эту маленькую смешную страну, и без того похожую на замерзший аквариум. Спи, скоро совсем рассветет, — сказала она и тут же заснула сама, будто в воду упала.
Я поднялся с кровати, набрал номер ночного портье и попросил принести горячего чаю с медом и лимоном. И еще немного виски. Зоя спала, простуда медленно растворялась в ее крови, дыхание становилось трудным, лоб горел.
— Косточка, нельзя, — я сказал это тихо, не пытаясь ее разбудить. — Мне все-таки не пятнадцать лет, как тогда в Лиссабоне, когда та кормила меня орехами с руки, будто домашнюю белку. Раз так, я буду звать тебя тетушкой, нет, еще хуже — теткой. И так буду звать всегда, пока ты не перестанешь разговаривать со мной как с ребенком.
Не знаю, услышала ли тетка мои слова, но она пошевелилась и положила голову мне на плечо, а руку — на грудь. Голова показалась мне невесомой, а рука прохладной, от руки по моему телу понеслись муравьи, огромные, ледяные, крепкие муравьи, мирмидоняне в тяжелых доспехах, я услышал, как мое сердце больно ударилось в ребра и остановилось. Мне и до этого клали руку на грудь, и даже несколько раз. Мне нравилось, как ты это делала, Хани, я помню ту ночь в доме твоих родителей, я, правда, помню. Но тут было что-то другое, рот у меня пересох, а тело расправилось как тряпичная кукла, когда в нее вдеваешь руку, как же она называлась?
Степка-растрепка? Дурилка картонная?
Я мысленно взлетел к потолку и увидел нас обоих сверху: две изогнутые светлеющие линии на черном фоне, дремучем, как на гравюре меццо-тинто. Медную доску для такой гравюры нарочно делают шероховатой, вот и по мне как будто прошлись гранильником: зрение обострилось, слух помутился, осязание исчезло.
Почему я подумал про гравюры? Потому что чувствовал себя ошалевшим тореро с одного из офортов «Тавромахии» — того, что называется смерть алькальда из Торрехона. Бык прыгнул в ряды! Ему наскучили красное пятно плаща и щекотка копий, он хочет к людям, он сам хочет быть зрителем, но люди бегут прочь, оставляя одежду и шляпы на ступенях амфитеатра, и только запрокинутое лицо матадора виднеется за оградой, его шпага нелепа, его треуголка слетела, его розовые гольфы просто смешны.
Пишу это и ловлю себя на том, что, говоря о тетке раньше, я пользовался только сравнениями, цитатами, разлохмаченной кистью чужих восхищений, как будто боялся узнать, что я на самом деле думаю. Да что я вру, не говорил я о ней раньше никому. Разве что с китаистом перекинулся парой слов. Но ты же знаешь китаиста, у него все либо мудрые лахудры, либо потаскушки, а все остальные — собаки страшные.
Я ведь мог называть Зою «тиа» на португальский манер или «тята» — на литовский манер, но назвал как можно обиднее, как можно более неподходяще. Два дня я носил за ней сумку, пил с ней из одного стакана, держал ее голову у себя на плече, но так и не догадался, что она больна, что ее простуда никакая не простуда, а витамины никакие не витамины. Мне и в голову не приходило, что через семь лет эта женщина умрет, плоская, будто материк Джамбудвипа с высокой, но единственной горой Меру.
Теперь я понимаю, как отчаянно тетка сопротивлялась, ей не хотелось уходить, не хотелось превращаться в пепел, чтобы тихо пересыпаться в полосатом жестяном маяке подобно песку в часах. Про маяк я еще напишу, ставлю здесь галочку. Говорили, что у нее были романы с мальчишками-аукционерами, с пожилыми торговцами стариной, да бог знает с кем еще — у нас в доме об этом упоминалось с отвращением, а я вообще не мог представить тетку в объятиях человека с молотком, который так важно произносит «продано».
С тех пор, как настоящие хозяева умерли, дом на Терейро до Паго тихо гневался и хирел, обдираемый скупщиками, его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре показалась кочерыжка: голые ясеневые доски пола и белые крашеные стены. Тетка продала четыре персидских ковра с сосновыми шишками, целую груду килимов, мавританские фонари из серебра, да бог знает что еще, не помню. Она не тронула только спальню старой сеньоры. Под дверью этой комнаты скопился мелкий бумажный сор и пыль, поначалу я тоже туда не заходил — ключа в замке не было и мне было лень его разыскивать.
Больше всего мне нравился кабинет Фабиу, где было полукруглое окно-фонарь. Я знал, что тетка переселилась туда прошлой осенью, когда окончательно слегла. Так кочевники меняли стоянку, если в племени кто-то подхватил лихорадку, считалось, что болезнь останется в земле прежнего становища, вместе с костями и тлеющими углями. Когда-то это была лучшая комната в доме, самая тихая, с потрескавшимся кожаным диваном и сигарным столиком — может быть, поэтому Фабиу выбрал другое место, когда решился покончить с собой. Он застрелился зимой девяносто четвертого, рано утром, перед дверью материнской спальни. След от пули в стене давно заштукатурен, а разбившаяся коридорная лампа, которую в доме звали грабарчиком, по имени подарившего ее теткиного друга, удачно склеена и стоит на своем месте.
— Все началось гораздо раньше, — сказала тетка, когда я спросил ее о подробностях. — После вашего с матерью отъезда Фабиу стал спать у себя в кабинете, говорил, что работает по ночам. Однажды утром он долго не показывался, и я решила отнести ему кофе, по утрам он любил есть овечий сыр с инжиром, а нам как раз принесли корзину сушеных фиг в подарок. Было зимнее дождливое воскресенье, дверь в кабинет немного разбухла, я поставила поднос на пол и толкнула дверь обеими руками. Фабиу сидел на разобранной постели полностью одетый: в траурном тесном костюме, черном галстуке и лакированных ботинках. Я поставила поднос возле кровати, поздоровалась, как ни в чем не бывало, взяла его за руку, но он не желал со мной говорить, а рука была легкой и холодной, будто обледеневшая ветка. В то утро я оставила его в покое, мы относили ему еду и ставили под дверью, но он пил только воду, а через неделю Агне вызвала врача, у нее всегда было меньше терпения.
— Повернись ко мне, — я погладил тетку по плечу, но она продолжала говорить, лежа ко мне спиной. Темнота за балконным стеклом посветлела от утреннего снега, снег шел плотно и быстро, мне страшно хотелось курить, но я боялся, что Зоя замолчит, и терпел.
— Он никогда не впадал в отчаяние без причины, и я стала думать. Сначала я подумала, что он переживает из-за той девочки с нашей улицы, что пропала в начале января, Мириам, об этом тогда много говорили. Помнишь дом на углу руа Беко с изразцовым портиком? Вот там они и жили, над лавкой молочника. Мы плохо их знали — у этой семьи вообще было мало знакомых, они избегали даже соседей. Мириам жила со своей матерью-бакалейщицей, та заявила было в полицию, но быстро успокоилась. У девочки была какая-то болезнь, от которой лезли волосы, и она всегда ходила в косынке. Дочь училась с ней в школе и рассказывала, что Мириам приходится тяжко, даже завтракать она удалялась во двор, чтобы не слушать замечаний, некоторые говорили, что находят ее волосы в своем какао, и все такое прочее.
Помню, что, слушая Агне, я представила себе одинокую девочку в красном пальто, на заднем дворе школы, сидящую с надкушенным бутербродом в руке. В ней и правда была эта штука, непричастность, такая всегда бывает у больных детей, какое-то покорное ожидание и нежелание быть замеченным. Ты сам-то можешь себе представить, что забираешься в песочницу, а дети разбегаются оттуда, как будто ты принес им чуму? Да нет, куда тебе, ты же был ясноглазым малышом, просто херувим с пасхальной открытки.
— Ты как-то зло это сказала! Я ведь не виноват, что ты помнишь меня младенцем.
— Итак, в январе она исчезла, — тетка продолжала, как будто не услышав. — Полиция искала ее даже в реке, хотя Мириам никогда не купалась. Бакалейщица вскоре переехала в другой район. После нескольких визитов доктора муж пришел в себя, повесил черный костюм обратно в шкаф, начал гулять с собакой по вечерам, но при этом улыбался нам такой старательной мерзлой улыбкой, что лучше бы не улыбался совсем.
— А потом? — спросил я.
— А потом я нашла его с дыркой в голове, — сказала тетка. — У него был отцовский именной пистолет, он лежал в нише за бразильской гравюрой Дебрэ. Наследства мы не получили, все семейные деньги достались его сестре, так уж было составлено завещание Лидии. Хорошо еще, что дом тогда не был заложен, и мы остались без гроша, но с надежной крышей над головой.
— Он оставил тебе письмо?
— Да, в запечатанном манильском конверте, но я не стала его читать. Помню, что на обороте конверта были в столбик написаны какие-то имена: кажется, Bandonga, и еще что-то непроизносимое в этом роде, — тетка пожала плечами.
— Bandonga — это богиня лузитанских кельтов, — важно заметил я. — Может, он подыскивал пароль для компьютера?
— Какой там компьютер, — она махнула рукой, — это же был девяносто четвертый год. Одно время Фабиу пытался писать воспоминания, а я над ним смеялась: с его шершавым слогом только приказы по канцелярии издавать. Он был hombre masa, но мнил себя художником — это, знаешь ли, случается со слабыми людьми. Все его причуды казались мне малахольными, особенно эта неистовая страсть к стирке: терраса была вечно заставлена сушилками, утром он должен был загрузить машину еще до завтрака, а если стирать было нечего, то он стирал то, что только что высохло. У нас были чудовищные ссоры, Косточка, я доводила его до слез, он уходил в комнату матери и сидел там часами, запершись на ключ.
— Твой муж был с приветом, и ты ничем не могла ему помочь. Что толку мучиться?
— Однажды мне приснилось, что Лидия сидит там в своем кресле-качалке, в парадном жестком платье, — она не слушала меня. — Будто Инеш ди Каштро, мертвая королева, которой придворные целовали высохшую руку. Она смотрит в окно, а муж положил голову ей на колени и жалуется на весь белый свет. Никогда не потешайся над людьми, Косточка, это наказывают очень строго. И не ссорься, а то они умрут и оставят тебя одного.
— Подумаешь, ссоры, — сказал я, — вон Аполлинария Суслова била Розанова мордой об умывальник, и ничего. Лучше скажи, что ты сделала с пистолетом? Или его полиция забрала?
— Сначала забрала, а потом вернула. Это было наградное оружие, с гравировкой на серебряной щечке: за верную службу от генерала Умберту Делгау.
— Его можно было продать или отдать в музей, — сказал я неуверенно.
— Absurdo. Я повесила его в гостиной, на ковре, на самое видное место, — сказала тетка. — Думаю, что Лидии это было бы приятно. Он и теперь там висит.
If England was what England seems.
— Ладно, хватит. Я скажу вам, кто за всем этим стоит, и вы меня отпустите.
— Вы намерены назвать сообщника? — Пруэнса деловито взялся за карандаш. — Только не морочьте мне голову своими метисами, северянин, вы метиса от мулата не сможете отличить.
— Не сообщника, а виновного. Лютаурас Рауба, вот это кто. Не знаю, кто именно захотел смерти этой датчанки, скорее всего, здесь замешана политика, а не деньги. Ясно, что ее заказали, чтобы избавиться от угрозы шантажа. В одном я уверен: свалив на меня это убийство, Рауба заработал достаточно сребреников, чтобы вернуться в Германию и снять свой фильм, о котором он прожужжал мне все уши.
— Черный чай будете пить, Кайрис? — он двинул чайник на мою сторону стола, словно шахматную фигуру. — Итак, ваш друг преступник, и вы можете это доказать. Валяйте! Vai com Deus! Сегодня я работаю сверхурочно и готов слушать хоть до полуночи.
Чаю я хотел, но не того, которым поили в этой тюрьме, по крайней мере, не того, что дымился на столе Пруэнсы. В стакане плавали кусочки печенья, похожие на сизую пленку чайного гриба.
— Больше некому, вот и все доказательство. Он знал про камеры и сервер, потому что сам их поставил, он путается с трансвеститами, потому что снимает порно для частных показов, он мог подослать мне белокурую шлюху, потому что точно знал, на что я поведусь, а главное — только он мог питать ко мне вражду.
— Вражду? — он протянул руку и подвинул чайник обратно. — Вы признаете, что у вас был конфликт с сеньором Раубой, и готовы рассказать нам подробности?
— Мы собирались сделать вместе один проект, он хотел использовать мой дом как декорацию, а камеры развесил, чтобы опробовать технику. Но потом случилось кое-что неприятное, мы поссорились, и я его выставил. Вернее, он сам уехал, когда я спросил у него об одной вещи. У меня пропала вещь, понимаете? Ей черт знает сколько лет, и она всегда была со мной, а пропала, когда Лютас появился в доме. Ну, я и подумал на него, как последний мудак, desgraado.
— Понимаю, — Пруэнса поцокал языком, — вы обвинили Раубу в краже, он не сознался, и у вас случилась потасовка. Врукопашную или с применением оружия?
— Да какая там потасовка, он просто обиделся и уехал не прощаясь. Даже камеры свои оставил и на письма два года не отвечал. Потом, правда, смягчился, согласился встретиться со мной в эшторильском кафе (вернее, прислал письмо с двумя словами: буду, жди), но так и не пришел.
— Вы нашли свою пропажу?
— Нет, не нашел, но понимаю, что тавромахии Лютас не брал. Может, дело было не в этом, а в том, что я подвел его с фильмом, разорался, велел прекращать работу, да еще выставил дураком перед актерами. Не думал, что он так люто обидится и захочет отомстить.
— Месть — это когда король Педру Первый велит вырвать сердце у еще живых убийц, подосланных его отцом, Альфонсу Четвертым. А то, о чем вы рассуждаете, это русский цирк.
— Вам виднее. Будем считать, что он впутал меня в эту историю просто так, для смеха.
— А вам не пришло в голову, что эти же манипуляции мог проделать кто-то другой? — следователь посмотрел на меня с сомнением. — Разве у вас только один враг, Кайрис? Разве вы никого против себя не настроили за то время, что живете в этой стране, никому не причинили вреда?
Я молча сидел на своем стуле, глядя в плотно занавешенное окно. О да, я настроил, я причинил. Взять хотя бы мою сестру Агне, которую я мало того, что выставил из дома, так еще и обобрал до нитки. Но куда мне было деваться? Зимой две тысячи пятого, прожив полтора года в доме, где отопление и свет стоили столько же, сколько альфамская мэрия тратит в год на десяток бездомных, я понял, что не смогу отослать в «Сантандер» ни проценты, ни выплаты по закладной. Пришлось совершить то, что я поклялся не делать рог nada en del mundo — запустить руку в наследство моей непутевой сестры. Я обнаружил его давно, но все никак не решался написать об этом нотариусу. Теперь же, когда дом на Терейро до Паго покачнулся, затрещал по швам и стал оседать под грузом банковских последних предупреждний, у меня просто не осталось выбора.
Если бы не стрекозы, сдавшие мне последний тайник семьи Брага, даже не представляю, как бы я выкрутился. Я утешал себя мыслью, что, знай тетка о мужнином тайнике, она упомянула бы его в бумаге, однако там было сказано буквально: «все остальное — дочери». В отчаянии Агне решила вывезти книги и остатки фарфора, она бы и столовую с кудрявыми стульями вывезла, не будь этот бидермейер таким громоздким. К тому же, оказалось, что за склад нужно было платить серьезные деньги, а контракт сестры в Агбадже был подписан на три с половиной года. Она махнула рукой и оставила все стоять на местах. Так что дом остался нетронутым, вернее — только наполовину вырубленным, с торчащими повсюду пеньками вишневых деревьев. А потом пришел я, бесстыжий наследник, и вырубил остальное.
Сейф глубиной в четверть метра был надежно укрыт в комнате бывшей хозяйки, я бы и сам его не заметил, если бы не обрывок обоев, похожий на завернувшееся собачье ухо. В тот день я с утра не выходил из дому, ждал броканта и своего бывшего шефа Душана, тот обещал помочь упаковать и снести вниз огромное зеркало из спальни старой хозяйки. Душан уволил меня несколько недель назад, и я воспользовался его славянским чувством вины — будь он португальцем, он бы и разговаривать со мной не стал. Зеркало было старинным, работы Луи Арпо, я продал его по объявлению в Интернете всего за две тысячи, за вычетом доставки и налога оставалась совсем ерунда. Брокант оказался занудой — сначала потребовал десять фотографий, потом тянул еще несколько дней, отписываясь короткими извинениями, наверное, пытался сбить цену на пару сотен, и в конце концов, сообщил, что приедет в воскресенье.
Первым явился Душан, осмотрел столетний objeto в пигментных пятнах, занимавший половину стены, почесал нос и сказал, что снимать зеркало придется вчетвером. Спустившись во двор покурить, он вернулся с двумя молодцеватыми тайцами из винной лавки — удивительное дело, я живу в этом доме седьмой год и не знаю никого из соседей по имени. Они долго примеривались, потом схватили раму и потянули немного вверх, чтобы снять воображаемые петли с гвоздей, но зеркало внезапно подалось и тяжело отъехало в сторону. Тайцы восхищенно зацокали языками. Сначала я увидел узкие стальные рельсы в полу, по которым двигалась рама, потом, присмотревшись, — отклеившийся от стены кусочек обоев с разрезанной пополам стрекозой.
Я отозвал Душана и попросил вывести соседей в кухню и налить им по стаканчику. Оставшись в комнате один, я подошел к стене и потянул за стрекозиную голову, от стены отделилась дощечка, державшаяся на двух гвоздях, за ней я увидел сейф с кодовым замком на дверце. Замок был старомодным, устройство сейфа смахивало на арифмометр: нужно было крутить рифленое колесико, пока в окне не выскочит верная буква.
Снизу позвонили: приехал нерадивый брокант. Я повесил дощечку обратно, нажал на рычаг и с трудом подвинул раму на место. Дойдя до кабинета, я достал с полки «Мифы Лузитании» и переписал на листок имена нескольких богов, значившихся в списке. Потом я спустился к броканту, ожидавшему на кухне, где мой начальник уже откупорил бутылку вина, а тайцы звенели разномастными стаканами.
Bandonga или Ataecina? — крутилось у меня в голове. В окошке всего восемь букв, так что туда не поместится многосложный красавец по имени Tongoenabiagus. Ясно, что Фабиу оставил жене пароль от сейфа, вот только — почему на конверте, он что же, был уверен, что она его письма читать не станет? А что, если сейф окажется пустым? Нет, лузитанские боги не могут меня подвести, к тому же, глядя на дверцу, я ощутил знакомое покалывание в пальцах, предвещающее радостные перемены.
— Машина будет ваша? — осведомился брокант, оказавшийся пожилым лоснящимся педиком, на голове у него была какая-то соломенная ость, пересохшая от перекиси водорода.
— Машина не понадобится, — весело ответил я. — Приношу свои извинения. Вы слишком долго откладывали покупку, сеньор, зеркало уже продано.
Разочарованный брокант удалился, бормоча себе под нос что-то вроде vai se foder, русский придурок — в этой стране меня принимают за русского, потому что о литовцах они вообще не слышали. Когда Душан прикончил бутылку и отправился домой, а тайцы отбыли в винную лавку, я поднялся на второй этаж и открыл сейф. Перед этим мне почудилось, что в комнате стало слишком темно, и я отдернул шторы, подумав, что со дня смерти Лидии окон здесь не открывали. На подоконнике толстым слоем лежала пыль, пахнущая почему-то валериановым корнем, такая же пыль струилась из складок темной внутренней шторы.
Я начал с богини плодородия и не угадал. Остальные боги тоже не подошли. Не подошло ни название переулка, ни «ZOEBRAGA». Тогда я подумал немного, посидев на полу перед зеркалом, и набрал «MYMIRIAM». Дверца распахнулась беззвучно, в глубине сейфа виднелась шкатулка: лиможская эмаль, синяя с золотом, классический ларчик аббата. У самой дверцы лежала книга, переплетенная в холстинку, так что названия не было видно. Это выдавало ее читателя — Фабиу. Мне уже попадались такие обертки в его библиотеке, вернее, в том, что от нее осталось, когда разгневанная Агне прислала двух болванов за книгами и вывезла томов триста неведомо куда.
Мне страшно хотелось открыть шкатулку, но я медлил, слушая, как предчувствие заполняет меня, будто дождевая вода петли садового шланга, постепенно и упорно расправляя каждый изгиб и залом. Что бы там ни оказалось — засушенная бабочка на булавке или налоговые квитанции — сейчас у меня будет настоящая возможность поговорить с Фабиу. С человеком, о котором я знал не больше, чем о собаке Руди: я знал, что он жил с теткой какое-то время, а потом умер.
Я достал книгу, открыл ее там, где лежала закладка из газетной бумаги, и прочел первый абзац. «Мой сад — это сад возможностей, сад того, что не существует, но что могло и должно было существовать, сад идей, которые не воплотились, и детей, которые не родились. Я выдержал бой с моими извечными врагами — красноречием и здравым смыслом. Ужасающий бой, врукопашную».
Закладка была сложена корабликом, я развернул его и увидел заметку о пропаже альфамской девочки, тусклая фотография не давала разобрать ее черты. Я поискал дату, но она, как и название газеты, была аккуратно оторвана по сгибу. Рядом лежал другой снимок, более четкий: большеротая школьница, совершенно лысая, сидит на подоконнике, подтянув колени к подбородку. Подоконник на снимке был без сомнения здешний, с двумя продольными выемками, оставшимися от прежних рам со свинцовым переплетом. Я сложил закладку пополам и сунул на место, потом положил книгу на пол и протянул руку за шкатулкой, открывшейся с еле слышным, покорным щелчком.
Семейные tesoros тускло отливали венецианской зеленью. Шкатулка не была набита до краев, наверное, мать и сын продавали оттуда понемногу — el ltimo suspiro, но в ней было достаточно, чтобы у меня помутилось в глазах. Два изумрудных гарнитура были раздроблены, гранаты чернели безупречными зернами, из браслета в форме уробороса вынут змеиный глаз, по всей видимости, бриллиант, несколько сломанных колец тоже зияли пустотами. Зато на самом дне обнаружился розовый жемчуг, способный заткнуть огнедышащую пасть «Сантандера» по меньшей мере года на два.
Как сейчас помню: первой моей мыслью было позвонить сестре, но я подумал немного, свернул себе толстую самокрутку, еще подумал и решил повременить. Потом я выгреб из шкатулки несколько браслетов, поставил ее на место, захлопнул сейф, задвинул зеркало и поехал к Лилиенталю.
Мой бывший шеф Душан рассказывал, что его бабка считала дьявола черным псом. Вся Земля, говорила она, устроена на ветвях боярышника, к которому привязан большой черный пес. Пес постоянно грызет боярышник, и, когда остается совсем немного, он начинает рваться изо всех сил, чтобы его сломать. От этого Земля трясется, но не разрушается, поскольку стоит стволу треснуть, как прибегает святой Петр, крестит дерево жезлом, и оно снова делается целым. Сегодня, уходя от Пруэнсы, я чувствовал себя обломанной веткой боярышника, отдаляющейся от куста медленно, н неумолимо, мы шли по пустому коридору, и мне в первый раз захотелось услышать голоса других заключенных, сам не знаю почему. Я остановился на верхней ступеньке лестницы, стукнул кулаком по железным перилам и закричал:
— Люди! Я Константинас Кайрис! Сижу в одиночке! Адвокат уже две недели не приходит! Жена не приезжает! Друг не звонит! Кто-нибудь отзовитесь, черт бы вас побрал!
— У тебя есть жена? — охранник постучал меня по спине, я ожидал крепкого тычка и удивился его добродушному виду. — Ни за что бы не поверил. Напрасно ты орешь, здесь тебе никто не ответит. Это тебе не кутузка с блядями, а образцово-показательный острог.
Теперь я весь свой груз спустил бы задарма —
Фламандское зерно и английские ткани.
Пока на берегу шла эта кутерьма,
Я плыл, куда несло, забыв о капитане.
Усилие шатунов, тяжелый выдох пара, постукивание по стыкам, духота купе — я люблю поезда, хотя ненавижу слабый чай и сажу в умывальнике. То же и с Лилиенталем — несмотря ни на что, я люблю этого пижона, набитого французским и немецким, будто подушечка для иголок, с торчащими отовсюду остриями грязных шуточек.
Когда у меня туго было с деньгами, я обедал в одном дешевом клубе фадо, еще не разведанном туристами, дело там было не в плохой певице, а в кухне и расположении: клуб прятался в грязноватом переулке, старый хозяин был за повара и готовил, как умел. Зато мне нравились витражные окна, напоминавшие вильнюсский собор Святой Анны, в жаркий день там было темно и тревожно, солнце попадало в зал только через желтые стекла, а зеленые хранили прохладу. Однажды вечером я просидел около часа над блюдом с фасолью и собрался уже уходить, когда на дощатую сцену вышла певица, завернутая в черную пашмину до самых глаз, и завела «Е11е tu 1’aimes». Я подозвал подавальщика, и он принес мне счет вместе с рюмкой жинжиньи, это у них подарок от заведения. Точно такой же поднос с рюмкой и счетом он принес парню, сидевшему возле окна, тот отодвинул угощение и сказал, ни к кому не обращаясь:
— Сладкая дрянь, у меня от нее гланды слипаются.
— А я не могу это пить с тех пор, как увидел двух уродов, — сказал я.
Он молча смотрел на меня, слегка изогнув брови. Лицо у него было белым, несмотря на лютое июньское солнце, а брови и взъерошенные волосы были подкрашены чем-то похожим на хну. Так мне тогда показалось, на деле-то он самый натуральный красноволосый гунн.
— На пляже в Эшториле, — пояснил я. — Уроды сидели на песке, и тот, что был женского пола, поил другого жинжиньей изо рта в рот. У второго весь подбородок был липким, и по рубашке текло.
— О господи, — сказал парень, повернувшись ко мне вместе со стулом. Я увидел его лицо в полуденном свете, струящемся через витражные стекла, и понял, что ошибся лет на двадцать пять.
— Здешний повар тоже липкий урод. Я бы сюда вообще не ходил, не будь я таким ленивым, — добавил он. — Просто живу рядом, напротив военного музея. Можешь звать меня Лилиенталь.
В мочке его левого уха блестела серьга, длинные голубые глаза мокро блестели, а губы были покрыты мелкими трещинками. Я подумал было, что такие глаза и губы бывают у кокаинистов, но Лилиенталь чихнул несколько раз, достал платок и стал тщательно вытирать нос, платок был свежий, хорошо выглаженный — я давно не видел людей, которые гладят носовые платки, и подумал, что пора бы и мне завести себе дюжину. Потом он стал подниматься со стула, и я увидел его ноги, вялые, будто картофельные стебли, пораженные гнилью, а потом и костыли, прислоненные к стене возле столика.
Через два года костыли пришлось поменять на cadeira, я помню этот день — мы сидели у Лилиенталя на балконе и ждали посыльного из фирмы, обсуждая цвет коляски, ее цену и мощность двигателя, как если бы речь шла о новой модели для гонок. К тому времени я пристрастился к этому балкону и разговорам с Лилиенталем, как царь нишадхов к игре в кости. Одно время я считал Ли классическим немцем — скуповатым в трезвости и щедрым во хмелю, потом, прислушавшись к цитатам из «Пьяного корабля», стал считать французом, а теперь, спустя четыре года, думаю, что он — человек без происхождения, был же такой человек без свойств, и даже был человек без лица.
Мы редко бывали вдвоем, чаще — в толпе, на вечеринках у него в квартире, пропахшей канифолью, табаком и чем-то неуловимым, похожим на сырые грибы в овраге. Иногда он и сам заявлялся ко мне — поздно вечером, без звонка, — говоря, что крутил свои колеса от самой площади Россиу и нуждается в передышке. Однажды я открыл Лилиенталю дверь и увидел за его плечом девчушку лет девятнадцати, вцепившуюся в круглую ручку cadeira de rodas, как в спасательный круг. Девчушка повела глазами, круглыми, как у лемура, протиснулась в дверь и сказала надтреснутым голосом:
— Мы вроде шли совсем не к вам, но потерялись и пришли к вам. Простите нас!
Чуть позже я разглядел, что она завернута в некое подобие занавески, сквозь кисею просвечивали худые коленки, оказалось, что Лилиенталь забрал ее прямо со спектакля в студенческом театре, где она пленила его сердце монологами вроде:
- Я все услышала, жестокий человек,
- Не надо больше слов. Итак, прощай навек.
Кончилось все тем, что мы проснулись втроем, на сложенном втрое теткином ковре, который я давно уже отволок в угол кабинета, положив на него пару подушек — на случай нежданных гостей. Сам не знаю, как это вышло: посреди ночи гости проголодались, я пошел на кухню делать бутерброды с сыром, а когда вернулся, увидел Лилиенталя лежащим на ковре в обнимку с лемуром, оба крепко спали, позабыв о бутербродах. Я лег рядом, положив голову рядом с затылком гостьи, похожим на горсть скомканных вороньих перьев, подсунул под голову широкое запястье Лилиенталя, удовлетворенно вздохнул и закрыл глаза.
Я так и не смог понять, как попадают в сети эти легкие, смешливые существа, которых мой друг приручает с завидной легкостью, приглашая на пару дней в пусаду Эстремуш или просто заставляя купать его в ванной. Они приходят бог знает откуда и остаются, готовят пири-пири, стирают полотенца и запрягают коней, покуда не утомят хозяина и он не превратит их в тополя, а их слезы в янтарь. Еще я не мог понять, откуда у него берутся деньги. Единственная картина, которую он продал на моей памяти, висела в тайской лавке напротив его дома — на нее пошло немало охры и доброе ведро свинцовых белил. Что за мрачная равнина, сказал я, когда увидел ее на мольберте, и Лилиенталь послушно написал на обороте холста: morne plaine, год 2008.
— Понимаешь, пако, я старый, перекрашенный цыганами конь, — сказал мне Лилиенталь в один из ленивых июльских дней. — Ничто не зажигает моего взгляда, а эти девочки на все кидаются с клекотом, как дети на свежевыпавший снег. Они готовы любить даже унылую, затянутую тиной Венецию, они радуются фишкам из казино, как кейптаунские аборигены радовались латунным медальонам с надписью «изготовлено для вождей».
— Это и есть то, что тебя заводит? — я мечтал о стакане холодной воды, но не мог заставить себя подняться. С балкона струилась жара, желтый полуденный свет стоял в полотняных занавесках, будто парусник, застигнутый зыбью. Мы лежали полуголые на гранитном полу, передавая друг другу трубку и радуясь тому, что через пару часов опустятся сумерки.
— Вроде того. Чем глубже пещера, тем больше теней на ее стенах, — произнес Ли с важностью. — Мы сидим спиной к свету, с цепями на шее и не можем повернуть голову, так что нам приходится догадываться о том, что происходит, по движению теней.
— Ну это, положим, не твое, — возмутился я, — ты нагло свистнул это у Платона. Там дальше про узников, которые сами дают имена тому, что видят. Я все-таки три года проучился на историческом, милый мой, и не все, что я там слышал, вылетело у меня из головы.
— Никакой разницы нет, кто это сказал, я сам скажу не хуже. — Лилиенталь хмурился, но казался довольным. — Я люблю обманывать и люблю, когда меня обманывают. Ты даже не представляешь, пако, как всех нас легко провести. Люди верят написанному или сказанному больше, чем увиденному, поэтому ты пишешь свои текстики, а древние китайцы расписывали стихами стены почтовых станций.
— Просто я знаю, что надо записывать знаки, — я решил пропустить текстики мимо ушей. — Только сразу, немедленно, пока они не пожухли и не превратились в просто литературу.
— Неплохо сказано, — он посмотрел на меня с каким-то обидным удивлением. — Знаки, разумеется, приходят к тебе не случайно? Они валятся с неба, засыпая твою поляну сложенными, как солдатские конвертики, смыслами, не так ли? А уж ты решаешь, как с ними поступить.
— И что же? Разве не ты говорил, что мы тратим большую часть жизни на то, чтобы сообразить, кто здесь кукловод? Я уже сообразил и не позволю ему так запросто дергать за мои ниточки.
— Ты уже позволил, мой дорогой, — он сделал кукольное лицо и похлопал ресницами. — Ты позволил делать с собой все, потому что ты спишь, а во сне человек мягок и безволен. Ты копаешься в своем прошлом, выискивая там осколки, которые кажутся тебе горячими и взаправдашними, полагая, что ими ты укрепишь свое настоящее.
— Да по барабану мне это настоящее!
— Это ты врешь, положим. Для этого ты слишком близко принимаешь себя к сердцу. И потом, твое небрежное отношение к миру есть не что иное, как признание его реальным. Кто, скажи мне ради бога, стал бы так яростно противостоять эфемерной опасности?
Я поднялся с пола, натянул майку и направился к двери. Вслед мне послышалось веселое:
— Обиделся? А известно ли тебе, что Аполлинер, правя гранки своих стихов, заметил множество неверно поставленных запятых, но поленился исправлять, махнул рукой и стер вообще все знаки препинания. Знаки знаками, пако, но иногда нужно просто махнуть рукой.
Погляди, милая Ханна, чем я теперь занимаюсь, махнув на все рукой. Пытаюсь писать письмо, хотя не могу его отправить, сижу в тюрьме за убийство, хотя знаю, что никого не убивал, хожу на допросы, хотя знаю, что мои слова никто не принимает всерьез.
Где-то я читал про древнюю японскую игру: люди садятся вдоль русла ручья, пускают по воде чашечку с вином и сочиняют пятистишия, быстро, пока чашечка доплывет до поворота. Вот и я тоже — сижу тут, завернувшись в пальто, и тороплюсь записать строфу, пока чашечка не доплыла, и меня не повесили, не послали на рудники или не выгнали отсюда ко всем чертям собачьим.
Махнуть рукой. Вспомнил сейчас, что той ночью, когда убили датчанку, я позвонил Додо еще раз — по дороге из Капарики домой: сидел в автобусе, смотрел в окно и вдруг так разволновался, что даже живот скрутило. Я сказал ей, что решил сделать по-своему и через полчаса буду дома, нравится это ей или нет. Вопреки тому, чего я ждал, Додо не стала меня отговаривать, она говорила тускло и до странности любезно.
— Не бойся ты так, — сказала она. — Ну едешь и езжай. Ласло за тобой присмотрит, они надежные люди, а мне больше не звони — мне нельзя впутываться в дело такого рода, да еще с известным политиком. Меня просто разорвут на клочки, понимаешь?
— А меня не разорвут?
— Ты иностранец, тебя просто вышлют, даже если начнется скандал, — она вдруг замолчала, и я услышал гул аэропорта, французское мяуканье диспетчера и чей-то настойчивый голос, проникающий в зажатую ладонью трубку.
— Ты в «Портеле»? Ты что, прямо сейчас улетаешь?
— У меня нет другого выхода. Я попросилась на бразильский рейс вместо своей подруги, у нас же тут все свои, понимаешь? А там посмотрим, может, и обойдется без большого шума.
Ну да, у них все свои. Я и забыл, что она работала в этой домашней авиакомпании, где вас могут впустить в салон самолета с распечатанной бутылкой виски, если дать парню на контроле глотнуть чуток и сказать, что ты пьешь за победу «Спортинга».
— Эй, ты там? — она постучала по трубке ногтем, и я вспомнил коротковатые пальцы и сиреневый лак, облупившийся за ночь, оттого, что она царапала мне спину. Должен заметить, что не верю женщинам, запускающим в меня ногти, просто не верю, что можно забыться до такой степени. Держу пари, они делают это нарочно, чтобы оставить зарубки, или нет — метки, хозяйские метки, вроде надписи на скале: персидский царь попирает ногой Гаумату.
— Извини, но помочь я все равно ничем не могу. Ласло послал к тебе домой человека, он знает нужных людей, профессионалов, у него и раньше случались затруднения. Он уже лет десять как этим занимается, а я только начала.
— Чем это он занимается? Шантажом? Ты прямо как японский мальчик, из тех, что нанимались к знаменитым писателям в подмастерья, — сказал я. — Только их там писать совсем не учили, а били палками и заставляли выносить горшки с дерьмом. Не боишься, что твоя роль при мастере окажется так же безнадежна?
— Не боюсь, — ответила Додо. — Пока что горшок с дерьмом у тебя перед носом, Константен.
Она повесила трубку, и автобус тут же остановился на площади Россиу. Водитель открыл переднюю дверь, обернулся и помахал мне, я был его последним пассажиром, ночным бродягой в грязном плаще, невесть зачем едущим в город. Поглядев мне в лицо, он сочувственно покачал головой, поднял руку за стеклом кабины и показал мне фигу. Спрыгнув с подножки, я открыл было рот, чтобы послать его подальше, но вспомнил, что в здешних краях это не похабный кукиш, а пожелание удачи, так что я кивнул и показал ему такую же.
Ухватив его за руку с той растительной силой,
которая легко вгоняет корень в скалу,
дриада втащила волшебника в дерево.
Карта Лиссабона на стене, за спиной следователя, неизменно поднимает мне настроение. Тюремное управление явно экономит на реквизите: карта величиной с форточку, приколота кнопками, а вместо подозрительных переулков и опиумных притонов на ней отмечены туристические радости — собор Сан-Жорже, аквапарк и беленская кондитерская. Я уже полюбил эту карту с волнистыми зелеными линиями пешеходных маршрутов, каждый раз едва сдерживаюсь, чтобы не попросить такую же — для моей стены с одиноким бананом.
Сегодня Пруэнса вызвал меня на два часа и половину этого времени читал букмекерскую газету и причмокивал, у него небось полные карманы рваных ипподромных билетов. Забавно было бы узнать, что зарплату он спускает на скачках и живет в долг так же, как и я, грешный.
Я мог бы рассказать ему о том вечере, когда познакомился с гладкой лошадкой, зачинщицей уголовной истории, в кафе «Регент», в облаке гвоздичного пара, у покрытого изморосью окна, за которым воскресные прохожие слонялись по площади, но что толку? Он хочет чего-то еще, стоит мне заговорить про Додо или убитую женщину в спальне, как он морщится и скребет запястье, что я могу истолковать только одним способом: у него чешутся руки. Что до истории с галереей, то я молчу, будто китайский мудрец с прищепкой на устах: зачем мне дополнительные три года за попытку грабежа, когда у меня уже есть пожизненный срок за убийство? Правда, сегодня Пруэнса пообещал мне адвоката, за работу которого не надо будет платить.
— Можно подумать, у меня есть выбор, — сказал я. — Понятное дело, ответа от моей жены вы не дождались, значит, защиту обеспечит португальское государство, оно же меня и посадит или, что еще хуже, депортирует. А там уж меня, отщепенца, непременно посадят свои.
— Защиту вам обеспечит частное лицо, — следователь зевнул и посмотрел в окно, — адвоката я уже видел, тот еще пименте. Вот ему и рассказывайте про сбежавших стюардесс и пальмовые шляпы, а я за такую зарплату ваши романтические бредни слушать не согласен.
Похоже, в этом городе уже двое записали меня в романтики, подумал я, второй была, как ни странно, сеньора Матиссен. Она сказала это в кафе «Регент», в тот день, когда я встретил Додо.
— Последний альфамский romantico, — усмехнулась она, положив жилистую руку на мое плечо. — Он живет в музее, представьте себе, там кровати с балдахинами времен короля Жуана Шестого.
Одна из ее подруг покачала головой и подмигнула мне, школьного вида косички и заячья щелка между передними зубами придавали ей залихватский вид. Я живу не в музее, а в стволе дерева, изъеденном термитами, но спорить с Соней не имеет смысла, как, впрочем, не имеет смысла уходить из кафе с незнакомой женщиной и вести ее домой. Но я так и сделал, нарушив одним махом десяток полезных правил. Надо будет в наказание написать их четыреста раз на длинном свитке и повесить над столом в кабинете, если я когда-нибудь увижу этот кабинет и этот стол.
Видавший виды «Регент» из тех кафе, куда нужно приходить одному и не вступать в разговоры, тогда все складывается правильно: наголо бритый camarero чиркает спичками у тебя над ухом, ты делаешь глоток, жуешь горький огурчик, смотришь в окно, медленно отсчитываешь деньги, прижимаешь их рюмкой, идешь домой и по дороге смолишь беспечальную цигарку.
А я что сделал?
Я привел Додо в дядин кабинет, принес ей выпивку и оливки, сел в кресло и стал смотреть, как она ходит вдоль полок, забавно наклоняя голову к плечу. Приступая к оливкам, Додо рассмешила меня, назвав заостренные палочки на испанский манер — banderillas, я и до этого догадывался, что она не местной породы, слишком уж норовистая. Поначалу она опускала глаза долу, а руки прятала в карманы — на ее платье было четыре кармана, как у диккенсовского Феджина, когда он выдавал себя за джентльмена, — но после двух стопок коньяку приободрилась.
— Константен, это для меня? — она нашла на столе ожерелье, и я с трудом удержался, чтобы не стукнуть ее по пальцам. Эти цитрины — если верить сиделке — тетка надевала перед смертью, поэтому я держал их под рукой, а не в сейфе, как все остальное. Такие сонные камни, блеклое старое золото, единственное колье, которое я до сих пор не продал. К тому же, хозяин аукциона заявил, что цитрины выглядят imitao, скудоумный тупоносый болван.
— Только не вздумай надеть, — сказал я, но опоздал: Додо надела его, не расстегивая, прямо через голову. А потом так же, через голову, сняла свое платье и бросила его на пол. Цитрины покорно сияли на ее груди, и я сразу вспомнил пратчеттовскую книжку про голую дриаду с медальоном. Зоя говорила, что камни подарила ей старая сеньора, и оттого они всегда холодные, будто из ледника вынуты. Представляю, как это было: наступило Рождество и старуха протянула невестке сафьяновую коробку, говоря в сторону: «Вот и Брисингамен для тебя, умри поскорее, дорогая».
— Тебе нравится? — спросила Додо, заложив руки за спину и высоко подняв подбородок.
Я снял очки, протер их краем свитера, надел и стал ее разглядывать. Люблю испанский, он напоминает мне Тарту. Люблю опрокинутые восклицания и знаки вопроса, в них есть горделивое чванство и детская страсть к перевертышам. Кто бы мне сказал на зачете у грозного доцента-испаниста, что через много лет я буду вздрагивать от удовольствия, услышав на улице кастильскую хриплую речь или каталонский диалог с поцелуями. Живот у Додо покрылся гусиной кожей от холода, батареи в кабинете я не включал с начала зимы.
— Нравится, — сказал я наконец, и она осторожно села мне на колени.
Холодные цитрины прильнули к моему лбу. Я знаю, что по-испански «torear» означает не только нападать, но и водить за нос, и даже утомлять. Застежка ожерелья царапала мне ладонь, и я не стал гладить Додо по шее, хотя это мое любимое место у женщин, и еще — затылок, он у них упругий и покорный, таким бывает ирландский мох вокруг лесного пруда.
Приходил охранник с завтраком и сбил меня с мысли. Впрочем, достаточно писать тебе о Додо, да еще столь подробно, она того не стоит, все, больше ни слова о ней. Я написал «с завтраком», но на самом деле здесь только завтраки и бывают: ужин выглядит точно так же. Я так давно не видел горячей еды, что мне постоянно снятся рыцарские трапезы: медные котлы с супом и груды дымящейся дичи на подносах, обложенных углями.
Вот закончу писать это письмо и начну составлять тюремный сонник, на манер того травника, что был у няни Сани. У нее всего-то было две книги — сочинение про аптекарские травы и Псалтырь, из которого я помню только про сосуд горшечника и зубы нечестивых.
Запишу все сны, что я видел здесь за без малого две недели:
1. как я ходил по воздуху в полуметре от земли, попытался идти быстрее и упал
2. как я вернулся домой, второпях сломал ключ в замке и вспомнил, что я переехал и это чужая дверь, там даже табличка была «doutor Luiz F. Rebello»
3. как я появился в парке Эштрела без трусов
4. как я говорил со стреноженной теткой, оказавшейся вовсе не теткой
5. как я расчленял тело Хенриетты и выносил по частям из дома в шляпных коробках
6. как я увидел горящий дом, хотел закричать, но понял, что онемел, и молча заплакал
7. как я пытался дойти до вокзала Аполлония, но он куда-то пропал, и я натыкался то на крепостную стену, то на заросли акации — как будто город усох и уменьшился до своих средневековых границ
8. как я убегал по подземному переходу от летучей мыши, которая была одновременно письмом, а я не хотел его распечатывать, в конце концов мышь меня укусила.
Ну, с последним сном все ясно. Я отчетливо видел адрес, оттиснутый на мышиной спине, это был адрес Габии, а серые кожистые крылья были половинками конверта, в котором я получил от нее тряпичную куклу в подарок. Эту куклу я знал по имени, имя у нее было мужским, а тело женским. Вот не думал, что она достанется мне, а не пани Эльжбете, охотно бравшей куклами квартирную плату. У старой пани девочки снимали квартиру над булочной, ту самую квартиру, где я прожил зиму две тысячи второго года, внезапно лишившись крыши над головой.
Дом стоял возле самого рынка, над дверью еще сохранилась плита с довоенной вывеской: типография Юзефа Клембоцкого и сына. Когда я пришел туда в первый раз, то долго стоял, задрав голову, во дворе-колодце, где пахло горячей ванилью и кошками, а эхо от каждого шага уходило вверх по спирали, закручиваясь до самой крыши. Потом я поднялся на третий этаж и покрутил колесико звонка. Никто не ответил, в квартире было тихо, я постоял под дверью еще минуту, спустился вниз и позвонил из автомата на углу.
— Меня случайно в комнате заперли, — сказала Габия. — А я сижу в наушниках, работаю, ничего не слышу! Придется тебе по трубе забираться. Второй балкон от угла.
Насчет наушников она на ходу придумала, но это я потом сообразил, когда заметил, что она смотрит на губы собеседника и смешно поворачивается левым ухом, если говоришь тише обычного. Может, я принял бы это за необычную мимику, если бы не чалая лошадка на проспекте, под которую Габия чуть не угодила. Возница весь день напролет катал туристов в ворохе соломы, его телегу, обвешанную бубенцами, было слышно за версту, но Габия смотрела в другую сторону и упала бы под копыта, не схвати я ее за руку.
— Ну давай же, Костас! — крикнули мне из окна на третьем этаже, я застегнул куртку, закатал рукава и полез наверх. Водосточная труба тряслась и хрустела сочленениями, ржавчина на стыках обдирала мне ладони. Я встал на еле заметный выступ фриза, вспомнил свою ночевку в эстонском особняке и подумал, что раз в семь лет мне приходится карабкаться по чужим карнизам. До балконной решетки оставалось меньше шага, я поднял голову и увидел руку Габии, протянутую ко мне, от руки крепко пахло казеиновым клеем.
Часа два мы провели в гостиной, то есть в комнате, где хозяйка спала и шила своих кукол. Меня пригласили на обед, но обеда в доме не было: Габия сидела в кресле, гнула проволоку, вырезала какие-то рюши и совершенно не хотела говорить о вчерашнем вечере, где мы столкнулись и напились в хлам, в дымину, сто лет я так не напивался. Сказать по правде, мы с с трудом узнали друг друга в разукрашенном тыквами подвале школы искусств, зато смеялись и обнимались, как будто не виделись сто лет. Так, наверное, два заблудившихся полярника радуются, столкнувшись в ледяной беспроглядной мгле.
В два часа ночи Габия позволила завести себя под лестницу, расстегнулась деловито, точно кормилица, и показала мне две белые конические груди. Потом мы сбежали оттуда в парк, прихватив со стола бутылку красного, и долго стояли на мостике, глядяна мутную воду пруда. От воды несло уснувшей рыбой и водорослями, губы Габии горели, низкий голос пенился, я едва удержался от того, чтобы не прислонить ее к перилам и не задрать черные ведьминские юбки на голову. Я был тогда здорово пьян, сосновые плашки моста ходуном ходили у меня под ногами, помню, что уронил в воду портсигар и поломал карнавальную шляпу, болтавшуюся у Габии на спине. Еще помню, что порывался расспросить ее о Лютасе, но она смеялась и мотала головой:
— О ком ты? Не помню в нашей школе никаких львов, ни ручных, ни диких.
Не знаю, зачем она прислала мне это страшилище Армана Марселя, в конверте не было письма, я пытался позвонить на старую квартиру, но трубку поднял кто-то чужой, никогда не слыхавший о сестрах. Писать бумажное письмо мне было лень, электронного адреса я не знал, да и сказать мне было собственно нечего. Я вовсе не считал себя виноватым в том, что ушел тогда с улицы Пилес. У меня была причина: живя с Габией под одной крышей, я каждый день недосчитывался нескольких своих воспоминаний. Все, что восхищало и мучило меня в детстве — ее крепкий нос, похожий на готический аркбутан, тяжелые веки, широкие плечи пловчихи, хитрые, будто перышком обведенные губы, — с каждым днем как будто стиралось невидимой резинкой.
Если уж французский король слег с лихорадкой после ночи с сестрами де Несль, так что с тебя возьмешь, заметил Лилиенталь, когда я рассказал ему эту историю. Подумать страшно, сколько я ему всего рассказал. Хотел бы я знать, где теперь шляется мой лиссабонский друг, хромоногий Пан, владелец моих секретов, ну да ладно — boi morto, vaca .
Не хотел тебе говорить, но все же скажу, иначе это письмо превратится в литературу, то есть в гору благочестивого вранья. Вчера мне приснилось, что я лежу в обнимку с подружкой Лютаса и внезапно превращаюсь в него самого! Гроза была такой сухой и близкой, что я долго не мог заснуть, даже дождь, который все-таки застучал по карнизу после полуночи, показался мне сухим, будто пересыпание семян в перуанских сушеных тыквах — они так и называются шум дождя, мне их одна подружка-индианка подарила целую гору.
Потом я все же заснул и в этом сне должен был любить Габию, но не смог приступить к делу обычным путем и стал воображать себя пацаном, лежащим на пляжном одеяле и глядящим на смуглую Габию сквозь ресницы. При этом я провел рукой по своей груди и вздрогнул, обнаружив там плотный пружинистый подшерсток. У меня нет на груди волос! Я еще в общежитии повесил над кроватью страницу из Аристотеля, чтобы изводить мохнатого маленького Мярта: «У кого на груди и животе много шерсти, те никогда не доводят дело до конца. У кого крохотное лицо — малодушны. У кого совершенно безволосая грудь — те хороши и бесстыжи!»
Потом я поднес к глазам ладонь и похолодел — у мизинца не хватало верхней фаланги.
Повернув голову, я увидел загорелого раздосадованного Костаса Кайриса, сидящего возле моей женщины на краю одеяла, уткнувшего подбородок в колени, сцепившего пальцы, осторожно водящего серыми глазами, полными полынной тоски и похоти. Я увидел свое собственное лицо, понял, что Лютас — это я, и проснулся от негодования.
Дороги нет, но нет и дна,
нет ада — слышишь, Ариадна?
В тот день, когда сестра свалилась мне на голову с ребенком на руках и двумя африканскими сумками, я как раз взялся наводить порядок в кабинете прежнего хозяина, превращенном теткой в спальню, и провозился до глубокой ночи. Давно хотел это сделать, но не решался, хотя кабинета мне здорово не хватало — оттуда видно не только Тежу, но и правый склон Альфамского холма, а в эркере раньше стоял стол, способный вдохновить даже счетовода.
Зоину кровать мне пришлось разобрать на куски, иначе она бы не протиснулась в узкую дверь. Я вынес доски на крышу, чтобы просушить и обработать керосином — они были напрочь изъедены древоточцами, а выбросить кровать на помойку мне и в голову не пришло. Агне расположилась в своей прежней детской, потом долго плескалась в ванной и, наконец, явилась поговорить, застав меня за вытряхиванием плетеной корзины с грязными полотенцами.
— Порядок наводишь?
— Этот бардак действует мне на нервы.
— Я смотрю, ты полюбил этот дом, — она покачала головой. — Даже колокольчики в прихожей повесил! Такие носят на запястьях жрецы в Габоне, говорят, они помогают распознать виновника в толпе невинных. Откуда это у тебя?
— Они индийские, — буркнул я. — Умножают урожай и предупреждают запустение.
— Надо же, — она вошла в комнату и села на стул возле печки. — А я думала, что тебе нравится запустение, одичание, безнадежная сырость, разве нет? Пустые комнаты, другие барабаны.
— Какие еще барабаны?
— Разве ты не помнишь?
— Смутно.
— Это же название твоей книги, — сказала она с обескураженным видом.
— Не пойти ли тебе в свою комнату?
— Ты злишься, что я прочитала?
Дело было не в этом. Она сидела в Зоином халате, похожем на шкурку ящерицы, с Зоиной чашкой в руке, с Зоиной гребенкой в Зоиных волосах. Нельзя брать чужие вещи только потому, что их хозяева умерли. Но можно брать любые вещи, пока их хозяева живы.
— Не думай, мама не давала мне твоей книги. Я нашла ее случайно, когда искала свидетельство о домовладении. Я ведь собиралась продать этот дом, надо было сделать копии с документов, найти закладные и прочую дребедень. Она лежала там в конверте, надписанном твоим почерком, ну я и посмотрела. Конверт ведь не был запечатан!
— Ты прочла мою рукопись в день смерти своей матери?
— В ночь ее смерти, — поправила Агне. — Мне было страшно тут сидеть, доктор уехал, соседки разошлись по домам, а я осталась с мамой до утра.
— И обшарила ее вещи, — добавил я.
— Но ведь ты теперь делаешь то же самое, разве нет? — она взяла у меня чашку, обвела кабинет укоризненным взглядом и вышла из комнаты.
За четыре года, что мы не виделись, я забыл ее лицо: мучнистый, мучительно ровный овал, из тех лиц, на которых румянец кажется нарисованным. Я забыл ее тело: полное, текучее, из тех зыбких белокожих тел, что передвигаются медленно и упруго, как будто преодолевая толщу воды. Я забыл свою сестру, свою седьмую воду на киселе, ее спокойное коварство и сырный запашок. По мне, так ей нечего было делать в этом доме.
Рукопись свою я помнил почти дословно, вернее, семечко рукописи. Герой сидит в доме у своего друга, в кресле-качалке, которое не качается — никакой другой мебели в доме нет, — и смотрит на мнимую дверь. Он знает, что египтяне рисовали такую дверь в гробницах, обычно на стене жертвенной ниши, для того чтобы Ка могло найти себе дорогу. И вот герой приходит к другу и видит на стене контур двери, обведенный восковым мелком, а посередине — бумажную мишень из тира с несколькими дырками от пуль. Это наводит его на разные мысли, и он произносит их вслух, вот и все. Там страниц сорок, не больше.
Первые двадцать я отпечатал на машинке, взятой у китаиста, скрепил двумя железными застежками и отдал тетке на Тартуском автовокзале — это было зимой девяносто шестого. Еще я купил ей в дорогу связку баранок и пакет молока. Она сунула все в сумку, у нее был такой рыжий саквояжик, похожий на докторский:
— Это мне письмо?
— Вроде того. Только не тебе, а вообще. Я начал тут одну вещь, но дальше пока не идет, застряло намертво. Считай, что это первая глава.
— Ясно, — она посмотрела на меня, задержавшись на подножке. — Я прочитаю, но ты уж будь добр, завяжи хотя бы шарф. А то я чувствую себя солдатом, ограбившим младенца. К тому же в твоей куртке я похожа на голкипера.
— Не люблю узлов на горле, — хмуро ответил я. — Идите, тетушка, шофер нервничает.
Она пошла по пустому автобусному салону, не оборачиваясь, рукава моей куртки были ей коротки, да и сама куртка тоже, из-за этого платье собиралось в складки на спине. Куртку я силком заставил взять, когда пришел в гостиницу и еще в коридоре услышал, как Зоя надсадно кашляет у себя в номере.
Вернувшись в общежитие, я собрал вещи, дождался своего автобуса и уехл в Вильнюс. Месяц, а то и два я бегал к почтовому ящику каждое утро, но тетка так и не написала, что она думает о первой главе. Вместо этого она прислала открытку с видом на Жеронимуш, а потом еще несколько штук — все с разными видами и птичкой вместо подписи. Я решил, что рукопись потерялась во время полета, мне даже ясно представилось, как тетка кладет ее вместе с журналом португальских авиалиний в карман сиденья, туда, где обычно лежат сломанные стаканчики.
Когда мы встретились в Вильнюсе, я не стал спрашивать ее о рукописи, чтобы не смущать. Вернее, я вспомнил, как один богатый путешественник, с которым мне пришлось работать во времена «Янтарного берега», жаловался, что слуги в его бретонском доме делают все, что хотят: то какой-то дым разводят в саду по весне, то расставляют всюду серебро для чистки, так что присесть негде, то перины вытрясают на смех гостям. Я их не контролирую, вздыхал владелец, я говорю, говорю, а сказать не умею! Вот я и подумал, что Зоя просто сказать не умеет, молчит, скрывая восхищение. В декабре две тысячи второго я не удержался и послал ей те же двадцать страниц, гордо приложив к ним новые двадцать. Название тоже было новым. Потом я узнал от Грабарчика, что в декабре она уже не могла читать.
Первое, что я увидел, входя в тюремную комнату для свиданий, была горячая жареная курица в пергаментной обертке, которую аккуратно разворачивал мой адвокат Трута, его имя я прочитал на бумажном пропуске, приколотом к карману замшевой куртки.