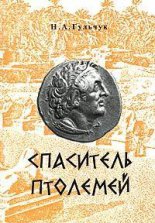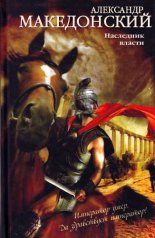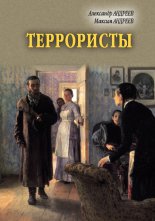Другие барабаны Элтанг Лена

Тавромахия
«В этом храме они собирались то на пятый, то на шестой год, попеременно отмеривая то четное, то нечетное число, чтобы совещаться об общих заботах и творить суд. В роще при святилище на воле разгуливали быки; и вот десять царей, оставшись одни, приступали к ловле, вооруженные только палками и арканами, а быка, которого удалось изловить, подводили к стеле и закалывали над ее вершиной так, чтобы кровь стекала на письмена».
Платон
24 февраля, 2011
Когда они пришли за мной, все произошло как в фильме братьев Люмьер — быстро, плоско, непредсказуемо, в черно-белом мерцании. Паровоз летел мне прямо в лицо, потом брал чуть правее, обдавая горячим паром, я кашлял и задыхался, будто наглотавшись угольной пыли, а статисты в черной униформе прохаживались по квартире перронными носильщиками. Я ждал их уже давно, я ни о чем другом думать не мог, я извел все свои запасы травы, все ошметки и дрова подобрал, и вот они пришли.
Дверь они открыли ключом моей служанки, разбудив ее в восемь утра — вероятно, после бессонной ночи, потому что выглядела она паршиво. Их было четверо: трое проворно разбрелись по дому, инспектор же постучался ко мне в спальню и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вместе с ним зашла настороженная бледная Байша. Она принесла стакан с молоком, кивнула мне от дверей, и я успел подумать, что ни разу не видел ее в папильотках, я ее даже без фартука ни разу не видел.
— Константинас Кайрис? Я — инспектор криминальной полиции. Одевайтесь.
Разговаривать с инспектором, бесцветным, как глубоководная рыба, мне пришлось на кухне — в остальных комнатах шел обыск. Для начала мы минут десять помолчали, не глядя друг на друга: он рылся в портфеле и прихлебывал молоко, а я сидел на подоконнике и слушал, как двое полицейских швыряют на пол увесистые книги в кабинете и скрипят дверцами платяных шкафов. Один из них вошел в кухню и выложил на стол грубо оторванную видеокамеру — наверное, ту, что висела у лестницы, над дверью, ее проще всего было найти. Инспектор нахмурился и залпом допил молоко.
— Садитесь к столу, Кайрис.
В столовой раздалось хриплое уханье и краткий обиженный звон — похоже, там уронили музыкальную шкатулку, жаль, что я ее вовремя не продал. Я подвинул стул и сел возле стола, прислушиваясь к шагам над головой и представляя, как полицейский ходит по спальне Лидии Брага, проводя пальцем по вытисненным на обоях стрекозам, заглядывая под пыльный полог кровати, отражаясь в огромном пятнистом зеркале.
Через минуту зашел сержант с конвертом, который я вчера приготовил для банка «Сантандер» и с вечера положил на край стола, чтобы не забыть. Инспектор поставил портфель под стол, подвинул камеру на край столешницы и разложил свои бумаги ровно посередине, движения его были плавными, но значительными, как у танцора фламенко. Потом он заглянул в конверт, поднял брови и, не пересчитывая денег, сунул его в папку.
— Я должен подписать акт об изъятии? — сказав это, я подумал с досадой, что мог бы вчера положить конверт в сейф. — Но у вас должна быть санкция прокурора, разве нет?
— Это ваша камера? — спросил инспектор со скучным лицом.
Проводок у камеры был похож на поджатый хвост пойманного на какой-то пакости щенка. У моего друга Лютаса был щенок спаниеля, однажды он забрался в стиральную машину, и его постирали вместе с полотенцами.
— Нет. Это камера моего приятеля. Так как насчет санкции?
— У нас нет бумаги, ее выпишут только завтра. Но если вы не будете сотрудничать, то мы проведем обыск как следует: вскроем полы, разворотим стены, разломаем мебель и пустим пух из всех подушек. Предлагаю вам сдать оружие самому, а также предъявить имеющиеся в доме ценности. Мы все равно вас заберем, для этого у нас есть основания.
Он говорил так нудно и размеренно, что я поверил. Они разнесут дом вдребезги, а заодно обнаружат сейф за зеркалом, в стене кабинета, нет, этого я позволить не мог. Ясно, что полиция отыскала тело датчанки, и теперь у них есть подозреваемый номер один.
— Я буду сотрудничать.
— У вас есть армейский пистолет Savage М1917, — он заглянул в свои записи, — калибра 7,65 мм, с инкрустацией и наградной надписью на рукоятке?
— Да. Он принадлежал прежнему хозяину дома, покойному сеньору Браге.
— Вы можете предъявить этот пистолет?
— Могу, — я кивнул на полицейского, вставшего у меня за спиной, — пусть он сходит в гостиную, там на стене висит дядино оружие. Я ничего не прячу.
— Вы знаете, что из него недавно стреляли?
— Знаю. Но я не имею к этому отношения. Пистолет был украден из дома десять дней назад. Потом его вернули, и я повесил его на место.
— То есть вам известно о совершенном убийстве? — недоумение мелькнуло в его прозрачных слезящихся глазах. — Так и запишем. Когда вы в последний раз выезжали из Лиссабона?
— Два дня назад. Я был в Эшториле, у моря.
— Эти видеокамеры принадлежат вам?
— Я уже говорил, что это собственность Лютаураса Раубы, моего литовского друга.
— То есть вы подтверждаете, что знакомы с господином Раубой, гражданином Литвы?
— Разумеется. Много лет, со школьных времен.
— При каких обстоятельствах эти камеры оказались в вашем доме?
— Мы снимали кино. То есть мой друг снимал. Но из этого ничего не вышло.
Инспектор повертел камеру в руках, посмотрел на меня с небрежением и потянул носом. Я сразу вспомнил, что не был сегодня в душе, но его, похоже, интересовало другое.
— Вы употребляете наркотики, Кайрис?
— Вы не имеете права задавать подобные вопросы.
— Да ну? — он снова принюхался и так сморщил нос, будто вокруг стояла целая толпа немытых лемносских женщин. — Так вы употребляете или нет?
— Погодите, — я поднял руку. — Я хочу заявить, что к убийству, произошедшему в этом доме, я не причастен. Полагаю, вы нашли тело, но я к нему не прикасался, я просто хозяин этого дома, иногда я даю ключи знакомым, но в этот раз...
— Какое тело? — он не смотрел на меня, но я видел, что его верхняя губа дрожит от удовольствия. Этому pervertido нравилось меня мучить, он даже записывать забыл.
— Послушайте, инспектор, судя по вашему поведению, мне понадобится адвокат. В чем меня обвиняют? Когда все произошло, я был за городом. В коттедже «Веселый реполов», вот и служанка может подтвердить, — я посмотрел на Байшу, стоявшую у стены, но она отвернулась.
— Вас пока не обвиняют, Кайрис. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Вам придется поехать с нами в Департамент криминальной полиции. Адвокат вам будет предоставлен в свое время.
— Я могу взять компьютер и телефон?
— Обсудите это со следователем. Пока можно взять только смену белья и туалетные принадлежности. Вот здесь поставьте подпись. И вы тоже, сеньора.
Сказав это, он сунул подписанный бланк в свой портфель, разваливающийся, будто обугленное полено, и окликнул полицейского:
— Что вы там возитесь, сержант? Выводите задержанного.
— Минуту, капитан. Тут еще устройство какое-то, — откликнулся полицейский, — и куча проводов на полу. Мне отключить провода и принести этот ящик?
— Ничего не трогайте! — инспектор поставил портфель на пол, неохотно поднялся и направился в кладовку. Я быстро соскользнул под стол, дотянулся до краешка папки, торчащей из портфеля, нащупал в ней толстый конверт, вытянул деньги, примерно половину, и сунул их за пазуху. Инспектор что-то недовольно гудел за дверью, я услышал звук бьющегося стекла и хруст стеклянной пыли под каблуками. Похоже, они наткнулись на сервер, стоявший в кладовке за плотным строем банок из-под теткиного варенья.
Сиделка-марокканка, чье имя я забыл, сказала мне, что Зоя, моя тетка, варила варенье целыми днями. Она начала в ноябре, месяца за два до смерти, и закупорила последнюю банку в то утро, когда в последний раз встала с кровати. Я-то знаю, почему она это делала. Варенье напоминало ей питерское лето, заброшенные заросли малины, дощатую веранду, выходящую на озеро, и сладких ос, плавающих в сиропе. Детство, одним словом. Пожалуй, я бы сам стал делать нечто похожее, если бы знал, что скоро умру.
— Я с самого утра возле сеньоры вертелась, — сказала сиделка. — Да еще ягоды с рынка таскать приходилось. Или абрикосы. А сеньора все варит и варит!
Это было в день теткиных похорон, сиделка с утра пришла в дом, поехала с нами на Cemitrio dos Olivais выбирать нишу в колумбарии, вернулась оттуда вместе с нами и устроилась со стаканом портвейна в углу гостиной.
— Вы же могли отказаться, — заметил я. Вникать в ее обиды мне не хотелось, в кабинете меня ждали мать, нотариус и несколько родственников, которым не терпелось услышать, что написано в Зоином завещании.
— Какое там, — она покачала головой, — если ягод не купишь, с ней вовсе сладу не было, вся извертится, изноется, а то еще по дому начнет ходить среди ночи, ронять что ни попадя. Я все ждала, что банки у нее кончатся, а они прямо как грибы росли!
Я знал, где росли эти стеклянные грибы. Я сам их видел в винном погребе упакованными в длинные картонные коробки по четыре дюжины в каждой. В этот погреб бывший хозяин дома Фабиу сносил обломки своих крушений: медную утварь для закусочной, провизорские пузырьки и шкляницы для аптеки, складные стеллажи для канцелярского магазина. Я забрался туда в первый же день, как только приехал в Лиссабон, тетка разрешила мне открывать любые двери, кроме комнаты старой сеньоры, и я дал себе полную волю.
В те времена — в самом начале девяностых — дом еще жил полной жизнью. Кудрявые ореховые столы светились от пчелиного воска, в шкафах с бельем лежала цедра, в кухне пахло уксусом и кардамоном, а в ванных комнатах висели полотенца, расшитые еще служанками Лидии Брага. Одним словом, йейтсовский кабан без щетины еще не явился во двор, чтобы рыть землю носом. Посреди двора днем и ночью шумел фонтан в виде стоящего на хвосте лосося, выкрашенного серебряной краской. Фонтан по утрам чистили граблями, но к вечеру в нем было полно листьев и мелкой кудрявой чешуи. Облупившуюся рыбину мы с Агне звали условным лососем, она была похожа на бразильского ржавого сома, хотя в основании фонтана зеленела табличка с именем скульптора и словом salmao, понятным даже мне.
Когда я приехал сюда в первый раз, то бросил сумку в столовой и сразу побежал по лестнице наверх: в таком доме должна быть мансарда, залитая солнцем, думал я, торопливо преодолевая три пролета неудобной лестницы без перил. Комната, до которой я добрался, была маленькой, кособокой и темной, зато в самой ее середине торжественно лилась струя золотистой пыли, прямо с потолка. Круглое окно могло бы служить бойницей, не смотри оно прямо в небо. В толще света толпились пылинки, внизу они были рыжеватыми, а вверху — черными от покрытого сажей окна, собранного из стеклянных треугольников. Я вошел в эту колонну света, доставая затылком до капители, и закрыл глаза. Крыша была совсем рядом, я слышал, как ходят по ней портовые откормленные чайки, и чуял запах разогретой черепицы. Я думал о том, что всегда хотел жить в доме, где по утрам солнечный луч стоит столбом в середине комнаты.
— Здесь ты и будешь жить, — сказала тетка, стоя в дверях и глядя на меня без улыбки, — надеюсь, ты не станешь носиться здесь как оглашенный, дом этого не любит. Агне сейчас придет с твоей постелью и пледом. Полагаю, вы подружитесь.
Мы подружились, но сестра была всего лишь девчонкой, а вот дом был безупречен, я сразу влюбился в него, во все его странности, видения и звуки: от тихого потрескивания в стенах столовой до ночной капели в винном погребе. Еще мне нравилось смотреть, как тетка в своем зеленом хлопковом платье босиком расхаживает по дому, в котором недавно стала полной хозяйкой. Она шлепала пятками по пробковому полу, хлопала дверьми и возникала то там, то здесь, оставляя после себя запах чисто вымытых волос и детского мыла. Ей было тридцать четыре, ровно столько, сколько мне теперь.
Это письмо будет длинным, Ханна, так что читай его понемногу, ведь мне нужно уместить сюда целую связку не связанных на первый взгляд вещей, причем некоторые из них не имеют к моей жизни никакого отношения — и это хорошо, хотя и опасно. Чужую жизнь можно употреблять только в гомеопатических дозах, словно змеиный яд, наперстянку или белену. Это сказал однажды мой друг Лилиенталь. Про него я расскажу тебе особо, он заслуживает просторной главы, скажу только, что это единственный человек, которого я когда-либо носил на спине.
Я начал это письмо утром, 24 февраля, в самом начале лиссабонской весны, под шорох и свист кленовых веток, раскачивающихся где-то за стенами тюрьмы. Какой сегодня ветреный день, и как странно приближен шум города, я слышу голоса рабочих на соседней улице и гулкое буханье железной гири о стену какого-то дома — красные кирпичи? известняк? Раньше, когда я представлял себе одиночную камеру, одним из несомненных ее свойств была тишина, а вторым полутьма. А здесь нет ни того, ни другого, и, собственно, нет самого одиночества.
Солнце, пропадавшее где-то четыре дня, приплелось обратно и виновато поглаживает мне затылок, я сижу под своим единственным окном, размером в четыре ладони, и держу на коленях пачку оберточной бумаги, которую выпросил у охранника. Писать пока больше не на чем, но я жду, что мне принесут мой компьютер, и надеюсь на лучшее. Помнишь, как я звал тебя Хани, а ты морщилась и говорила, что это пахнет голливудским фильмом и горелым волосом? Здесь я буду звать тебя Хани, в этом письме я сам себе хозяин.
А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть?
Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление.
Мир устроен так еще со времен Плутарха, а то и с самого начала, с первого дня существования глиняных людей, сброшенных задумчивой Нюйвой на землю, после того, как она укрепила небосвод ногами черепахи. Возьми хотя бы Фидия, которого сначала обвинили в краже золота, из которого он делал плащ для богини, а потом, когда, ободрав статую и проверив золотые пластины, соплеменники успокоились, пришли другие и сказали, что скульптор обидел богов, поместив на щите два профиля обыкновенных смертных — свой и Перикла.
Не деньги, так политика. Бедняге Фидию было суждено попасть в тюрьму, и он туда попал, находиться там ему было противно, так что он умер довольно быстро.
Если бы в тот день, когда я увидел Лиссабон впервые, кто-то сказал мне, что я буду сидеть в тюрьме, не то за деньги, не то за политику, не то за отрезанные ноги небесной черепахи, я бы только рукой махнул. Мне было четырнадцать, я недавно прочитал «Графа Монте-Кристо» и взахлеб пересказывал его своей сводной сестре. Мы с Агне стояли на террасе и стреляли из ее нового лука с бельевой резинкой вместо тетивы, стараясь попасть в фонтан, а еще лучше — прямо в надменную голову лосося, в сочный оливковый глаз! Я рассказал сестре про наши с Лютасом вильнюсские дела: про бомбы с сухим льдом, который мы выпрашивали у мороженщицы, и про ракеты из селитры и шариков для пинг-понга. Потом, для пущей убедительности, я стянул в чулане резинку и сделал лук. Сестра смеялась и прыгала, а я удивлялся: в первый день она казалась мне взрослой, с этими подкрашенными розовым карандашом губами и протяжной, поучительной манерой произносить слова, я даже подумал, что ей лет шестнадцать, не меньше.
Так вышло, что до приезда в Лиссабон я ни разу не видел своей сестры. И ее матери, которая так смешно писала свое имя — Zoe, тоже не видел. Высокая, худощавая тетка была не похожа на мою мать, но мать сказала, что так и должно быть: они вовсе не родня, в тетке нет ни капли литовской крови, она не католичка, в Вильнюсе жила недолго, странно, что она вообще нас пригласила.
Она русская с ног до головы, сказала мать, когда мы стояли на террасе, и я невольно обернулся и посмотрел на теткину голову и ноги через стеклянную дверь. Голова была маленькой и гладкой, волосы Зоя заплетала в косы, а косы стягивала в узел, узел лежал низко на смуглой шее и пушился, будто кокосовый оре. Что касается ног, то я видел только босые ступни, лежавшие в руках ее мужа Фабиу, остальное было скрыто под балахоном из зеленого хлопка.
В то время я старался не носить очков, поэтому разглядеть тетку как следует не сумел, к тому же мне было неловко на нее смотреть. Зоя сидела в ротанговом кресле-качалке, а Фабиу разминал ей ступни, устроившись рядом на полу, он все время это делал, совершенно нас не стесняясь. При этом вид у него был такой, будто еще минута — и он поднесет ее пятку к лицу и поцелует. В общем, дурацкий у него был вид, хотя лет ему было немало, мне он казался жилистым и узловатым, будто дубовый корень.
Агне вышла на террасу с бутылкой лимонада в руке и стала медленно пить, повернувшись спиной к дверям, я понял, что ей тоже неловко на них смотреть, и в первый раз подумал, что жить вдвоем с матерью не так уж плохо. Агне не знала ни одного литовского слова, кроме mamyte и ledai, хотя у нее было древнее литовское имя и волосы цвета слегка пожухшего сена, еще светлее, чем у моего школьного друга Лютаса. Удивительное дело, вокруг меня всегда, с самого детства, роятся светловолосые люди, будто стеклянные мотыльки Palpita vitrealis или бледные мотыльки Sitochroa palealis. При этом жена у меня черна как смоль, у матери на голове моток медной проволоки, а сам я не разбери что — зимой волосы мгновенно темнеют, а летом выгорают в соловую гриву.
Помню, как Лютас провожал меня в Лиссабон — мы весь день сидели в нашем подъезде на подоконнике и пили горькую настойку, двадцатиградусную. В тот день он принес мне свою кожанку, настоящую, шоферскую, с карманами на молниях, чтобы я не позорился за границей в своем старом пальто, а в придачу — горсть эстонских денег, выменянных в школе на марки. Эстонцы только что отчеканили белые однокроновые монетки, точь-в-точь совпадающие с немецкой мелочью по весу и размеру, их можно было опускать в торговые автоматы. Во Франкфурте у нас с мамой была пересадка на рейс португальских авиалиний, так что я потихоньку обобрал все автоматы в зале ожидания, набив карманы пачками «Мальборо» и пакетами соленого миндаля. Явившись к родственникам, я первым делом высыпал свою добычу на кухонный стол под удивленными взглядами тетки и Фабиу. Ладно, другого подарка у меня все равно не было. Если бы Фабиу знал, что не пройдет и шести лет, как я буду ночевать с его женой в номере отеля «Барклай», он, наверное, удивился бы еще больше. Он умер задолго до того, как это случилось, и тем самым лишился возможности отволочь меня на агору и засунуть в задницу редьку или колючую рыбину, а потом засыпать мне согрешившие части тела горячей золой — так в старину полагалось поступать с прелюбодеями.
Он умер в девяносто четвертом. В этом году в Сараево обстреляли рыночную площадь, в Мексике восстали индейцы, паром «Эстония» затонул, комета Шумейкера-Леви столкнулась с Юпитером, а я поступил в университет и поселился в облупленном общежитии на улице Пяльсони. В тот год я думать не думал о лиссабонской террасе, я начисто забыл о ней, и о тетке забыл, и о сестре, с которой в один из дождливых дней целовался под ковром между львиными лапами рояля. Я читал «Введение в египтологию» и ходил в гости к двум однокурсницам, снимавшим на окраине домик с печкой, потому что в общежитии было холодно и дуло изо всех окон. По дороге к девушкам я отрывал доски от чужих заборов или воровал угольные брикеты, однажды за мной погнался эстонец-хозяин, кричавший «Куррат! Куррат!», я бросил брикеты и побежал — просто, чтобы доставить ему удовольствие.
Когда меня вывели из дома, инспектор повернул рубильник на лестничной площадке, закрыл дверь моим ключом и опустил всю связку в карман моего пальто. Руки у меня были скованы за спиной, на меня сразу надели наручники, а один из полицейских даже придерживал сзади за плечо, как будто мне было куда бежать. Байша успела повязать мне теплый шарф, и я боялся, что он развяжется и упадет. В машину меня сажали с церемониями, зачем-то пригибая голову рукой, хотя дверца фургона была довольно высокой, в человеческий рост.
Этот жест напомнил мне движение конюха на ипподроме, которое я подсмотрел, когда был там прошлой зимой — с моим другом Лилиенталем, который едва только начал выходить на люди после нескольких месяцев на опиатах. Ему стало немного лучше, и он сразу потащил меня на ипподром, хотя добираться от его дома до Эшторила приходится с двумя пересадками. Мы искали жокея, который должен был подсказать несколько верных ставок, и долго бродили в пропахших мокрыми опилками закоулках конюшен. Наконец мы вышли к манежу и увидели, как мохнатого нервного пони гоняют по кругу вдоль проволочного забора.
Пони возмущенно мотал головой, подбрасывал круп и норовил треснуть седока о забор, за что тут же получал хлыстом по кончикам ушей. Когда жокей услышал свое имя, он спешился и подвел лошадку ко входу, чтобы поздороваться с Ли. Я заметил, что он сильно пригнул голову пони рукой в перчатке и стоял так, не отнимая руки все время, пока с нами разговаривал. Поймав мой неприязненный взгляд, он сказал, что делает это не со зла, а затем, чтобы лошадь знала, что урок не закончен, до стойла далеко и хозяин требует покорности.
В полицейском фургоне не было окон, и я смотрел в затылок инспектора, маячивший впереди, за узким грязноватым окошком. Затылок был плоским, даже приплюснутым, что говорит о жадности и упрямстве, а шея была кривой, что свидетельствует о живом уме. Осталось узнать, будет ли он зверствовать на допросе, подумал я, но тут машина замедлила ход, стукнули ворота, инспектор обернулся и кивнул мне на прощание:
— Идите, Кайрис. Дальше без меня.
Сержант дал мне знак выходить из фургона и повел вперед, пригнув мою голову рукой в перчатке, так что я увидел только площадку, засыпанную гравием, а потом — выложенную серыми плитами дорожку и ступени крыльца. У самой двери я поднял голову и прочел: Полицейский департамент номер шесть. И чуть пониже: кальсада дос Барбадиньос. Странно, что мы ехали так долго, в этом районе мне приходилось бывать у знакомого антиквара, и я ходил сюда пешком, с парой подсвечников под мышкой или граненым графином, завернутым во фланель. На крыльце сержант скривился, как будто вспомнил что-то неприятное, достал из кармана бумажный мешок, расправил и ловко надел мне на голову:
— Извини, брат. Такие здесь порядки.
Я спокойно стоял у двери, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Хлопнула автомобильная дверца, кто-то засмеялся, потом завелся двигатель, зашуршал гравий. Почему они повезли меня на северо-восток, разве в альфамском участке нет своего отдела убийств? Вероятно, потому, что я иностранец, а здесь какой-то особый отдел для провинившихся иммигрантов. Дверь открылась, меня взяли за наручники и потянули внутрь. Конспираторы хреновы, начитались про Гуантанамо, сказал я, и тут же получил тычок под ребра. Похоже, отсюда дорога только в аэропорт и домой, в Литву, в тюрьму на улице Лукишкес, думал я, пока шел по бесконечному коридору. Конвойный придерживал меня за плечо и негромко предупреждал: лестница, стоять, направо.
Я ожидал жестокого допроса, но меня отвели на второй этаж, сняли с головы мешок, втолкнули в камеру с бетонной скамейкой, вырастающей прямо из стены, сняли наручники и оставили одного. Даже обыскивать не стали, а могли бы неплохо поживиться. Сидеть на бетоне было холодно, так что я стал ходить вдоль стены, зачем-то считая шаги, через три тысячи шестьсот шагов мне принесли одеяло и матрас, набитый чем-то вроде гречневой шелухи. Я вытянулся на скамейке лицом к стене, увидел перед собой слово banana и закрыл глаза.
Подумаешь, бетонная скамья. В позапрошлом году, когда я был во Флоренции, мне приходилось спать на антресолях шириной с половину плацкартной полки. Так вышло, что я жил в дешевой квартире в районе реки Арно, где ванна стояла посреди кухни, спальни вообще не было, а на антресоли вела библиотечного вида шаткая лесенка. Я долго не мог привыкнуть и, просыпаясь, резко поднимался в постели и бился головой о дубовую перекладину потолка. Через неделю мне показалось, что на двухсотлетней балке образовалась вмятина, еле заметная, но вполне понятного происхождения. Меня это почему-то обрадовало: я подумал о тех, кто поселится здесь после меня, они будут смотреть на дубовую балку и усмехаться, думая о прежнем постояльце.
Засыпая, они будут думать обо мне — вот что меня тогда волновало, надо же, трудно в такое поверить в эпоху «World of Starcraft».
В городе, огороженном непроходимой тьмой,
Спрашивают в парламенте: кто собрался домой?
Никто не отвечает, дом не по пути,
Да все перемерли и домой некому идти.
Совершенство меня беспокоит.
В вильнюсской школе я чуть не угодил в черный список за то, что однажды вечером пробрался в кабинет минералогии и унес две друзы полевого шпата и превосходный дымчатый шестигранник кварца, распоровший мне карман школьной куртки. Я давно хотел это сделать, я смотрел на них несколько дней, пока наш географ рассказывал про пегматитовые жилы, я смотрел на них, не отрываясь, а они смотрели на меня.
Через пару дней мать нашла мою добычу, выставила на кухонный стол и допросила меня со всей строгостью. В нашем доме трудно было что-нибудь спрятать, у нас даже книжных полок не было, не то что чердака или подвала с тайником. Я признался во всем и согласился отнести камни назад, все это не имело значения, я их уже не слишком любил. Постояв под моей кроватью, кристаллы покрылись пылью и теперь скучно лежали на клетчатой скатерти. Я завернул их в газету, сунул в портфель и понес в школу, где в пахнущей бутербродами учительской меня уже ждали географ и завуч, наскоро перекусившие и готовые к расправе.
Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал Честертон. Если считать их самоцелью, они непременно нас обманут; если же увидеть, что они стремятся к большему, они окажутся еще реальней, чем мы думали. Ясное дело, нам кажется, что вещи не совсем реальны, ибо они живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика семян. Веришь ли ты в кофейник вместо сердца на автопортрете Антонена Арто? Я-то верю, у меня самого вместо сердца дисплей и клавиатура, они суть мерцание моих аритмий и трепет мягко западающих клапанов (не уверен, что клапаны западают, ну да чорт с ними).
Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я зачахну, замолчу, погружусь в кипяток действительности, как те крабы, что водятся в мутной воде у Центрального вокзала в Нью-Йорке. Раньше их ловили прямо с веранды seafood-кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. Так и я — стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных бегущих жуков на светящемся белом поле, как у меня отрастают клешни, и я оживаю, соскальзываю в воду и боком, боком, ухожу на свое придуманное дно.
Существуем только я и кириллица, литовские буквы недостаточно поворотливы и полны волосков, они цепляются за язык, будто гусиное перо за пергамент, русский же лежит у моей груди, в особенной впадине диафрагмы, к ней мужчины прижимают чужое дитя, пока мать отошла в парадное подтянуть чулок — прижимают крепко, держат неловко, но с пониманием. Ладно, пусть будем я, кириллица и еще пастор Донелайтис. И озеро Mergeliu Akys! Вина же, которой я теперь переполнился всклянь, будто колодец после проливного дождя, вообще не должна существовать, поскольку зло и добро произвольны. В тюрьме я понял это на четвертый день, потому что на четвертый день меня вызвали к следователю Пруэнсе.
— Вы признаете свою вину, — произнес он, и я увидел эту фразу в воздухе между нами, будто всплеск серпантина. Вопросительного знака я не увидел, следователю было скучно: либо у него не было ко мне вопросов, либо он знал все ответы наперед. Что до меня, то я так долго ждал вызова в этот кабинет, что готов был говорить о чем угодно: о Реконкисте, о ценах на бензин, о певице Амалии Родригиш. После первого вопроса Пруэнса замолчал, налил себе чаю и принялся заполнять какие-то пробелы в моем досье. Минут через десять в кабинет вошел еще один тип, которого я принял было за писаря, потому что он был в штатском, но тот сел боком на стол следователя и принялся качать ногой. Потом пришли двое охранников, расположившихся у двери, и я подумал, что народу в кабинете многовато для простого допроса.
— Вы поедете с нами на опознание, Кайрис. У вас крепкий желудок? — Пруэнса отхлебнул чаю и улыбнулся. У него была незаметная, ускользающая улыбка, которую хотелось поймать и слегка придержать пальцами.
— Я уже видел ее труп. Не надейтесь, что в морге я признаюсь в том, чего не делал.
— Ее труп? Да он под дурачка косит, — сказал тот, второй. — Вот здесь написано, что при аресте ты заявил, что пистолет принадлежит тебе. К тому же ты признал при свидетелях, что тебе известно о совершенном ночью убийстве. Хотел бы я знать откуда?
— Из компьютерной записи, откуда же еще. Я видел, как ее убили из моего пистолета, но не смог разглядеть того, кто стрелял. Я также видел, как ее тело прятали в мешок для мусора.
— У вас скверный португальский для человека, который живет здесь почти семь лет. Вы имели в виду его тело? — Пруэнса был так угрожающе благодушен, что я насторожился.
— Думаю, убитый сам толком не знал, кто он такой. Но вы правы: что бы он сам о себе ни думал, это был настоящий парень. Я видел настоящий пенис, caralho, не приклеенный.
— Ах, видели? — он остановился возле моего стула. — Ваше признание придется занести в протокол. Жертва была полностью одета, когда мы нашли тело. Белье тоже было на месте. Мы знаем, что вы хорошо знакомы с убитым, но не предполагали, что вас связывали отношения такого рода.
— Заносите что хотите. Никаких отношений не было. Хотя я уверен, что у человека, которого убили, были отклонения на сексуальной почве.
— Первый раз вижу такого урода, — вмешался тот, второй, — убил своего приятеля да еще обзывает покойника извращенцем! Вот дерьмо.
На втором была свежая рубашка, я почуял ее цитрусовый запах, когда он толкнул меня на пол вместе со стулом. Пруэнса присел возле меня на корточки и сочувственно покачал головой. Лицо у него не старое, но все в мелких щербинках, похожих на пороховые метины, такие же щербинки я увидел на носках его ботинок, наверное, он не пользовался гуталином и много ходил пешком. Обувь его помощников, стоявших возле меня в кружок, была поновее и попроще, я разглядывал их ботинки довольно долго, лежа на полу и думая об Орсоне Уэлсе.
Когда снимали «Гражданина Кейна», режиссер велел пробить яму в цементном полу студии и заставил оператора туда забраться, чтобы люди в решающей сцене выглядели настоящими исполинами. Я думал о том, приходилось ли Орсону Уэлсу лежать на полу в кабинете следователя. Наверняка приходилось. А иначе — как он мог об этом догадаться? Еще я думал о паучке, который висел на паутинке, которую он начал плести от крышки стола, на котором лежала папка с моим делом, в котором было написано про убийство, которого я не совершал.
Когда за мной пришли на Терейро до Паго, я был уверен, что тело датчанки нашли, и теперь мне придется объяснять все с самого начала. Сидя на кухне напротив инспектора, я ждал, когда один из полицейских поднимется на второй этаж и крикнет оттуда: «Пришлите дактилоскописта! Я нашел место, где он убил девушку, тут даже пятна на стенах от мыльной воды и уксуса». Но никто не крикнул, меня довольно быстро вывели из дома и отправили в участок, входную дверь опечатали, ключ от нее лежал у меня в кармане, так что, подумав хорошенько, я понял, что locus delicti никого не интересует. Я понятия не имел, куда делась Додо, где скрывается вся остальная шайка и что вообще надо говорить, чтобы мне здесь поверили.
Если поверят, я сяду в тюрьму за соучастие в ограблении и сокрытие улик, если не поверят — сяду за убийство. Для каждой свиньи наступает день ее святого Мартина, как сказал один испанец, тоже побывавший в плену. Мать испанца, добрая донья Леонор, выкупила его за две тысячи дукатов, а на мою мать, суровую пани Юдиту, надеяться уж точно не стоит.
Когда я упал на пол, то ударился головой о край стола, из носа пошла кровь, но мне не предложили ни платка, ни салфетки. Стул тоже упал и придавил мне правую руку, я хотел его скинуть, но тот, кто меня толкнул, улыбнулся и поставил ногу на перекладину, не давая мне подняться. На какое-то время я перестал слышать, но слух быстро вернулся — болезненным щелчком, похожим на тот, что бывает после слишком быстрой самолетной посадки.
Шла Федора по угору, несла лапоть за обору, обора порвалась, кровь унялась. Так заговаривают кровь в тех местах, где родилась моя няня, странно, что я это помню до сих пор. Я осторожно протянул другую руку к внутреннему карману пальто. Похоже, что очки уцелели, хорошо. Эту оправу я купил еще во времена благоденствия, когда работал в Байру-Альту: золото и сталь, немецкое качество. Вот за что я люблю португальцев, здесь даже бьют, не слишком стараясь. О здешней корриде и говорить нечего — быка на арене не убивают, рога у него подпилены, вокруг прыгают шалые фуркадуш в колпаках, не коррида, а цирк-шапито.
Жертва была одета, когда мы нашли тело. Чушь собачья. На датчанке было белое платье, а под платьем ничего не было, это я видел так же ясно, как вижу сейчас свою ладонь, вымазанную кровью. Какое там белье, какие джинсы? Но скажи я им об этом, они примутся стучать по мне своими ногами, стульями и всем, что под руку попадется.
За два дня до ареста я видел убитую Хенриетту в городе и даже не слишком удивился. Какое-то время я шел за ней, как скучающий растаман за сладким дымком, потом она вплыла в высокие двери вокзала Россиу и пропала. На ней было черное платье, и я подумал, что призраки выбирают черный цвет, но не тот, блестящий, что латиняне называли niger, а матовый, то есть ater. Призраки не могут себе позволить выглядеть нелепо, и это правильно. Зато неправильно другое: я сижу в тюрьме за убийство датчанки, а ей и в голову не придет написать инспектору оправдательное письмо чернилами из сока лишайника. Или явиться ему во сне с собственным черепом под мышкой и рассказать, кто на самом деле пристрелил ее ветреной февральской ночью.
Совершенно ясно, что, показав спину датского призрака, провидение дало мне знать о предстоящих событиях. Провидение — это христианское имя случая, говорил Шамфор, а я говорю: провидение — это языческое имя интуиции. Когда я сказал себе это, паучок, сидевший в засаде, поймал муху и принялся ловко ее вертеть, опутывая липкой нитью, муха была большая, янтарная, но и охотник был не промах, это я сразу понял. Вот тебе и ответ, Костас, думал я, закрывая глаза и слушая, как полицейские обсуждают ночную грозу и состав «FC Porto». Я знал, что жаловаться некому, более того, я не мог даже разозлиться как следует — это был первый допрос, я давно не видел людей и страшно по ним соскучился.
Да не настроит тебя никакой слух против тех, кому ты доверяешь, говорил мой любимый философ, но он не сказал, что делать, если ты не доверяешь никому. Все эти дни я ждал допроса, слонялся по камере, перебирал имена и события, пытаясь сложить части головоломки, танграма из слоновой кости, но вот меня вызвали на допрос, все запуталось еще больше, и в руках у меня оказался только узел из кизилового лыка.
Как бы там ни было, я решил писать обо всем, что приходит в голову, в том числе и о тебе, Ханна, хотя тебя я помню довольно смутно. Вот что я помню: длинные ноги с красноватыми коленями, протяжная, спотыкающаяся на согласных речь, бублик из черных косичек на затылке (здесь такой бублик называют «bolo rei» и кладут в него цукаты) и пацанская привычка стучать собеседника по плечу. Я помню, что целовал тебя в пустом коридоре общежития, потому что твоя соседка-деревенщина вечерами никуда не выходила. Может, это и к лучшему, думал я, укладываясь спать в нашей с китаистом комнате, заставленной сосновыми полками. У нас даже между кроватями стояли полки в половину моего роста, так что мы спали в овечьем загоне, сделанном из голубых томов «Путешествия на Запад» и зеленых кирпичей Плутарха.
Не слишком-то много я помню, верно? Ну и ладно. Тому, кто пишет, необязательно помнить, как все на самом деле было, ведь он владеет мастихином, которым можно не только смешивать охру с белилами, но и палитру поскрести, почистить лишнее.
А если заточить мастихин как следует, то и убить, пожалуй, можно.
В детстве носил имя Пиррисий («ледяной»),
но когда огонь обжег ему губы, его назвали Ахилл («безгубый»).
Было время, когда моим лучшим другом был соседский Лютас, живший в доме напротив, но не в здании с маскаронами в виде львиных голов, а в глубине двора, в деревянной пристройке. Мы звали друг друга бичулис, с литовского это переводится как «приятель», но не только: так называют друг друга пасечники, владеющие общими пчелами. Бите означает «пчела», у моего двоюродного деда на хуторе их было видимо-невидимо, восемь ульев или двенадцать, про бичулисов это он мне рассказал. Когда дед умер, его дряхлый белоголовый бичулис с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку, я этого не видел, а мать как раз была в Друскениках, но возражать не стала.
С Лютасом мы подружились в третьем классе, совершив справедливый обмен: я дал ему рамку с четырьмя сохлыми бражниками, а он мне — гнездо славки, выложенное конским волосом. Подарков мы друг другу не делали, правда, однажды я нарушил правила, подарив ему альбом римских рельефов, присланный мне отцом, но это случилось гораздо позже, перед самым отъездом в Тарту. Тяжелый коричневый альбом в ледериновом переплете был лучшей книгой в доме, хотя слов там было немного, только подписи, комментарии и словарь античных терминов. Я часами сидел над ним, вглядываясь в лица всадников и лошадиные морды, выступающие из колонны Траяна, в скорпиона, отгрызающего фаллос быку, которого закалывает Митра, да чего там только не было на этих рельефах. Я отдал альбом другу, потому что думал, что мать его запросто выбросит, она как-то странно относилась к отцовским подаркам, но Лютас снес его к букинисту, когда ему понадобились деньги, и был в своем праве, ничего не поделаешь.
Не так давно я прочел, что в плутовском романе дружбы не бывает, а есть только junta, то есть шайка сообщников. Любви там тоже нет, все чувства легко предаются забвению, кроме, пожалуй, самого зябкого чувства — обиды. Мы с Лютасом не были шайкой, как не были братством, артелью или ватагой, однако по отдельности мы были изрядные плуты.
В девяносто третьем я уговаривал его ехать со мной в Тарту, но куда там — мой друг собирался в мореходное, даже документы подделал, чтобы его взяли, уменьшил себе возраст на два года. В Клайпедской мореходке Лютаса заставили пройти медосмотр и сразу отправили домой — нашли куриную слепоту. Где написано, что капитан корабля должен видеть в темноте? Взять хотя бы адмирала Нельсона, тот и вовсе был кривой.
— Какой смысл тратить на образование четверть жизни? Да нет никакого смысла, — сказал Лютас, вернувшись домой. — В прежние времена я мог бы стать подмастерьем в семь лет или юнгой в десять, а к двадцати уже увидеть весь свет, даже Патагонию.
Патагония была помешательством моего друга, его idee fixe, мальчишеским раем. На кухонной стене у него висела карта, где он отмечал флажками одному ему понятные пути воображаемых кораблей. Лютас часами мог рассказывать про вонючую смолу, выступающую на ветках, про хвощи, тукко-тукко и казуаров — он знал «Путешествие на Бигле» наизусть и даже выменял в школе у одного ботаника томик Жюля Верна с иллюстрациями Риу. Когда карта до смерти надоела его матери, он снял ее и принес ко мне, аккуратно свернутую в рулон, чтобы я спрятал ее в сарае, в тайнике под стальной стружкой, я там все важные вещи прятал с тех пор, как понял, что мать роется в моих вещах без зазрения совести. Спустя несколько лет я спрятал там тавромахию, украденную у тетки, но об этом потом расскажу, особо.
Когда, в августе девяносто третьего, я вернулся из Тарту домой и сказал, что с горя поступил на исторический, Лютас даже не удивился, похоже, он не видел большой разницы между востоковедом и медиевистом. Они с Габией, его подружкой, целыми днями пропадали на городском пляже в Валакампяй, где был ларек с чешским пивом — пиво остужали, опуская бутылки в авоське в речную воду. Иногда Лютас звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валяться на расстеленном в траве одеяле рядом с Габией было выше моих тогдашних сил. Говорила она мало, зато вместо купальника на ней были лифчик и шорты, одинаково тесные. Я нарочно приходил без полотенца, чтобы лежать с ней «валетом» на одеяле и глядеть туда, где тело Габии начинало раздваиваться на два ровных, блистающих клинка, будто мусульманская сабля-зульфикар. Клинки держались близко друг к другу, но в полдень между ними пролегала длинная прохладная тень.
Когда Габия сказала, что устроилась на лето в кукольный театр и больше не придет, я невольно засмеялся — я сам чувствовал себя куклой в ее руках, той самой кланяющейся полосатой куклой, что держит гетера на гравюре Харунобу. Но это я теперь понимаю, а тогда у меня просто мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы зевнуть или сунуть за щеку леденец. Теперь я понимаю и другое: греческое , первородный мрак, имеет общий корень с глаголом «разевать» — неважно что, девичий рот или пасть звериную.
Самое смешное, что я не хотел спать с Габией. Я не хотел спать с ней — ни тогда, ни потом, когда уже спал с ней. Я хотел владеть Габией, как ей владел Лютас, вот и все. Гоpe душило меня, прочел я у Байрона несколько лет спустя, хотя страсть меня еще не терзала.
Лютас был зимним человеком — довольно бледный от природы, в ноябре он становился перламутровым, будто изнанка морской раковины. Зима была ему к лицу, зимой он был ловким, разговорчивым и полным холодной небрежной силы. Летом я ни разу не видел его загорелым, даже не представляю, зачем он часами валялся на этом грязном пляже, где песок был похож на остывшую золу. Сказать по правде, летом я видел его редко — они с матерью уезжали на хутор, в Каралишкес. Там у Лютаса была другая жизнь, я знал о ней только по его рассказам, и она представлялась мне полной испытаний: мне чудились рваные раны от кастета, кровоподтеки от драки ремнями, ночное купание коней в речной воде, яростный футбол в высокой траве и лиловые следы на шее, которые носили напоказ, не прикрывая.
Живи мой друг в Древнем Риме, он был бы безупречным эдилом, ему просто не повезло со временем. Эдилы были строгими и отвечали за пожары, за жалобы ремесленников, за выпечку хлеба в пекарнях, одним словом — за все, что творится в стенах города. После моей русской няни это второй человек, которого я назначил бы эдилом, третий мне пока не встретился.
На моем хуторе жизнь была совершенно иной: колодезная вода, от которой ломило зубы, довоенные журналы на чердаке, царапины от терновых кустов и соседская девочка, дразнившая меня очкариком. В худшем случае — осиная опухоль или твердое рельефное пятно от слепня. Я был выше Лютаса на голову, читал на трех языках, носил на запястье золотые часы и на год раньше узнал, что такое поцелуй взасос, но Габия почему-то хотела его, низкорослого, с волосами цвета кукурузной шелухи и крепкими икрами велосипедиста.
Да что Габия, я сам готов был пойти за ним куда угодно, ползти на окровавленных коленях от Острой Брамы до польской границы — так говорила моя мать, и я понимал, что она права, хотя и огрызался, а однажды, услышав это, так треснул рукой по столу, что высадил указательный палец.
Когда мой друг затеял угнать антикварный соседский «Виллис», давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма, я ни минуты не сомневался. Лютас забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме и трясся, утешая себя тем, что это от ночного холода. Мы катались на трофейной машине до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох, пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками, в корзинках виднелась свекольная ботва и молодые шершавые огурцы.
В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она, не вступая в пререкания, закрыла меня до вечера в соседском чулане, где с потолка спускалась грязная лампочка на сорок ватт — все же ярче, чем в этой тюрьме! — а сидеть можно было только на венском стуле без спинки. Остаться взаперти без единой, пусть самой завалящей книжки — худшей муки мать выдумать не могла. Через полчаса спина у меня затекла, а ноздри забились чуланной пылью: смесью истлевших газет и древесной трухи. Обыскав как следует свое узилище, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетах. К одному из гроссбухов был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый.
Я сел на стул, прислонился к сырой стене, вырвал из тетради два исписанных цифрами листка и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с разбитными паненками по кофейням. Часам к восьми вечера я извел карандаш, заскучал и принялся искать что-нибудь съестное, воды-то у меня было вдоволь, из каменной стены торчал покрытый красной ржавчиной кран с вентилем, а под ним ведро, которое мне тоже пригодилось. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил на себя целую залежь холщовых мешков, поднял страшную тучу пыли и закашлялся.
— Это кто там шебуршит? — строго спросили за дверью. — Уж не вор ли забрался?
Я узнал голос доктора Гокаса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, как будто ударили ногой по плохо надутому мячу, дверь открылась, и Гокас возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом.
— Ты что здесь делаешь? — он обвел глазами полутемный чулан. — В индейцев играешь? Тебя там дружок во дворе спрашивал. Похоже, ему здорово досталось.
— Меня мать закрыла, — я протиснулся мимо него, торопясь к Лютасу. Я должен был его утешить, материнские пытки, даже такие изощренные, не сравнить с сыромятным ремнем жестянщика.
— Закрыла? — послышалось мне вслед. — Похоже, что забыла! А ты терпеливый пацан, Костас. Даже слишком. Я бы давно уже удрал, будь я на твоем месте.
Ну нет, думал я, сбегая по лестнице, только не на моем месте. С доктором я бы не стал меняться местами, от него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе «Трабант» и теперь проводил воскресенья, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы, чего доброго, полюбить сорокалетнюю пани Юдиту, старшую медсестру.
Вильнюс распухает во мне, Хани, хотя место ему на дне подсыхающей раны, в капле сукровицы. С тех пор, как я сижу в тюрьме, его становится все больше и больше, он отравляет мои сны, разъедает их беззвучными, яркими, увеличенными, будто в диаскопе, картинками. Флюгер с уснувшими воробьями, похожий на детскую карусель, канавы, полные покорных лягушек, водяные лилии, волчья ягода, черные от сажи сталактиты на горячих подвальных трубах. Хуже того — я вспоминаю то, чего вообще никогда не видел.
Прошлой ночью я видел во сне лейтенанта, гордо входящего в наш дом со смуглой сияющей щукой в руках, метра в полтора рыбина, даже не знал, что такие бывают. Этой щукой лейтенант торжествующе бил об стол, а бабушка Йоле смеялась, подбоченясь за его спиной, чешуя залепила ей лицо, но я видел ее молодые острые зубы, похожие на щучьи, и вдруг почувствовал голос крови, хотя смешно говорить об этом, глядя на холодную рыбью слизь.
Моя бабка была не простая рыбка, а железная, остро заточенная, с колющими плавниками, это я с детства знал, а мать пошла в другую ветвь, в арестантскую роту, как говорила Йоле, в сибирских колодников. Я тоже был похож на деда, которого никогда не видел, знал только, что серые глаза и вихор на затылке у меня от него, хотя на подслеповатой фотографии ни глаз, ни вихра разглядеть было невозможно. Я был похож на моего высокого, жилистого деда-горемыку, деда-иудея, деда-вора, и это обстоятельство делало нас с матерью родственниками, хотел я того или нет.
The Vico Road goes round and round
to meet where terms begin.
— Это у тебя либретто жизни, а не жизнь, — сказала мне Зоя, моя тетка. — Ты думаешь, что пишешь ловкие диалоги, используя музыку как подспорье, но это музыка использует тебя как посредника, как посредственного либреттиста, и никакая ловкость тут не поможет.
Она сказала это давным-давно, но с тех пор ничего не изменилось.
Зимой две тысячи седьмого я думал о тетке особенно часто, как будто предчувствовал, что скоро встречусь с ее дочерью, плавной и безудержной, будто сход снежной лавины. Агне приехала на Терейро до Паго без телеграммы, без звонка, просто однажды утром открыла дверь своим ключом — я и подумать не мог, что он у нее сохранился. Проснувшись от гулкого буханья кухонной двери, я спрыгнул с кровати и, вооружившись подсвечником, бегом спустился на первый этаж, где лицом к лицу столкнулся с улыбающейся Агне в полосатом африканском платье до полу. В одной руке у нее был молочный рожок, а вторую она подала мне.
— Привет. Прости, что не предупредила. Подвернулся дешевый билет, и мы с сыном решили тебя навестить. У нас тут небольшая катастрофа, но мы все уладим, если ты дашь нам кусок клеенки.
— Привет, — я поставил подсвечник на стол, включил в кухне свет и стал искать по ящикам клеенку, а сестра уселась на пол, как будто устала. Ее лицо потемнело за четыре года, проведенных в пустыне, но это был не загар, Агбаджа просто покрыла ее слоем рыжеватой пыли. От прежней Агне в ней остались только гудящий смех и веснушки, потемневшие, как старое золото. Все остальное было новым — и манера ловко садиться на пол, скрестив ноги, и грудь под балахоном, похожая на две крупные, перекатывающиеся в холщовом мешке канталупы. Я не был ей рад. Да чего там, она меня просто раздражала. В ней не было ничего, то есть совсем ничего от ее матери, как будто одну из них лепила китайская богиня, а вторую — гончар Хнум с бараньей головой.
Утром мы завтракали на крыше, подстелив соломенные циновки, я даже открыл бутылку вина, от которой Агне спокойно отмахнулась. Я и сам обычно не пью до полудня, но тут вдруг разнервничался. Я хотел спросить, куда подевались ее прежний жених и прежний ребенок, но почему-то не решался. Помню, что удивило меня больше всего: у моего племянника до сих пор не было имени. К тому же на мальчика нельзя было посмотреть. Агне заявила, что в тех краях, где она теперь обитает, это не принято. То есть имя у ребенка есть, но оно тайное, и сообщить его людям можно только в тот день, когда сын станет отличать сладкое от горького и сам об этом скажет. Смотреть на него можно только родственникам, а мне нельзя — у нас с ним, дескать, нет ни капли общей крови.
— Возьми хоть Заратуштру, — сказала сестра, лениво растягивая слова, — ему тоже дали имя-оберег, когда он родился, на авестийском это означает «староверблюдый». Зато злые духи не обращали на него внимания, и он вырос совершенно здоровым.
Мы просидели на крыше до полудня, сестра рассказывала о своих африканских годах; о скитаниях по пыльным углам земли, о каких-то учителях, чьи имена заставляли ее ласково округлять глаза и рот, о ночевках под открытым небом и пышных трапезах в компании дикарей. Я слушал ее с удовольствием и был рад уже тому, что она не упоминала теткиного имени. Мне было как-то не по себе от мысли, что Агне сейчас примерно столько же лет, сколько было ее матери, когда я увидел ее в первый раз.
Когда я увидел Зою в первый раз — сверху, с высоты трехэтажного дома, — мы с ее мужем стояли на крыше, где пахло свежескошенной травой, а по углам зеленели четыре аккуратно сложенных снопика. Я с трудом заволок чемоданы по узкой, непривычно крутой лестнице, мать тут же рухнула на диван в гостиной, а хозяин дома — сеньор Фабиу Брага — повел меня наверх, чтобы показать голубые изразцы и вид на реку. Тетка мелькнула на нижней терассе, поглядела на нас, прикрыв глаза рукой от солнца, помахала рукой и крикнула, что идет в лавку за вином и печеньем. Я видел, как она сбегает по пожарной лестнице в своих плетеных сабо на босу ногу, видел, как она перешла улицу, поздоровалась с кем-то, нырнула в подвал под вывеской «Панаджи» и почти сразу вышла, прижимая к груди пакет с торчащими оттуда копьями французских булок.
Я смотрел и не понимал, как эта тонкая, джинсовая, подпрыгивающая от нетерпения девчонка может быть сестрой моей матери. Она была из моей жизни, жизни четырнадцатилетнего созерцателя, собирателя марок, живущего у подножия вулкана Чико, спящего на матрасе у стены, заклеенной постерами «Аквариума» и «Кино».
Она не могла принадлежать пани Юдите и пани Йоле, их затхлой, пахнущей корвалолом жизни, полной обид и недоумения. Просто не могла и все тут.
— Сам видишь, мне приходилось нелегко, — сказала Агне, намазывая булку вареньем, повторяя знакомый жест, заставивший меня вздрогнуть: локоть правой руки чуть оттопырен, ломоть лежит на открытой ладони левой.
— Странно видеть тебя миссионеркой. Как ты попала в эту компанию? — спросил я из вежливости, надеясь, что она не разразится историей о деве Марии, явившейся ей во сне.
— Мне приходилось нелегко, — повторила она, и я понял, что эта фраза обозначает начало и конец истории. Так в джойсовских «Поминках по Финнегану» устроена дублинская улица, не имеющая ни начала, ни конца.
Когда тетка написала мне, что дочь нашла себе новых друзей и уехала с ними в Тимбукту или еще куда-то, я даже не сразу понял, о чем идет речь. Более того, я подумал, что слово «секта», брошенное вскользь, означало, что в этих людях было что-то неприятно настойчивое, какой-то мистический восторг, заставивший тетку насторожиться, или — что среди них был длинноволосый духовидец, от которого у Агне голова пошла кругом. Меня это не слишком удивило: я хорошо помнил падкую на поцелуи девочку в ковровом шалаше, я помнил острие языка, обшаривающего мои десны, хищную повадку пальцев, тепло, исходящее от сдобной шеи.
Я с трудом узнал свою сестру, когда мы встретились в день похорон, зимой две тысячи третьего. Агне ходила по комнатам с видом наследной принцессы, переставляла вазы, проводила пальцем по пыльным рамам картин и, казалось, не могла дождаться, когда люди, пришедшие выпить за упокой души ее матери, уберутся восвояси. Выслушав завещание, она поднялась со стула так резко, что тот отлетел к стене, у которой сидели две родственницы в черных шалях, выругалась вслух — этому литовскому ругательству я сам ее научил! — и вышла вон, оставив дверь открытой.
Кто знает, как бы я сам вел себя на ее месте, услышав, что остался без крыши над головой?
Через полчаса, когда гости разбрелись по дому со стаканами жинжиньи, сестра подошла ко мне и попросила позволения пожить в доме до рождения ребенка, но я был настолько ошарашен завещанием, что на слова о ребенке даже внимания не обратил. Нет, вру. Я услышал ее слова, но нарочно пропустил их мимо ушей и говорил с ней небрежно и грубо, даже кричал. Ее слова показались мне бессмыслицей, продолжением бедлама: все эти густо напудренные женщины в черном, говорящие на чужом языке (похожем не то на щелканье аистиного клюва, не то на шипение воздуха, выходящего из дырявого шарика), все эти граненые графины с лимонадом, в которых колыхались кусочки льда, угрюмые складки на лбу моей матери, тяжкий скрип кресла-качалки, в котором с начала поминок, не вставая, сидела сестра Фабиу, похожая на богиню Тоэрис, и вишневый привкус жинжиньи, поданной почему-то вместо вина. Никто из них не горевал по покойнице. Я знаю, как португальцы умеют горевать. Эти люди просто собрались в знакомом доме, чтобы поглазеть на портреты предков и посплетничать о растраченном наследстве. Меня они не замечали, и я был этому рад.
Проводив нотариуса, я решил открыть балконную дверь — воздух в гостиной так загустел и нагрелся, что трудно было дышать, — дернул за медную ручку, изображавшую звериную лапу, остался с ней в руке, оступился и чуть не упал. Агне засмеялась, а за ней засмеялись и напудренные кузины, тихо, в кулачок. Я был в такой растерянности, что выкурил две самокрутки подряд, стоя у парадных дверей и глядя на улицу. На лестницу вышел один из двоюродных дядьев, с таким же ртом в ниточку, как у покойного Фабиу, и посмотрел на меня с любопытством:
— Говоришь по-португальски, наследник?
— Нет, — я расправил плечи, — может, хочешь дунуть?
— Слушай, что у тебя было с этой славянкой? Мне говорили, что в тебе тоже есть русская кровь.
— Это плохо, что ли?
— Это странно, парень. Дом принадлежал семье больше ста лет, его реставрировал бакалейщик Рикардо Брага, каждую балку самолично проверял, витражи заказывал у церковного стекольщика, а теперь здесь живут русские, и всегда будут жить русские, как сегодня выяснилось.
— Если тебя это так бесит, купи у меня дом, — я был спокоен и казался себе выше ростом, трава всегда действует на меня одинаково. — Проверишь балки самолично. А также контрфорсы.
— Я бы купил, — сказал он без улыбки, — да ты, видно, плохо слушал нашего мэтра. Дом нельзя продать, обменять или сдать в аренду. Во-первых, об этом говорится в последней воле покойницы. Во-вторых, дом принадлежит банку «Сантандер», которому бестолковая russa умудрилась его заложить. Но жить в нем пока можно, так что давай живи, Константен.
Он похлопал меня по плечу и стал спускаться по лестнице, а я вернулся в гостиную, где тут же пролил кофе на ковер, принадлежащий теперь Агне, — по завещанию ей отходило все, что находится внутри, включая посуду, занавески и книги. Потом трава свалила меня с ног, я отправился к себе, упал поперек кровати и заснул. Утром оказалось, что, проводив гостей, мать решила остаться еще на несколько дней, а сестра собрала свои вещи и исчезла, я обнаружил это перед завтраком, когда постучался к ней в комнату, чтобы попросить прощения. С тех пор я не видел Агне четыре года и даже писем от нее не получал.
— Как тебе здесь живется? — спросила сестра, обводя гостиную рукой в тонких браслетах, их было не меньше дюжины, на каждом ободке выгравировано по слову, а вместе они составляли не то молитву, не то мантру. — Ступеньки не проваливаются, ключи не застревают? Дом тебя не мучает?
— А должен?
— Меня крепко мучил, когда мы с мамой сюда переехали. Но ты хитрый, с тобой ему не справиться. Я тоже с тобой не справилась, когда ты выставил меня отсюда после маминых похорон, — она передернула плечами. — Но я тебе прощаю. Мы с сыном тебе прощаем.
Творожная влажность и монашеское спокойствие, исходящие от Агне, утомили меня довольно быстро, к тому же меня раздражал ворох грязного белья в углу ванной, растущий, казалось, с каждым часом. Стирать это Байша, моя служанка, отказалась наотрез, она сестру вообще не замечала, огибая ее, как прозорливый капитан ледяную глыбу.
Байша — отрада моих очей, рыжая, как апельсиновая роща под Албуфейрой, прокуренная, как каминная труба, португалка до кончиков золоченых ногтей. Я получил ее от своего друга Лилиенталя. Раньше она жила у него на чердаке со своим котом, ничего не платила, зато мыла полы и подавала кофе — я всегда здоровался с ней за руку и говорил ала! Потом кот убежал — а может, Ли сам его выбросил, — сеньора расстроилась и закатила хозяину скандал, упомянув поименно всех приходивших в этот дом женщин, мужчин и мужчин, похожих на женщин. Через два дня Байша пришла ко мне с чемоданом и двумя вышитыми подушками, так что пришлось освободить комнату в полуподвале, где стоял бильярдный стол, затянутый заплесневелым сукном. Бог знает, где теперь эти подушки и где теперь Байша.
Лишних слов служанка не тратила, время от времени она подводила меня к новому пятну или дырочке в ковре и молча указывала пальцем. Я кивал, находил Агне и просил ее быть поосторожнее с кофе и сигаретами. На четвертый день мне надоело обходить груду ее тряпок, я бросил все в машину, сам себе удивляясь, а потом вынул и развесил сушиться на террасе. Вечером того же дня, как только я устроился на диване с газетами, сестра подошла ко мне с виноватой улыбкой, поблагодарила за стирку и попросила поискать у нее в голове. Я так растерялся, что только кивнул, и она распустила косичку, встряхнула волосами и села ко мне спиной — прямо на пол, на пятки, непринужденно, будто на чайной церемонии.
Последний раз меня просили о чем-то подобном лет двадцать назад, в тот день, когда умерла Йоле, и мать велела мне расплести бабушкину косу. Коса была на ощупь будто войлочная, детское страшное слово колтун душило меня, но я не смог сказать этого матери, заплакал и выбежал из комнаты, заполненной горячим стеариновым воздухом.
Я положил руки на затылок сестры, Агне терпеливо ждала, и я запустил было руки в ее волосы, борясь с подступающей тошнотой, но услышал тихое кошачье фырканье.
— Piada suja. Я пошутила, дружок. Пожил бы в наших краях, привык бы и не к такому, — сказала она, поднимаясь и заплетая косичку заново. — Иногда воды не бывает неделями, а народ вокруг разный, вот и приходится полагаться на друзей.
Как ни странно, после этого эпизода в доме стало спокойнее, как будто подставив мне голову, Агне заново очертила границы, восстанавливая нашу прежнюю связь — не то чтобы пресную, родственную, но и не любовную. Связь людей, знающих друг друга с детства, успевших нацеловаться до одурения, забыть друг друга начисто и к тому же насмерть поссориться, но толком так и не поговоривших.
— Прости, что ушла тогда, не попрощавшись, — сказала она однажды утром. До этого мы не вспоминали о дне похорон, но в тот день сестра взялась разбирать семейные альбомы, тяжелые и шершавые, будто морские черепахи, и разговор получился как будто невзначай. Снимки лежали вроссыпь на полу, на одних были дамы, на других — военные в форме времен диктатуры, и даже один гвардеец в шлеме с плюмажем.
— Да уж, странно ты себя повела. Недотыкомок каких-то прислала за вещами. Я сам бы все собрал, стоило только попросить.
— Гордыня это, я с ней плохо пока справляюсь. Она у меня от отца, — добавила Агне с важностью, я чуть не спросил ее, от которого из двух, но прикусил язык.
— Твои посланники больше побили и поломали, чем тебе привезли.
— Не мне, а в миссию, — поправила Агне, — мне самой ничего не нужно. Бог выгоды оплодотворил полезную часть опасностей, и родились многочисленные маленькие вещи.
Начинается, подумал я, укладывая на место альбомы. Кто бы мне сказал, что шестнадцать лет назад я обнимался с ней под низкими сводами коврового шалаша. Я — сводный брат малахольной проповедницы.
и так все женщины наперечет:
наполовину — как бы божьи твари,
наполовину же потемки, ад.
— Соня Матиссен? — воскликнула Додо, когда я упомянул ее подругу в незначительном утреннем разговоре. — У нее запашок полежавшей форели, когда поближе подойдешь, разве ты не заметил? Она взяла с меня деньги за то, чтобы нас познакомить!
— И дорого взяла? Мне приходилось встречать ее раньше, в одной студии в Шиаде. Она похожа на всех стареющих меценаток, таскающихся по мастерским. Очень душистая и приставучая.
— Она рыбница, сплетница и поливает себя одеколоном с ног до головы. А мы, испанки, всегда пахнем сами собой. — Додо положила ладонь мне на лицо. — Вот скажи, чем пахнет моя рука?
Ты пришла ко мне утром, ты села на кровать, этому альбому столько же лет, сколько самой Додо, а то и больше. Ее рука пахла тем, что мы делали всю ночь, но я промолчал и быстро лизнул ладонь. Женщины любят неожиданные жесты, хотя утверждают, что любят слова и меланхолию.
Додо сбросила халат и взобралась на меня. Если верить чаньским наставникам, жизненная сила находится в животе, и у Додо ее было предостаточно — я мог бы сосредоточиться на ее пупке не хуже, чем на своем собственном. В ней была та смугло-розовая телесная сытость, которую я видел только однажды — у девицы с иллюстрации к «Метаморфозам». Или к Апулею, не помню. У той, что сидит с лампой над спящим юношей и вглядывается в него, склоняясь все ниже, и, наконец, роняет масляные капли ему на живот.
Я читал этот том, завернув его в обложку от бабкиного требника, чтобы мать не нашла, мне было двенадцать лет, и эта книга казалась мне откровением — я ее никому не показывал, даже всеведущему Лютасу Раубе. Да он бы и не понял. Это я лежал там, под парчовым балдахином, притворяясь, что сплю, горячее масло текло по моим ногам, я ждал, когда она склонится совсем низко, чтобы схватить ее за волосы и подвергнуть наказанию — ведь я был бог, никто из смертных не смел видеть меня нагишом.
— Слезай, — я похлопал по длинной спине, упругой, как первобытный хвощ. — Хватит с тебя.
Додо послушно сползла с моего живота и легла лицом к стене. Под левой лопаткой у нее горел след от комариного укуса. Я представил эту спину среди китайских подушек в студии моего друга Лилиенталя, где гости валяются на полу — садиться за свой стол, заваленный эскизами и угольными карандашами, Ли никому не разрешает. Никаких сомнений в том, что он с ней спал, у меня не было. Ли со всеми спит, он терпеть не может спать в одиночестве. Когда прошлой осенью мой друг вернулся с островов, он рассказал, что хорватка, которую он возил с собой, сбежала с парнем из гостиничной обслуги, и ему пришлось целую неделю спать одному.
— Представь себе, пако, узнав о ее побеге, я осознал, что она годилась мне в дочери, а ведь я, в сущности, и сам еще ребенок, — сказал он, и я понимающе покачал головой. Лилиенталь легок и жовиален, но ему нужен предмет для страданий, как персонажу Уэллса нужен был чемодан, набитый камнями, — чтобы не взлететь как воздушный шарик.
Сам я не замечаю девиц в подобном возрасте, они полны плотоядного равнодушия и щиплют язык, как дешевое божоле. С тридцатилетними немного легче, зато в них часто бродит какое-то горестное вранье, которое мне обычно лень разоблачать, одним словом — тридцатилетние кисловаты и отдают пробкой. Сорокалетние напоминают сгущенное, отдающее смолой вино в аркадском кожаном бурдюке — недаром его разбавляли горячей водой те, кто понимал в этом толк. С сорокалетними меня мучает жажда, и все время хочется выпить ледяного вина и залезть в горячую ванну, до краев заваленную холмами пены, и сложить ноги друг другу на руки. Моей первой женщине было без малого сорок — правда, ванна в гостинице была крошечная, в ней можно было сидеть одному, да и то согнувшись в три погибели. До сих пор жалею, что не нашел подходящей ванны и не сделал с этой женщиной то, чего хотел. Теперь-то уж поздно, пенные холмы повалились, осели и превратились в талую водицу, пахнущую эвкалиптом.
— Я старше тебя на семнадцать лет, — пожаловалась тетка, когда мы стояли у дверей автобусного вокзала. — От этого мне хочется сесть тут, прямо на грязный пол, обнять свою сумку и заплакать. Ну почему, почему ты такой маленький?
— Не плачь. Я чувствую себя старым и разрушенным, как мост Кивисильд. Семнадцать лет — это не так много, некоторым едва хватает, чтобы понять, как выглядит лошадь, — сказал я и, увидев ее поднятые брови, добавил: — Это мне Мярт рассказал, мой сосед по комнате. Был такой китайский художник, он семнадцать лет ходил в императорские конюшни смотреть на лошадей, но ничего там не рисовал, только разглядывал. Однажды он не пошел в конюшню, остался дома, взял кисти и нарисовал самых совершенных лошадей во всей Поднебесной.