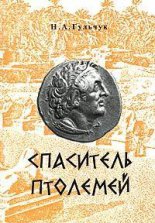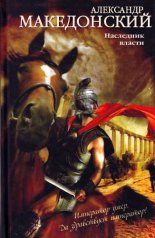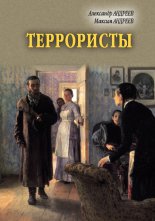Другие барабаны Элтанг Лена

— Послушайте, что за тенета вы тут плетете? Я требую очную ставку с самим Раубой. В конце концов, вы конфисковали его камеры, значит, он может быть вызван как свидетель.
— Вот как? Я подумаю, что можно сделать, — следователь посмотрел на меня с интересом.
Почему Лютас не рассказал мне, что женился на кукольнице? Мы ведь вспоминали о ней пару раз, но он даже виду не подал, сказал только, что заходил на улицу Пилес, уже после моего отъезда, весной две тысячи пятого. Я даже помню, где мы об этом говорили, — на ступеньках лиссабонского собора Се, сидели там на ярком солнце и ждали моего поставщика, прихлебывая коньяк из нагревшейся фляжки. Я немного нервничал, высматривал синюю теннисную сумку в толпе туристов и почти не слушал.
— Габия с Солей не разговаривали уже полгода, — сказал мой друг. — В доме кроме хлеба и ряженки никакой еды не было, обе худые, злые, будто осы, и тишина в доме, как перед грозой. Посмотрел я на все это, оставил деньги на столе и ушел. Габия съехала оттуда потом, я слышал.
— А с сестрой что стало?
— Ничего хорошего, — Лютас поерзал на ступеньке, — что случается с рыжими малолетками, когда они остаются одни? Сначала занятия бросила, потом ее хозяйка выставила за гулянки, а потом и вовсе след простыл, говорят, что видели в сквоте на Ужуписе, но могли и перепутать.
— Привет, — мой опоздавший торговец возник перед нами с сумкой через плечо. В сумке у него были настоящие ракетки, однажды я заезжал к нему в клуб на окраине Шиады и видел, что он неплохо играет. Товар тоже был там, в желтой длинной жестянке для мячей.
— Сколько тебе сегодня твоего фалалея? Ты мне, между прочим, не говорил, что вас двое, — заметил он недовольно, садясь на ступеньку ниже и расстегивая сумку. Поставщики терпеть не могут, когда приходишь не один, это у них прямо болезнь какая-то.
— Эй! Очнитесь. Вы не слышали моего вопроса? — следователь потрепал меня по плечу.
— Не слышал и не хочу. Я настаиваю на встрече с Раубой, его женой и человеком, известным мне под именем Ласло. Этот третий наверняка сидит у вас. У меня есть версия того, что произошло в моем доме, я сегодня же изложу ее в письме. И отправлю его прокурору.
— У вас завидная способность, Кайрис, вы легко забываете события жизни и смерти.
— Забываю?
— Вы даже собственную жизнь излагаете сикось-накось, путаясь в датах и описаниях, куда уж вам версию преступления изложить. Идите в камеру и подумайте.
— Чушь собачья. Что ты можешь знать о моей жизни? Мне нужен адвокат! — я вскочил со стула, но стоявший сзади охранник положил мне руки на плечи и заставил сесть.
— Разумеется, мы ознакомились с вашей биографией, сделали запросы, навели справки. Это привилегия следственных органов, Кайрис. Еще раз повысишь голос, garanhao, я оторву тебе твои белые bagos и повешу на двери твоей камеры.
У моего следователя есть диковинная черта: он одинаково хорошо владеет казенным языком и обсценной лексикой, язык у него двусторонний, как старинное пресс-папье с промокашкой, одна сторона у него суконная, а другая бумажная. Глаза у него бледные и неподвижные, словно у игрока в покер, а руки проворные, будто у старой шляпницы.
Ладно, теперь у меня, в придачу к бичулису, засадившему меня в тюрьму (чтобы отобрать мои ульи? чтобы ужалить меня?), еще и свихнувшаяся кукольница. Осталось понять, зачем ему это понадобилось — именно ему, потому что Габия просто делает то, что он хочет. С той же темной прикушенной улыбкой, с которой она делала все, что я хотел.
В ту ночь, когда я приходил попрощаться перед отъездом, Габия не сказала, куда подевалась ее сестра, а спрашивать мне не хотелось, наконец, она заснула, так и не произнеся ни слова, кроме нескольких глаголов практического свойства. Больше я ее не видел. Вильнюсский протерозой кончился, и начался лиссабонский разлив морей и континентальный дрейф. К слову сказать, меня всегда удивлял тот факт из истории Земли, что, когда Пангея распалась на две части, впадину между ними заполнил океан под названием Тетис. В переводе с литовского это означает отец, вернее, папа. Ни разу в жизни не произносил этого слова, даже смешно.
Ну что ж, если верить следователю, молчаливая Габия заговорила — громко, враждебно и с чужого голоса. «Настоящим подтверждаю, что с подозреваемым у меня были отношения». Я знал эту женщину всю свою жизнь, она не может составлять слова таким образом. Кто-то писал ей шпаргалку. И кто же, если не Лютас? Выходит, что грозный мадьяр всего лишь ладья, а индоевропейский король ходит конем и совершает триумфальные прыжки. Когда-то я прочел у Воннегута: Если у тебя есть венгр, враг тебе уже не нужен.
У меня есть венгр Ласло, и этого у меня не отнять. Еще у меня есть приятель-серб, который меня уволил, датчанка, которую убили в моем доме, испанка, которая меня подставила, условный немец, которому все по барабану, и шановний пан Конопка, который не стал жениться на моей матери. Еще у меня есть русская, которой уже нет, эстонка, которая забыла со мной развестись, литовка, которая врет, как мстительная сука, и португалец, который берет с меня десятку за фунтик сахару. Я живу в каком-то блядском Вавилоне, в окружении людей, которые и в грош меня не ставят. Все поголовно, кроме мертвых.
Я бы в ореховой скорлупке
чувствовал себя царем вселенной,
когда б не сны.
Представляю, как теперь выглядит моя кухня со всеми огрызками, гнилыми яблоками и недопитыми стаканами, дверь опечатали на моих глазах, а значит, Байша не сможет зайти и вынести мусор. Байша, впрочем, и так бы не зашла. Судя по ее молчанию, она подыскала себе место поспокойнее, так что, скорее всего, я найду ее ключи в почтовом ящике, когда вернусь на Терейро до Паго. Если я вообще туда вернусь.
А будь у меня настоящая прислуга, какая-нибудь голландка в крахмальном чепце, нет, лучше две голландки, они бы накинули на мебель чехлы, обмотали люстру чистой марлей, составили бы цветочные горшки поближе к окнам, поселили бы в гулких комнатах нежилое приятное эхо, сложили бы руки на животе и принялись ждать хозяина. Да только куда там, я ведь все подбираю за своим приятелем, даже служанку, и ту подобрал. Так что на кухне у меня настоящая оргия в духе Арчимбольдо, никаких сомнений.
Еда стареет быстро и некрасиво, выпивка — другое дело. На красном вине, забытом в стакане, появляется бархатистая ряска плесени, коньяк тускнеет, а вот, скажем, сыр, тот выгибается непристойной коркой, про хлеб и сливки я вообще молчу. Первое, что я делал, приходя к Лилиенталю домой, это шел на кухню, выливал опивки из бокалов и стряхивал остатки еды со стола, где он готовил себе сам, если оставался один. Такое случалось нечасто, в доме все время крутились люди, с кем-то у Ли были дела (знаем мы эти дела), с кем-то любовь (да со всеми, кто просил). До сих пор не понимаю, что у него было со мной. Иногда мне кажется, что он давно вылечился и может ходить и даже бегать, просто ему нравится казаться беспомощным стоиком-интеллектуалом, так же, как господину Гантенбайну нравилось казаться слепым.
Зато Лилиенталь никогда не жалуется, никого не проклинает и обо всех говорит с восторгом и негой. Рассказывая об одном мерзавце, которого стоило бы задушить и выбросить в канаву, он сказал буквально следующее: думая о нем, я чувствую себя, как халиф Мамун, думающий об императоре Феофиле. Вернувшись домой, я не поленился и заглянул в Яндекс, чтобы поискать незнакомые имена. Ну, ясное дело: Между мной и Феофилом — только меч.
Этот Феофил был клерком страховой компании, отказавшей Ли в оплате хирургической операции, когда тот попал в аварию и чуть не угробил двух девиц, которых вез из бара к себе домой. Клерк явился в палату к пострадавшему, когда тот лежал опухший, щербатый, замотанный в полотняные ленты, будто забальзамированная царица, и предложил ему покурить, чтобы уменьшить боль. Он сам свернул джойнт и даже придержал его у Лилиенталева рта.
Через пару недель доктор получил уведомление о том, что страховая компания возвращает больничные счета и оплатит только первую помощь. Они нашли свидетелей, каких-то мутных знакомых, заявивших, что Ли плотно сидел на наркотиках, поэтому и врезался в дерево, да чего там, они даже сбежавших из машины девиц разыскали в Альбуфейре и взяли у них показания.
Операция на раздробленных коленях прошла неудачно, но платить все равно пришлось. Ли подал на больницу в суд, но проиграл, тогда он предъявил иск страховой компании и проиграл еще до суда. С тех пор он уже не ходил без костылей, а в пасмурные дни так и вовсе не вставал. Страховая компания прислала ему коляску «EuroChair» с надувными колесами и коробку шоколадных конфет. Когда он рассказывал мне эту историю, а я задал натуральный вопрос как же ты выкрутился, он замешкался было, но все же ответил:
— Там, где я достаю деньги, тебе их все равно не достать. Ты, пако, не годиться для этого дела, в тебе нет нужных сопротивлений и диодов, или как там эти штуки называются.
— Разве мы не вместе продали изумруды Лидии Брага?
— Это я их продал. Не спорю, ты умеешь держать старинные вещи в руках, влюбленно их вертеть и подносить к свету, но ведь они не этого хотят. Они хотят того же, что и женщины: тихо лежать в темноте, лелеять нетерпение, узнавать себе цену и попадать в хорошие руки.
— Хочешь сказать, что у меня никогда не будет ни денег, ни женщин?
— Майн гот, — он покачал головой, — я говорю о приручении реальности, а ты ведь можешь просто взять и украсть, пако. Из тебя выйдет дельный опрятный вор с убеждениями. Только нужно перестать путать окно билетной кассы с окошком исповедальни. Ты подпускаешь к себе слишком близко, даешь подуть себе в шкуру между ушами, никого не посылаешь куда подальше и охотно слушаешь чужое нытье. В нашем лесочке это считают покорностью, и никому нет дела до того, что писательская покорность — это рабочий инструмент, такой же незаметный и чужеродный с виду, как хвост у плывущего бобра.
Ли видит меня насквозь. Он видит даже то, что я сам замазал глиной, зашпаклевал и забил все щели паклей. Удивительное дело, за десять лет до этого разговора я услышал что-то похожее от тетки, которая видела меня второй раз в жизни, но уже почуяла во мне слабину:
— Косточка, ты все обращаешь в слова, а это расточительная привычка, которая сделает тебя бедным и одиноким. Таким, как я, например. Запомни — у тебя на все про все одна жестянка слов, как у рыбака, закупившего приманку впрок для долгой рыбалки. Когда они кончатся, ты замолчишь, и тогда стыд заполонит твое горло и выест тебе глаза.
Я покачал головой, но про себя подумал, что она лукавит. Она никогда не была ни бедной, ни одинокой, эта женщина, не любившая деньги. Она хотела жить одна в старом альфамском доме, в том месте, где река впадает в океан, ходить босиком по пробковому полу, смотреть на корабли, и еще — чтобы ее все оставили в покое. Фабиу завещал ей немного денег, которые быстро иссякли, а рисовать она больше не хотела, да и кто бы стал покупать ее пастели. Дочь внезапно выросла, погрузнела и обращала к матери такие же пустые глаза, какими смотрят на посетителей мозаичные святые со стен собора дель Фьоре. Эта нарочитая пустота взора пугала тетку, хотя признаваться себе в этом ей не хотелось, так что, проводив дочь в колледж, она почувствовала покой и прохладу, а еще через год ей показалось, что никакой дочери и не было вовсе.
— Я поняла, кого мне напоминают твои друзья, — сказала тетка в тот день, когда мы с позором покинули общежитие на Пяльсони. В коридоре она остановилась, закинула в рот таблетку и проглотила без воды, сделав какое-то птичье движение шеей. Значит, колеса все-таки, подумал я.
— Стаю голодных волков? Облако саранчи?
— Нет, вовсе нет. Цецилию и ее сына, — тихо сказала тетка. — Когда мы с Фабиу поженились, нам пришлось снимать комнату недалеко от Жеронимуша, потому что прежняя patrona имела на Фабиу виды и сразу отказала ему от квартиры. Он утешал меня тем, что мы скоро переедем к его матери. Как только все устроится, говорил он, но ничего не устроилось ни в первый год, ни во второй, как ты понимаешь.
— И вы жили в одной квартире с хозяевами? — не поверил я.
— Ну да, с француженкой и ее сыном, на холме, на вилле с запущенным садом. Окно нашей комнаты выходило на шоссе, зато из ванной можно было увидеть краешек живой изгороди и качели под брезентовой крышей. Когда мы въезжали туда в августе, в саду осыпались больные яблони, я помню, как недозрелые яблоки хрустели у меня под ногами. Слушай, а почему мы выходим по черной лестнице? Ты избегаешь кредиторов?
— Да я должен здесь каждому второму. И даже той старушке, что сидит под доской с ключами.
— Ты уверен, что дело в этом? А меня ты, часом, не стесняешься? — Мы вышли на Пяльсони и стояли теперь под окнами общежития, из которых слышался простуженный крик запиленной в хлам «World Simphony». Холодное красное солнце показалось в развалившихся тучах, оно светило тетке в лицо, и я разглядел не виденные прежде морщины, они проклевывались у рта, будто трещинки на глиняной маске.
— Расскажи лучше про Цецилию.
— Ладно, — она взяла меня под руку, и мы пошли. — Итак, я жила на вилле, под самую крышу забитой газетами, связками счетов, старыми журналами и сложенными в пирамиды коробками из-под обуви. В кухне были протянуты две веревки, на которых сушились тряпки для пыли, полотенца и хозяйское белье. Свободной от мусора оставалась только гостиная, где Цецилия проводила свои дни, восседая в продавленном кресле, глядя в телевизор или вырезая картинки из журналов, в ожидании часа, когда сын вернется с работы. Он был, кажется, кондитером в Каштелу, впрочем, я точно не помню. Фабиу пропадал на работе целыми днями, и мы с Агне сидели в комнате без окон, заполненной надсадным ревом грузовиков и лязгом инструментов, доносящимся со стройки.
Хозяйка виллы была рыхлой и надменной, как оперная дива, ее сын — не помню его имени — казался рядом с ней хрупким услужливым птицеловом, эта пара была такой книжной, такой узнаваемой, что я поначалу прониклась к ним некоторым bien-etre, но чувство это угасло уже через несколько дней. Защелка в ванной комнате была сломана, и несколько раз хозяйка являлась туда во время наших совместных купаний — Фабиу любил полежать в горячей воде, пока я мыла голову под краном и завивала волосы.
В первый раз Цецилия немного сконфузилась и принялась извиняться, но позже заходила с отрешенным видом, объясняя сквозь зубы, что ей нужна расческа или крем для лица. Стучаться, как предлагал ей Фабиу, хозяйка считала никчемными церемониями, я хорошо помню ее померанцевый рот, когда она произносила это по-французски: super-flu и с-r-mo-nie. Однажды утром я обнаружила молодого кондитера в гостиной, лениво листающим мой альбом с фотографиями, то, что ему нравилось, он откладывал в отдельную стопку, выдирая снимки вместе с папиросной бумагой.
— Вот эти, детские, просто прелестны, — он поднял на меня просветленный взгляд, — я бы на вашем месте отдал их маме для работы, у нее дивно выходят коллажи со школьными друзьями. Она всем нашим жильцам делала, они были в восторге.
Я молча взяла альбом у него из рук, собрала разбросанные по дивану фотографии и понесла к себе, вслед мне раздался привычный влажный смешок: Дорогая Зоя, вы на удивление не светская женщина, сразу видно, что недавно с востока. Гости, приходившие к хозяйскому сыну, без церемоний открывали наше вино и поедали наш сыр, хранившийся в единственном холодильнике. В ответ на мои замечания Цецилия поднимала бровь и говорила что-нибудь вроде: Неужели мы недостаточно вас любим? Возьмите и вы наш сыр. Это почтенный дом, здесь не должно быть ссор и недомолвок.
Зимой я купила маленький холодильник для пикников в туристическом магазине и стала складывать туда наши с мужем скромные покупки, вино мы вывешивали в сетке за окно, а одежду и книги сложили в коробки, прежде заполненные подшивками «Trabalhos em Barbante» и рваной бумагой из-под рождественских подарков. Бумагу и газеты муж переложил в огромный мешок и вынес на угол улицы Конде, к мусорным контейнерам, удивляюсь, как он спину себе не сломал. Тем же вечером Цецилия явилась к нам в комнату, как будто почуяв перемены, и, заглянув в коробки, увидела там мои платья и пиджаки Фабиу, лежавшие поверх книжных стопок.
— А где мои вещи? — спросила она ласково, склоняясь над нашим гардеробом, и я поняла, что сегодня наш последний день в этом доме. Как ни странно, мы продержались еще пару месяцев, читая по вечерам все объявления в городской газете, все, что предлагали в Белене, было непомерно дорогим, а в город нам ехать не хотелось.
В тот вечер, когда хозяйка обнаружила пропажу газет, она заставила Фабиу пойти с ней к желтым контейнерам и там раскапывать завалы мусора в поисках утерянного архива. Возвратить его на место мы отказались наотрез, и Цецилия, негодующе всхлипывая, поволокла мешок к себе в спальню. Оставшиеся восемь недель мы жили под ее неуловимым беличьим взглядом, безымянный сын продолжал водить сомнительных гостей, и, наконец, обнаружив однажды утром в умывальнике мертвую птицу, залетевшую, наверное, когда проветривали ванную комнату, я поняла, что нужно немедленно уезжать, и мы уехали.
Монах Мин сказал так: «Это не падающая звезда.
Это небесная собака. Ее лай похож на гром».
Сегодня я поймал себя на том, что обращаюсь к своему лаптопу по имени.
Это вовсе не значит, что я схожу с ума. Надо же мне с кем-то тут разговаривать. Вот парень из «Маятника Фуко» звал свой компьютер по имени каббалиста, собиравшегося обратить папу римского в иудаизм. А я свой зову по имени преподобного Ф. Сирийского, жившего на капище в полном уединении, по имени любого русского дурачка, по паролю к этому файлу, наконец. Что до Ф. Сирийского, то он сидел гораздо дольше, чем я, да еще в тесной хижине, где голова у него упиралась в потолок. Так на что же мне жаловаться, братие?
Нынче утром я выпил вчерашнего чаю, насыпал в карман купленных у Редьки орехов и взялся перечитывать сам себя. «Мир покупает твое электричество, таких, как ты, много — торопливых, доверчивых, яростно машущих алюминиевыми крыльями вдоль дороги, в ветреную погоду легко добывающих свет для округи. Миру нужна твоя зеленая горечь, питающая камышиные стебли тех, кто уже подсыхает: ты польщен, твой рот растягивается в надменной усмешке, твоя цена написана у тебя на лбу и мир готов платить ее — потому что, куда же ему деваться?»
Ну и дурак же я был в девяносто девятом. Цена на лбу, электричество, чушь собачья.
Никто никому не нужен, ни за деньги, ни задаром. Люди любят и ненавидят, потому что в детстве их этому научили. Помнишь, что сказал газетчикам о смерти старый Марк Твен? Так вот, слухи о любви тоже несколько преувеличены. Речь идет всего лишь о темпераменте, терпении и готовности делить свое тело. А ненависть — это здоровое чувство тесноты в толпе, умножаемое на частоту встреч. Вот почему я не могу ненавидеть пана Конопку за то, что он ни разу не показался мне на глаза. Да если бы и смог — какой в этом толк?
Ненавидеть стоит лишь того, кто знает, что ты его ненавидишь.
После завтрака меня оставили в покое, даже охранник не появляется. Зато солнце к полудню разошлось и светит так, что видно всю пыль, висящую в воздухе перед моим лицом, — серую и золотую. Этим нас не удивишь. Байша меня не слишком баловала уборкой, приди она сюда, сказала бы, что в камере сравнительно чисто и нечего капризничать. Сижу голодный, подставив лицо солнцу, и слушаю, как в соседнем дворе кто-то упрямо стучит по игрушечному барабану. Удивительное дело, всего в нескольких шагах от тюремных ворот ребенок играет в солдатиков и знать не знает, что я слушаю эту дробь, будто каденцию Бонэма в пьесе «Rock-n-roll». Бой в отступление, как сказала Габия, когда я видел ее в последний раз.
Это было в один из теплых октябрьских дней, какие бывают в конце литовской осени. Я понемногу собирался в Лиссабон, предвкушая, как заживу в незнакомом городе, в обещанной мне мансарде с выходом на заросшую сорняками крышу. О теткиной болезни я старался не думать, мне казалось, что к тому времени, как я доберусь до Португалии, тетка непременно поправится и встретит меня на пороге, а то и в самом начале переулка, у каретного музея.
С тех пор, как я ушел из квартиры на улице Пилес, от сестер не было ни слуху ни духу, так что я решил, что меня правильно поняли и все уладилось само собой. Габия открыла мне дверь, молча пропустила в комнату и села на кровать. С лицом у нее было что-то не то — оно стало желтым и лоснистым, как творожный сыр, а возле рта образовались какие-то выпуклости, как будто она набрала полный рот орехов и боялась разжать губы. Я подошел к ней вплотную, протянул палец и провел по ее губам. Губы горели и едва заметно прилипали, так липнет к пальцам свежевыглаженная рубашка — диковинное свойство Габии, о котором я успел позабыть. Она была заполнена статическим электричеством, как грозовое облако.
— Ты где был? — спросила она, глядя на меня снизу вверх.
— За спичками вышел, — попробовал я пошутить.
— Купил? — Руки ее спокойно лежали на коленях, но я видел, что ей не по себе, от волнения у нее всегда набухала голубоватая жила на лбу.
— Купил. Где твои куклы, где Соля? — я оглядел знакомую комнату и не увидел ни кройки, ни шитья, никаких следов работы.
— Соли нет.
— Ты простудилась, что ли? Хочешь, я за ромом сбегаю, сделаем грог. А хочешь, музыку послушаем. У тебя есть мзыка?
— Ага, давай послушаем. Другие барабаны, — сказала она, внезапно улыбнувшись мне прямо в лицо.
— Какие еще барабаны? — я не стал садиться на стул, на нем можно было сидеть только прямо, а прямо я сидеть не люблю, скручиваюсь перечным стручком, как говорила няня. Она подходила сзади, когда я делал уроки, и сильными пальцами отгибала мне плечи назад, с тех пор никто уже так не делал, и я здорово сутулюсь.
— Другие. В армии Наполеона так назывался сигнал к отступлению. Другие барабаны услышишь, значит, бой окончен: потери слишком велики, и нужно отступить, перестроиться и вернуться с подкреплением. Такая дробь, мелкая, рассыпчатая. Услышишь и поворачивай назад.
Я смотрел на Габию и думал, что она здорово изменилась со времен Валакампяйского пляжа.
У нее появилась манера внезапно замолкать и щуриться, запрокинув голову, как будто подставляя лицо яркому свету, волосы она остригла, я видел ее лоб — выпуклый, гладкий, с красноватой родинкой прямо над переносицей. Никогда бы не подумал, что она станет писать стихи, но Соля однажды проболталась об этом и даже показала мне несколько строф, написанных почему-то на двух языках одновременно.
- Душа твоя — siela,
- a knas — тело,
- на него голова прилетела
- и tyliai села,
- будто бражник пушистый темный,
- до тебя я ловли сачком не знала,
- pati sau была младенец приемный
- и жила viena — как хотела.
Помню, что я прочитал этот стишок и растаял, будто фростовская сосулька на плите, хотя написан он был на обороте фотографии, где Габия обнимала Лютаса за шею. Будто тренер отличившегося игрока. Но я все равно растаял.
— У меня дежурство было ночью. Мне надо выспаться. Я теперь кукол не шью, я в театре сторожу на полставки. — Габия вытянулась на кровати и отвернулась лицом к стене.
Я лег рядом с ней и пролежал так часа полтора в каком-то болезненном молчании. Я смотрел в потолок и вспоминал о том, какими разными сестры были на ощупь, ни за что бы не сказал, что они одной крови. Старшая была похожа на одну из своих кукол: твердые белые ноги под юбкой, плоский живот с татуировкой, похожий на донышко чашки с фабричным клеймом. И еще пальцы на ногах — маленькие, восковые и немного слипшиеся.
Соля тоже походила на куклу, только на зольную, такая была у моей няни, сидела на окне, а потом потерялась. Золу брали из печки и заворачивали в тряпку, груди делали из конопли, скатанной в твердые шарики, и крест-накрест перетягивали шнурком. У Соли грудь была как раз такая, будто травой набитая, а в голове у нее было бог знает что, может, и зола. По крайней мере, будь у нее там то, что положено, она не проболталась бы о наших полуденных свиданиях в чулане. В тот день ее сестра встретила меня на пороге и отхлестала тяжелой ладонью по лицу, а потом уселась к своему верстаку работать как ни в чем не бывало.
Вчера охранник принес мне лимон, за который пришлось заплатить двадцатку, а потом, устыдившись, еще и кипятку принес, и сахар в железнодорожном фунтике. И вот о чем я думал, Хани, попивая кисло-сладкую воду: почему они до сих пор не вытрясли из меня мои скудеющие запасы динейро, ведь арестанта даже вниз головой держать не нужно, просто сунуть руку за пазуху и вынуть перехваченный резинкой денежный сверток. Вместо этого охранники изображают рабов лампы, принося мне роскошные мелочи вроде лимона или стирального порошка, и довольствуются парой бумажек в день.
Это странно, разве нет? Странными мне кажутся и те двое, которых я называю капо — помощники Пруэнсы, похожие друг на друга, как братья, особенно в движении. Капо совсем дикие: стоит мне сказать что-то неожиданное или слишком быстро повернуть голову, как они меняются в лице и готовы уронить меня на пол. Мне всегда казалось, что полицейские в этой стране — самые сдержанные люди, а у этих темперамент, будто у марокканских торговцев на рынке Рибейра.
Еще я думал о том, как все выглядит в писательском аду. Не смейся, я теперь читаю книжку про шумеров, попросил что-нибудь на английском, и мне принесли путеводитель по местам месопотамских раскопок. Вчера я читал про устройство шумерского ада, а сегодня дошел до того места, где археолог Вулли, получив заказ на реконструкцию лица царицы Шубад, решился сделать слепок с головы собственной жены, потому что царица показалась ему некрасивой.
Лишившись тела, писатели сидят в своем аду молча, на золоченых стульях, вокруг них пляшет пламя, свинец кипит в котлах, а они мерзнут, бедолаги, — писатели не умеют жить с молчанием, им нужна доза логоса, ломка выворачивает им кости почище пыточных орудий.
У поэтов ад должен быть помягче, что-то вроде осеннего сада, объятого кленовым пламенем, и в нем, по крайней мере, можно бродить. А теперь я скажу тебе, как выглядит ад для недоучившихся историков. Это зеленовато-серый куб, наподобие складного мира у Шекли, только без возможности схлопнуться, застывший в своем бетонном однообразии. В одной из стен проделана дырка величиной с четыре твоих ладони, и в нее время от времени заглядывает хозяин куба, заслоняя свет. В другие дни там пусто, прохладно и моросит вода.
the one on the left smelling like an old friend
the one on the right like mothballs
as ever you are crazy about them
— Почему тебя не приняли в нашем доме? — спросил я у тетки, когда мы зашли в Святую Анну и стояли в жарко натопленном нефе перед купелью. — Почему они оставили тебя на улице?
— Знаешь, я бы себя тогдашнюю тоже оставила на улице. Человеческим существом я стала годам к тридцати, чего и тебе желаю. Я помню, как ты вечно жег бумагу в туалете, когда приехал ко мне в Лиссабон, все стены обметало копотью, а когда тебя спросили, в чем дело, сказал: я должен раз в день посмотреть на огонь, тогда я уверен, что видел что-то настоящее. Вот и давай, жги, у тебя в запасе четыре года, Косточка. Не то, что у меня.
— Что значит — не то, что у меня?
— Мне осталось года два, не больше. Знаешь, как я это поняла? Врач не сказал мне результатов теста, но я почувствовала, что он выпустил меня из рук, как надколотую чашку. Его позвали из коридора, и он вышел, не закрыв дверей, хотя я еще не успела надеть платье, и стояла посреди кабинета с голой грудью. Мое тело уже не казалось ему человеческим, стоящим внимания, оно было обречено и от этого потеряло всякий стыд.
О да, потеряло стыд. Для этого не надо узнавать смертельный диагноз, достаточно просто сесть в тюрьму. Или внезапно постареть. Моя мать, например, потеряла стыд, когда переехала в Друскеники вслед за доктором, которого выставили из клиники за пьянство.
Она перестала смотреть в зеркало, но продолжала пудриться, от этого ее лицо напоминало маску Цао Цао, злодея-министра из пекинской оперы. Дешевая пудра скатывалась комками, под глазами было черно от туши, но матери было все равно, ее уже мало заботило, что видят и думают другие. Теперь ее день сводился к дежурству, стряпне и поискам плутающего по городу Гокаса. Я понял это, приехав на ее день рождения, к которому на хуторе готовились целую неделю, так что к моему приезду пироги с черемухой успели зачерстветь. Пересчитав свечки, воткнутые в пирог, я понял, что матери исполнилось пятьдесят лет, и растерялся — моим подарком была пепельница, второпях купленная в киоске на автобусной станции.
Что сказала бы моя мать, если бы узнала, что я сижу в тюрьме за убийство красивого существа неясного пола, которое я видел только на экране компьютера? Что за один вечер в моем доме побывали неведомый Панталоне, мертвая Коломбина и Скарамуш в больничной хламиде. А потом я дождался прихода Тартальи, и занавес упал.
Поделом, сказала бы она, даром, что ли, ты сделал из своей жизни балаган.
Ли сказал мне однажды, что древние китайцы верили в слабую воду, жошуэй. Это была не просто спокойная река, скорее — полоса безнадежности, окружающая огненную гору Кунлунь. В этой воде мгновенно тонуло все — и корабли, и люди, даже гусиное перо могло утонуть, вода ничего е держала, такая была слабая. Есть такие люди, сказал Лилиенталь, в которых эта вода плещется вместо крови, они ничего не способны удержать ни в руках, ни в сердце, все роняют, все умудряются потерять и прошляпить. И не то, чтобы они плыли по течению, они сами — течение, вялое и еле теплое, представь себе, скажем, пресный остывающий Гольфстрим. Так вот рядом с ними так же холодно, пако, как скоро будет холодно всем европейцам, потому что чертов Гольфстрим свернется уроборосом и перестанет греть берега. Попадешь в такого человека — не жди от него ничего настоящего, плотного, хоть руку по локоть в него засунь. И дело здесь не в жестокости или там, своекорыстии, а в том, что слабая вода плещется в их жилах, шумит в ушах и устраивает в селезенке мертвую зыбь.
Я про слабую воду где-то слышал и, вернувшись домой, сразу принялся искать в Сети, наткнулся на пропповскую сказку и вспомнил. Это была та самая страшная сказка, которую няня Соня рассказывала мне раз сто, не меньше: там на царевича, разрубленного на куски, брызгали мертвой водой, и куски соединялись как ни в чем не бывало, а потом уж можно было царевича оживлять.
Одним словом, мертвой водой героя добивали окончательно, зато возвращали приличный вид и останавливали кровь.
Ты будешь смеяться, Хани, но я целый вечер об этом думал. В какой-то момент на меня побрызгали мертвой водой, и мои разрозненные части срослись, с виду я стал совершенно человек, но не ожил, потому что живой воды у того, кто брызгал, под рукой не оказалось. Не думай, что я жалуюсь, но разве не похожа моя жизнь на поиски выключателя в темной комнате, нащупывание разномастных рычажков, которые оказываются чем-то еще и не способны включить свет. Что я должен найти в прошлом, чтобы объяснить себе настоящее?
Почему на мне, будто на ветке сицилийского лимона, цветы появляются одновременно с плодами, а плоды никогда не вызревают, как положено? Мое прошлое — это мертвая вода, заживляющая раны, но не способная возвратить дыхание. А мое настоящее — это вода слабая, чистая и равнодушная, способная поглотить и корабли, и людей, и всяческий смысл.
Пруэнса вызвал меня сразу после обеда, я даже хлеб не успел дожевать и сунул ломоть в карман.
— Вы довольны тем, как мы исполнили вашу просьбу, Кайрис? — спросил он, когда меня ввели в кабинет, где было почему-то холоднее, чем в моей камере. Следователь сидел за столом нахохлившись, на плечах у него висело пальто в елочку, а на руках были перчатки, может быть поэтому он сегодня ничего не записывал.
— Спасибо, компьютер мне очень нужен. Только зачем вы его выпотрошили? Я ведь говорил, что хочу показать вам запись, которая доказывает, что я говорю правду.
— Какую правду? — поморщился следователь. — Я читал ваши показания трижды, и трижды проверил ваш компьютер, никакого Papai Noel с мешком там не было, как не было и самой видеозаписи, о которой вы трещите, будто дрозд.
— Запись есть! Зачем, по-вашему, в моем доме вся эта электронная требуха?
— Верно, мы нашли в вашем чулане сервер и прочие устройства для наблюдения, но это отнюдь не свидетельствует в вашу пользу, — он сделал паузу, чтобы отхлебнуть чаю.
— Я могу доказать, что в момент убийства я был на побережье, потому что есть свидетель, видевший меня в десять вечера. Вернее, не видевший, а слышавший мои крики за воротами. Хотя, если эта азиатка и впрямь глухонемая, то договориться с ней будет трудно.
— Азиатка?
— Девушка с пляжа, мы встретились днем, а потом я случайно наткнулся на ее дом, когда искал соседей, чтобы позвонить в полицию. На ее воротах висела пальмовая шляпа, я узнал эту шляпу, стал стучать, но не достучался. Я был в панике, понимаете?
— Понимаю. Вы совершили убийство, испугались и отправились искать телефон.
— Как я мог совершить убийство в своей квартире и потом искать телефон в прибрежном поселке? Я же не волкодлак, чтобы рыскать в нескольких лесах одновременно.
Произнеся это, я сам себе удивился, сроду не знал слова lobisomem, а тут оно само оказалось на языке. Это говорит о том, что на каторге у меня не будет проблем с португальским.
— Почитаем лучше дело. — Пруэнса снял перчатки и полистал свою папку. — Труп вашей жертвы нашли в прибрежных скалах двое портовых рабочих. Он застрял между двумя гранитными обломками и сеткой для мусора, в воду он не попал, лицо не успело испортиться, и в свое время вы сможете на него полюбоваться.
— В прибрежных скалах? — я так растерялся, что мог только переспрашивать.
— Да, в нескольких метрах от берега. На прошлом допросе вы сами показали, что тело было вывезено из вашего дома человеком, которого наняли ваши сообщники, вывезено в пластиковом мешке и оставлено на берегу моря, в скалах. Верно?
— Этого я не говорил. Я понятия не имел, где чистильщик собирается избавиться от трупа. Если бы он сказал, что потащит Хенриетту на берег моря, я бы этого не позволил!
— Вы взволнованы. Выходит, в организации преступления была допущена ошибка?
— Я совершенно спокоен. Полагаю, это вина Додо, она толком не объяснила чистильщику, что произошло, и сама так перепугалась, что улетела из страны первым же рейсом.
— Додо — это тоже кличка мужчины? Вы всем своим друзьям даете женские имена? Я слышал, что в ваших кругах так принято, но не думал, что это неизбежно.
— Я уже говорил, что не даю никому никаких кличек!
— Однако вы предпочитаете называть вашего друга Хенриеттой и утверждаете, что видели его пенис. — Пруэнса пожал плечами. — Меня не занимают ваши пристрастия, но это важный для следствия момент. И еще одна неувязка: раньше вы говорили, что за услугу сообщники потребовали не деньги, а дом, доставшийся вам по наследству. Так деньги или дом?
— Сначала дом, а потом деньги. Вернее, не совсем деньги, — тут я запнулся, говорить о галерее было решительно не к месту. — Послушайте, я требую провести следственный эксперимент. Мы должны поехать в коттедж, я хорошо помню адрес, там я покажу, как все происходило на самом деле. Тело было вывезено из моего лиссабонского дома, так что я требую, чтобы потом мы поехали на Терейро до Паго. И еще я требую своего адвоката! Почему он не приходит?
— Хорошо, хорошо, — следователь выставил перед собой ладони, — не надо поднимать шум. Разумеется, вам лучше знать, где был застрелен ваш дружочек по кличке Хенриетта, в доме или на природе. Я сегодня же запрошу разрешение, и поедем. Всенепременно. Уводите его.
Вернувшись в камеру, я стал думать о том, что скоро увижу дом. И может быть, даже Байшу. Полиции придется сорвать печати, и я смогу обойти все комнаты, посидеть в своем кресле-качалке, глотнуть вина на кухне, постоять на террасе и посмотреть на зимнюю реку. Жаль, что я потерял тавромахию, было бы приятно забрать ее с собой в тюрьму и положить под матрас.
В тот вечер, когда я ее украл, я долго стоял в коридоре, не включая света, сжимая добычу в руке и слушая свое учащенное дыхание. Тетка и Агне разговаривали в прихожей, развешивая мокрые плащи и раскрывая зонтики для просушки. Они попали под дождь, зато вернулись с прогулки с трехногой собакой, про которую хозяин кафе грубо сказал: сучка приблудная, и тетка тут же решила взять ее с собой. Завести свою собаку она до той поры не решалась — у Фабиу была аллергия на шерсть, впрочем, не удивлюсь, если он это придумал.
Довольная псина сидела у двери и чесала лапой заросшее репьями ухо, Фабиу демонстративно кашлял, сестра сушила волосы в ванной, а я стоял с теткой у кухонного окна и чувствовал, как тавромахия прижигает мне грудь через карман рубашки. Помню, что тетка была веселой, свежей и пахла зеленым вином. Она говорила о церковных шпилях, которые они разглядывали, сидя за столиком у самой ограды, высоко над городом, о том, как хлынул ливень, и все бросились под крышу, только Агне осталась сидеть на месте, допивая свой кофе, разбавленный дождевой водой.
Потом тетка повязала голову платком и стала мыть собаку в тазу, расплескивая воду по плиточному полу, удивительное дело — я помню цвет этого платка, помню уксусный запах шампуня против блох, помню даже имя, которое дали собаке, — Руди, хотя прошла чертова тысяча лет и никого, кроме нас с Агне, не осталось в живых.
Все они умерли. Собака Руди тоже умерла.
А я — их единственный наследник.
Нет, весь великий океан Нептуна
не смоет эту кровь с моей руки.
Алкоголя в доме в ту ночь не осталось ни капли. Я сидел в кресле-качалке, смотрел на входную дверь и думал о том, что иногда, явившись домой поздно, лучше сразу раздеться и лечь спать. Больше всего я хотел бы сейчас начать вечер заново: приехать домой, подняться по лестнице, увидеть чистый нетронутый пол в стрекозиной спальне, не спускаться в кухню, залезть под одеяло со стаканом «стро» и открыть Джона Ирвинга. Не ходить на кухню и не заваривать свежий чай.
Стро, отгоняющий страх. Я пристрастился к нему в Тарту, его продавали в маленьком магазине за мостом, еще там бывал абсент, но от полыни меня тянуло в сон, да и возни с абсентом было много. В холодные дни я наливал двести грамм настойки в охотничью фляжку и чувствовал себя капитаном третьего ранга Цаппи во льдах. Жаль, что у меня не оказалось этой фляжки, когда мы с теткой пришли в отель «Барклай». Ноги у нее промокли, а в мини-баре стояли скучные шкалики на один глоток, впрочем, мы потом их тоже выпили.
— Косточка, мне холодно, — сбросив мокрую одежду на пол, тетка вытерла волосы полотенцем, надела мой свитер, легла на кровать и натянула одеяло до подбородка.
— Простыла? Не надо было бросать свое пальто где попало.
— Да, славное было пальтецо, — она чихнула, выпростала руки из-под одеяла и вытерла нос рукавом свитера. — Досталось хорошему вору, вернее, его жене. Нужно быстро согреться, у меня зуб на зуб не попадает. Жаль, что в сумке у меня только порто, от него никакого толку. Я везла его тебе в подарок, не думала, что ты здесь так вырос и закалился в боях.
Она сказала это, опустила голову на подушку и тут же заснула. А я залез в ее сумку, открыл портвейн и выпил целый стакан, хотя у меня от него язык прилипает к нёбу.
На моих первых — и последних — чтениях в тартуском студенческом клубе гостей тоже обносили портвейном в железнодорожных стаканах, я читал свои стихи на русском языке, и мне хлопали. После меня выступали еще двое приезжих, прочитав свои тексты, они пытались разъяснить содержание, и публика шикала и посмеивалась. С меня же взятки были гладки, ведущий вечера назвал меня признанным литовским поэтом, в совершенстве изучившим эстонский язык, что было двойным обманом: я был никому не известен, написал всего несколько секстин и сонетов и остался без стипендии за незачет по эстонской грамматике.
Правда, исключили меня не за это.
Формальной причиной были «грубые нарушения дисциплины», в том числе — порча фолианта из научной библиотеки, на который студент Кайрис якобы пролил тайно пронесенный им в читальный зал лимонад. Я этого словаря Покорны в глаза не видел, а об авторе знал только, что он попал под трамвай, как булгаковский председатель Массолита.
Но студент К. понимал, что на месте декана указал бы похожую причину, не писать же в приказе: мне отмщение и аз воздам. Или, скажем, как раньше писали: «Дан сей студиозусу, в том, что он, прошед многотрудную стезю леквенций, совратися с пути истины и благонравия и придадеся гортанобесию и чревонеистовству, за что многажды бит вервием по бедрам, батожьем по чреслам, дланью по ланитам, а такоже подвергнут заплеванию в зрак».
Шенье, говорят, перед тем, как ему отрубили голову за дружбу с роялистами, успел сказать: в этой голове кое-что было. Не знаю, что было у меня в голове, когда мы затеяли этот розыгрыш в тартуском общежитии, но казнили за это одного меня. Это сделал доцент Элиас, хотя дело было не в прогулах, не в эстонском средневековье и даже не в балто-славянском фольклоре, которым он мучил нас два семестра подряд. Элиас приметил меня еще в девяносто пятом, когда я рассказал на его семинаре про то, что древние литовцы считали рыбу озерной скотиной, и привел рассказ о том, как крестьяне поймали рыбу на полчана рыбьего мяса, а того, кто ее засолил, каждую ночь бесы сбрасывали с кровати, приговаривая: отдай мою свинью!
— Ну и что — отдал? — спросил Элиас с любопытством.
— Сбросил в озеро, хоть и была хорошо засолена, — ответил я с явным сожалением, и в аудитории засмеялись. С тех пор на семинарах Элиас поглядывал на меня с какой-то сумрачной веселостью в глазах и просил остаться после занятий, чтобы обсудить мою тему, хотя я отнюдь не блистал по его предмету и даже умудрился провалить курсовую.
— Не переживайте, Кайрис, вы всегда можете перейти на филфак, — утешил он меня, отдавая папку с исчерканными красным страницами. — Зачем вам сидеть в архивах с вашей-то внешностью, станете славистом, вам следует больше бывать на людях и давать им собой любоваться.
Лекции он читал несравненные, я понимал далеко не все, но слушал с упоением, стараясь не задерживать на лекторе взгляда. На одном из семинаров он щедро цитировал Достоевского, и после занятий я прошелся с ним по аллее, обсуждая мою любимую сцену из «Идиота».
— Окажись я на тех именинах, — сказал я, — не открыл бы даже рта. Кто эти люди, чтобы судить меня? К тому же то, что представляется им дурным, может казаться мне совершенно естественным. Например, ненавидеть свою мать.
Раскрасневшийся Элиас снисходительно улыбался и трепал меня по рукаву. В ноябре он назначил мне свидание — черт меня дернул сказать на семинаре, что мой сосед Мярт отсутствует по уважительной причине, уехал к больной матери в Йыхви. Разумеется, доценту и в голову не пришло, что ко мне приехал литовский дружок и спит теперь на кровати китаиста, заплатив нашему коменданту малую лепту за беспокойство.
Лютас в тот вечер принес бутылку горькой настойки, мы с ней быстро разделались, выкурили по самокрутке и решили встретить доцента как можно затейливей, а заодно раздобыть денег на вторую бутылку. Мой бичулис разделся догола, обмотал запястье белой тряпкой, вылил себе на руку бутылку красных чернил и лег в постель к назначенному часу. Я тоже разделся, завернулся в перемазанную красным простыню и встретил Элиаса в дверях всклокоченный, полуголый и в полной растерянности.
— Ради Бога, как хорошо, что вы пришли! Мой друг узнал, что мы собираемся встретиться, — я взял доцента за руку и подвел к своей кровати. — Он не смог с этим смириться, закатил истерику, пытался убить меня, а потом вдруг полоснул себя ножом по руке. Я забинтовал как сумел, но кровь не остановилась, надо ехать к врачу, а у нас нет ни копейки, даже на такси не хватит.
— Почему он голый? — спросил Элиас, резко отнимая руку и пятясь от кровати.
— Я пытался доказать ему свои чувства, — я опустил глаза, — но не слишком успешно. Наверное, потому, что уже думал о вас, профессор. Я о вас все время думаю.
— Но ведь это не студент Мярт, — он вгляделся в страдальческое бледное лицо с закрытыми глазами. — Кто это вообще такой? Почему он в вашей комнате?
— Он просто друг, — я мазнул красным концом простыни по чистейшим манжетам Элиаса. — Вы позволите мне позвать коменданта, чтобы он позвонил в больницу на Пуусепа, побудьте здесь, а я сбегаю вниз. Он ведь кровью истечет!
Губы Лютаса на самом деле посинели, его заметно трясло под простыней, я подумал, что это от смеха, но до конца не был уверен.
— Не надо, — доцент отошел к окну, достал портмоне и протянул мне две сотенные бумажки. — Больше у меня нет. Одевайтесь и поезжайте на Пуусепа. Без лишнего шума.
Он дошел до двери и, открывая ее, обернулся ко мне со смутной улыбкой:
— И скажите там, что чернила легче всего отмываются раствором нашатырного спирта. А простыни лучше замочить с хозяйственным мылом.
Ладно, вернемся к той ночи на Терейро до Паго, о которой я начал рассказывать сто двадцать страниц назад, но все никак не доберусь до утра. Мы остановились на том, как я вышиб в кладовке дверь и вернулся в чисто вымытую спальню Лидии. Спустя примерно полчаса я поднялся с кровати и разделся догола — джинсы и свитер казались мне пропитанными кровью, пришлось скатать их вместе с трусами и сунуть в мусорное ведро. Покрутив колесико душа, я обнаружил, что горячую воду отключили. Верно, они меня предупреждали, что надо заплатить.
Кое-как ополоснувшись, я сел за стол, включил компьютер и подсоединился к серверу, чтобы увидеть, чем занимался чистильщик, пока я трясся в ночном автобусе вдоль берега Капарики. Запись была на удивление короткой, всего две с половиной минуты. На экране я увидел невысокого человека, входящего в кухню, впереди него двигался конус осторожного света, выхватывая то медный бок кастрюли, то белую крашеную стену, то связку сушеного лука на крючке. Потом картинка дернулась, потеряла цвет и превратилась в зябкое мерцание.
Я смотрел на пустой экран довольно долго, пытаясь представить себе то, что не записалось. Вот чистильщик ковыряется в световом замке, входит, распахивает кладовую, отключает все камеры разом, выдернув из гнезда провод распределителя, поднимается наверх, заворачивает тело в пластик, отмывает пятна крови с мебели и пола, потом волочит тело вниз — аккуратно, будто мешок с электрическими лампочками — и снова затаскивает в кухню, стоп! Это еще зачем?
Может быть, он готовился выйти, когда услышал скрежет ключа, и быстро затащил свой груз в первую попавшуюся комнату? А может, хотел меня напугать и нарочно оставил тело у двери, чтобы я споткнулся и шлепнулся прямо на бедную Хенриетту?
Я сделал копии всех записей за третье февраля, сохранил их в отдельной папке, потом открыл почту, нашел адрес Лютаса, подумал еще немного и выключил компьютер. Я мог бы послать ему файл и короткое сообщение: «это и есть гиперреализм, о котором ты так долго мне втолковывал, наслаждайся». Я мог бы написать ему: «знаешь, за последние сутки я увидел в своем доме троих фриков, один другого краше, столько народу в этом доме не бывало с тех пор, как ты привел ко мне свою труппу с леденцами и бумажными розами».
Рассудительный Габриель Марсель различал problemes, которые можно наскоро решить в уме, и mysteres, не поддающиеся обычной логике. Здесь, по всей вероятности, обычная probleme: сейчас зазвонит телефон и невидимый режиссер скажет, что он меня выручил, как умел, и теперь я ему кое-что должен. Об этом я тоже мог бы написать Лютасу, но не стал.
Потом я спустился вниз, в столовую, и увидел, что дядиного пистолета на стене нет. Из стены торчал крючок, похожий на повелительно согнутый серебряный палец. Сам не знаю почему, но, увидев это, я почувствовал, что плохо отмыл руку от Хенриетгиной крови, быстро пошел на кухню и принялся оттирать ладонь содой и проволочной мочалкой для сковородок. Открыв ящик стола, я протянул руку за полотенцем и застыл: за моей спиной, совсем близко, раздался протяжный скрежещущий звук. Этот звук нельзя было спутать со скрипом двери, его ни с чем нельзя было спутать, так скрипят плохо смазанные железные петли, сделанные во времена Салазара, так скрипит крышка винного погреба, сколоченная в восемнадцатом веке прапрадедом Брагой из прочных дубовых досок.
— Хозяин? — сказал низкий женский голос, в первое мгновение показавшийся мне незнакомым.
Я взял из стопки полотенце, медленно вытер руки и обернулся: из дыры в полу торчала рыжая встрепанная голова Байши. Крышка погреба была откинута, оттуда тянуло подгнившими яблоками. На Байше было ее старое меховое пальто, явно надетое на голое тело, в руках у нее было две бутылки с вином, а в зубах она держала ключ от парадной двери. Я молча смотрел на служанку, забыв завернуть кран. Байша поднялась на последнюю ступеньку, поставила бутылки на пол и вдруг залилась краской, я ни разу не видел, чтобы так краснели — алой заливкой, будто эмалью по горячему стеклу.
— Я увидела свет и зашла посмотреть, — сказала она, вытащив железный ключ изо рта. — Я забеспокоилась. Вы же говорили, что будет только гостья, а тут целая орава народу перебывала. Хлоп да хлоп всю ночь. Вы бы накинули что-нибудь, хозяин, а то простудитесь.
Блох больших кусают блошки,
Блошек тех — малютки-крошки.
Когда Ласло Тот позвонил мне в первый раз, я сидел в ванной и смотрел, как мыльница качается между пенных холмов. Ванная комната в доме Брага сохранилась от пола до потолка: ни единой щербинки на синем керамическом полу, кувшины цвета яичной скорлупы и рыжие жаркие блики от медных тазов, развешанных по стенам. Если бы к власти в Португалии пришли коммунисты и мне предложили бы потесниться, как предложили моему прадеду в сороковых годах, то я выбрал бы ванную. Прадед же просто переехал из просторной риги в амбар.
Услышав звонок, я схватил полотенце и помчался вниз по лестнице, оставляя мокрые следы. Аппарат в прихожей был старомодным, с наборным диском, им пользовалась только Байша, золоченые ногти мешали ей нажимать на кнопки. Хорошо, что звонят не в дверь, думал я, сбегая по ступенькам, если это копы, то меня просто вызовут в участок. У меня будет время уехать из страны, бумаги у меня в порядке, подамся в миссию к сестре, там меня никто не найдет.
Уезжать надо самым дурацким способом, избегая самолетов: скажем, паромом до Марокко, потом поездом до Мавритании, потом уж не знаю как до Бенина (через Буркина-Фасо? по Нигеру теперь не проедешь), потом местным автобусом до Агбаджи, а уж там автостопом до самой миссии. Я видел это место на спутниковых картах: серые скалы, редкие графитовые дороги и саванна, сверху похожая на кромешную лиловую пену джакаранды.
— Хей-хо, — сказал незнакомый голос, — говорит Ласло Тот, слышал о таком?
— Слышал, — я снял с вешалки пальто и набросил на плечи.
— Пришло время рассчитываться за нашу услугу. Завтра с тобой встретится парень, передашь ему документы на дом и подпишешь бумаги. Мы даем тебе неделю на поиски другого жилья, это щедро, поверь мне. Этот сукин сын Ферро торопится и хочет к весне переехать.
— Ферро? — я сел на пол и прислонился к стене. Голос был молодой, но очень тихий, с каким-то простудным сопением, к тому же парень говорил со мной по-русски, произнося ё как ио. Даиом.
— Человек, который помог тебе, так называемый чистильщик, носит имя Ферро, — терпеливо пояснил мадьяр. — Он оказался не очень хорошим другом. Похоже, он намерен тебя разорить. Поверь, я сам удивлен таким оборотом дела.
— Да ну?
— Говорю тебе. Мы сами потерпели убытки.
Король бубен, вот кого не хватало в моем балагане, одно имя чего стоит — Ферро, так вот как звали владельца защитных ботинок, mo de ferro, железная рука. С тех пор, как чистильщик унес Хенриетту из моего дома, прошло три дня, полиция не появлялась, я начал думать, что все обошлось, но все-таки дергался от каждого звонка, даже привычный возглас молочника заставлял меня выглядывать в окно. Байша смотрела на меня косо, полагая, что я впутался в историю с женщиной, а скажи я ей, что это мертвая женщина, да и вообще не женщина, она бы бросила свой передник на пол и ушла.
Мне снились охотничьи сны, причем я был не охотником и не добычей, а кем-то третьим. Однажды я увидел во сне лису, ослепительную лису, которую псы гнали по пустому белому полю. Она уходила в сторону леса, неслась, приминая сухую ость, торчащую из снега — красная, тощая, издали похожая на рябиновую ветку с коротким черенком. Не успеет, подумал я, увидев, что собачья свора приближается, нагоняет, но тут лиса остановилась на полном ходу, развернулась, уперевшись передними лапами в наст, взлаяла и превратилась в собаку. Псы добежали до нее, обнюхали заснеженную собачью морду и помчались дальше.
— Эй, Кайрис, куда ты подевался? Тебе ясно, что нужно сделать? — мадьяр немного повысил голос.
— Ясно, — сказал я, и он сразу бросил трубку.
Я повесил пальто на место, пошел наверх и залез обратно в ванну, вода еще не остыла. В этой ванне еще двоих уложить можно, таких же длинных и тощих, как я. Или одного толстого. Окно здесь тоже огромное, раньше в нем был витраж арт-деко, но я его уже не застал. В окне маячит Сен-Жоржи на вершине холма. Если вытянуться в ванне во весь рост и поставить ноу на край, то прямо напротив большого пальца будет первый зубец замковой стены.
Дом я отдать не могу. Уж лучше я закрою ставни, запру двери, выскребу оставшуюся в доме мелочь и уеду к черту на кулички — может, это и к лучшему, потому что чертовы кулички находятся на острове Исабель, это вам кто угодно подтвердит.
Дом я отдать не могу, уж лучше в тюрьму.
Складывание слов делает человека мягким и обидчивым, говорил Лилиенталь, и был прав.
Во мне поселился страх, но не тот, что испытывает матадор на гравюре Гойи, белеющий запрокинутым пухлым горлом, а какой-то другой, тягостный и тягучий страх-лакрица, так же не похожий на настоящий, как французская беготня с коровами не похожа на корриду. Похоже, складывание слов не пошло мне на пользу.
- И средь господ просвещенных, а также бурасов темных
- Только коварство и подлость откроются нашему взору.
Это не я придумал, разумеется, а один литовский пастор, писавший проповеди гекзаметром.
Опять ты со своими литовцами, сказал бы Лилиенталь, эту четверть крови он во мне всегда недолюбливал, впрочем, и четверть, что перепала мне от дедушки-арестанта, тоже не слишком жаловал. Лилиенталю нравился во мне условный гусар пан Конопка, вспыльчивый и необязательный. Уж не знаю, как Ли представлял себе моего отца — в голубом жупане или сарматском катафракте, но стоило мне произнести psia krew! или do cholery gdzie jest moja komrka?, как он непременно просил повторить, и даже сам пробовал произнести, терпеливо выворачивая язык к небу.
Я скучаю по моему другу, даже по его маске и нитяным перчаткам, которые бесили меня неимоверно: второй слабостью Ли после его любви к нравоучениям была боязнь подцепить грипп или что-то в этом роде. Когда на него это находило, он даже спал в полотняной маске и никому не подавал голой руки. Последний раз мы разговаривали с ним в коридоре его квартиры, вернее, это я разговаривал и махал руками, а он пытался меня унять, загородив собой дверь, будто Фемистокл перед разъяренным спартанцем.
Почему я не рассказал ему, что происходит? Потому что услышал мужской голос у него в спальне и разозлился. Но что мне до спальни Лилиенталя, даже если там, на широкой кровати, валялась добрая дюжина румяных солдатиков или бледных лицеистов? Какое мне, черт возьми, дело, чем он занимается, когда не поучает меня, грешного? И почему я помню его поучения, как египетский писец запоминал все эти метелки камыша, корзины с ручкой и перепелки с птенцами?
— Пишешь ты сложно, а живешь просто, — сказал он мне однажды. — Попробуй наоборот. Или почитай Плотина, тот кусок, где говорится про отпечатки и созерцание эйдосов. Или принеси мне лимонаду из лавки и льда из холодильника.
Я помню этот июльский день, один из тех дней, когда мы еще были друзьями. Мы сидели на полу в одних трусах, пережидая полуденную жару, все окна в студии были нараспашку, но занавески едва шевелились. Ли вытянул вперед левую ногу, ничуть не стесняясь ее неживой, голубоватой белизны, а правую подогнул так, что я видел его грязную пятку перед своим носом. Он ходил по дому босиком, так же, как тетка, только гораздо медленнее.
— Да пошел ты со своими стоиками и гностиками. Я уже послушал тебя, почитал письма к Луцилию, убил целый вечер и не нашел ни одной фразы, которую не смог бы написать сам.
— Ты перестанешь бояться, если и надеяться перестанешь, — произнес Ли нараспев. — Все у нас чужое, одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владенье природа, но и его кто хочет, тот и отнимает.
— Намекаешь на то, что мне пора уходить?
— Да мне все равно. А почему тебе не все равно? Вот где твоя заноза, пако. Желание всем нравиться и страх, что ничего не выйдет. Напряженное веселье, которое нужно поддерживать, будто тлеющий жар в золе. Все это делает из тебя посмешище, поверь мне.