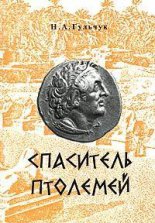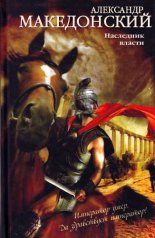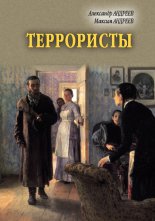Другие барабаны Элтанг Лена

В царские чертоги.
Остановившись в дверях спальни, я медленно провел лучом по стенам и полу. Глубокое зеркало блеснуло мне в ответ, кровать была ровно застелена, витражный «грабарчик» стоял на своем месте, исчезла только овечья шкура, лежавшая между окном и столиком. Раньше на этой шкуре спала собака Руди. У нее были кварцевые глаза и дымчатая рыжая шерсть, в молодости это было шалое существо, способное носиться по лестницам вверх и вниз, несмотря на хромоту. Старую Руди я нашел в этой комнате в день, когда хоронили тетку, собака беспробудно спала, не слыша людских шагов, хлопанья дверей и звона посуды. Неподвижная, рыжая на белом, она была похожа на клок грязной пены из великанского таза со стиркой.
— Не бойся, — сказал я, потрепав вялое лысоватое ухо, — я за тобой пригляжу.
Руди вставала по ночам и бродила по дому, стуча отросшими когтями, которые я боялся подстригать, шерсть у нее свалялась мгновенно, живот разбух и свисал до полу. В феврале она перестала вставать, и я перенес ее на кухню вместе с овчиной, с которой она сползала, только чтобы поесть, сделать лужу на полу или стыдливо оставить пару бурых горошин. Комната заполнилась тяжелым запахом умирания, я перестал там готовить и обедал в городе, заходя на кухню только на пару минут, чтобы сменить воду и вытереть пол. Однажды, спустившись в темноте за спичками, я споткнулся о Руди, спящую у порога в собственной луже, полетел на пол со всего размаху и расшиб себе лоб до крови. Утром я завернул ее в полотенце, положил в теннисную сумку и отвез к ветеринару.
Теперь здесь не было ни овечьей шкуры, ни мертвой Хенриетты, ни потеков на стенах, зато пол поблескивал в свете фонаря, будто мокрая асфальтовая дорога. Я вышел в коридор и вернулся в спальню с чугунным шандалом на восемь свечей. Темнота раздвинулась, предметы явили свою белизну, я перевел дыхание и обошел комнату, высоко поднимая шандал, так что язычки пламени почти касались потолка. Никого нет, ningum.
Нет тела — нет дела, как сказал бы, наверное, мой приемный дед, русский майор.
За то время, что потребовалось мне на дорогу, датчанка воскресла, повесила на стену орудие убийства и отправилась домой в белой концертной столе сеньоры Брага. Надо бросать траву и выпивку или хотя бы перестать их смешивать, подумал я, глядя на стрекоз, мирно обнимающих свои виноградины. Потом я подошел к окну, вглядываясь в угол, где между карнизом и оконной рамой пряталась одна из Лютасовых камер: темный стеклянный пузырек, похожий на персидский амулет, только тот защищает от дурного глаза, а этот сам был дурным глазом.
Камера была на месте, птичья пленочка поднялась, и зрачок совершал свою работу, осознавая движение и свет. A Dievui, это розыгрыш, подумал я. Что касается темноты, то в доме просто вылетели пробки, такое бывает, прошлой весной после грозы электричество вырубилось на целые сутки. Ясно, Додо меня разыграла, показала слайды из «Кровожадной Сусанны». Сначала она долго не звонила, чтобы я испугался как следует, потом дала понять, что улетает в панике, а потом вдруг оказалось, что домой ехать нельзя, потому что туда якобы поехал человек Ласло. Я мог бы и сам догадаться, что все закрутилось слишком ретиво и театрально для настоящих неприятностей. Хорош бы я был, позвони я в полицию, у меня тут полный дом каннабиса, запас недавно пополнен, двенадцать фалалеев в сахарнице, как раз на пару лет тюрьмы.
Ладно, а как же пистолет? Когда я видел пистолет в последний раз? Да черт его знает. Вещи в этом доме перетасовываются как карты, уследить за ними невозможно, взять хоть тавромахию, которая с позапрошлого года так и не нашлась. Да провались она пропадом, главное, что в доме нет покойника. Может, я просто-напросто обкурился и видел сон, из которого не сразу смог выбраться, как тот восточный правитель, что увидел, как у него выпали все зубы, и, проснувшись, потерял способность жевать. Пусть тот, кто спит, восстанет от тяжелого сна.
Что касается датчанки, то увидеть во сне покойника к дождю, говорила няня, и дождь сбылся, идет уже вторые сутки и никак не может перестать. Надо позвонить Додо и посмеяться вместе с ней, надо позвонить Додо!
Холодное газированное счастье захлестнуло меня, я помчался в столовую, спотыкаясь на ступеньках в темноте, на ощупь нашел в баре бутылку с коньяком и быстро отхлебнул из горлышка. Какое-то время я выглядел, как шут на карте Таро, тот, на которого бросается маленькая собачка, я танцевал в темноте, размахивая бутылкой, я даже пел, кажется.
Здесь я прервусь, Хани, и расскажу тебе немного о своем тюремном дне. Тюремный день делится на несколько плотно пригнанных частей, с небольшим зазором между ужином и отбоем, когда тишина становится особенно нестерпимой, и я слоняюсь по камере, считая шаги, стараясь подавить растущую ярость, желание разбежаться и броситься на дверь, так, чтобы суставы задвижек вылетели из железных пазов. Начинают мой день два смутных рассветных часа, когда я просыпаюсь и принимаюсь растирать себе руки, ноющие от того, что их некуда девать, разве что держать по швам. Подушка похожа на французский багет, руки под нее не помещаются, а шея затекает, как будто голова лежала на камне. Спинку, отвинченную от стула, давно отобрали, и теперь вместо стула у меня табурет. В полдень охранник приносит кувшин с водой и забирает пустой, кувшины фирмы «Шортер и сын», на синем ветка куманики с ягодами, а на белом — ветка малины, ума не приложу, как такая старинная посуда очутилась в тюрьме.
Весь день я жду допроса, после обеда я жду прогулку.
Допросы бывают редко, прогулка же состоится при любой погоде, жаль только, что мой коридор выходит в маленький асфальтовый закуток, где меня и оставляют на сорок минут. Думаю, что остальные арестанты гуляют в большом дворе с другой стороны здания, иногда оттуда доносятся смех, сердитые возгласы и шлепанье кожаного мяча. Я хожу в загоне, будто заведенный (четырнадцать шагов вдоль кирпичной стены и десять, если ходить поперек), или стою, задрав голову, и смотрю в небо, а если идет дождь, то сижу под жестяным козырьком, похожим на те, что ставят на сельских автобусных остановках.
Если подтянуться, то можно заглянуть за стену и увидеть двор, в который я однажды пытался подбросить письмо, полагая, что заключенный, пишущий своей девушке, должен вызвать у обитателей двора сочувствие, но тщетно — на следующий день комочек бумаги лежал на том же месте, основательно размокший под ночным дождем. Листок я стянул на допросе, а письмо было Байше, я спрашивал, отчего она не приходит и не запугал ли ее Пруэнса своими баснями о хозяине-убийце. Хотя, чего там, я и сам знаю, что служанка мне не друг и никогда им не была, это у меня, наверное, от еврейского деда Кайриса — манера считать всех дружелюбных людей друзьями, по умолчанию. Раз не бьют, значит, любят.
Est bem, вернемся к вечеру на Терейро до Паго, я знаю, что ты этого ждешь, а мне про него писать совсем неохота. Ну да ладно. Когда я натанцевался вдоволь и посмотрел на часы, то понял, что провел в доме всего двенадцать минут. Время отшелушивалось медленно, будто эвкалиптовая кора от ствола, так бывает, когда наскоро покуришь и возьмешься делать что-нибудь разумное, например, читать книгу с экрана. Дозвониться Додо мне не удалось, телефон был отключен, я попробовал раза три и решил, что она уже в воздухе, по дороге в Бразилию. Потом я собрался принять душ, сунуть грязные вещи в стирку и лечь спать.
Оставалось включить в доме свет, и, для начала, я пошел взглянуть на пробки в кухне, там их часто выбивало из-за грозы. Кухонная дверь открывалась туго, и я подумал, что, уезжая в Капарику, оставил окно открытым, так что дерево разбухло от ночного ливня.
Я положил фонарик в карман, уперся обеими руками и толкнул изо всех сил. Дверь подалась, я сделал шаг, поскользнулся у самого порога и упал на Хенриетту. Она лежала ничком, на три четверти засунутая в мешок, я свалился ей прямо на спину, уткнулся в ее шею, в скользкий шелковый воротник. В кухне было не так уж темно, я различал антрацитовый блеск мусорного мешка и свою руку, до локтя измазанную кровью. И полуоткрытой кладовки сочился свет, кто-то огромный возился там с фонарем. Мне почудилось, что я услышал пение, похожее на кошачье урчание, потом упало что-то тяжелое и послышалось сдавленное ругательство.
— Не помещается, — сказал тот, кто ругался, выходя из кладовки и вставая надо мной, — слишком длинные ноги. Мне нужен еще один мешок, не отрезать же ей голову, верно?
Я медленно скатился с Хенриетты и смотрел на него с пола, даже не пытаясь встать. Человек был совсем не таким большим, как мне со страху показалось, он был завернут во что-то вроде длинного дождевика, такие продают в городе на всех углах, когда начинается ливень.
На ногах у него были прозрачные больничные бахилы, а в руках хлебный нож и веревка. Круглый фонарь был прикреплен к полоске на его голове, будто у шахтера, и светил мне прямо в глаза.
— Вставай, — сказал он недовольно, — нечего тут валяться. Где у тебя мусорные мешки? Эта женщина линяет как беспородная сучка, я собрал целый сноп ее волос по разным углам.
Я не видел его лица, зато хорошо разглядел ботинки, я сам всегда хотел такие, болотные «Dr. Martens» с белой прошивкой, как у покойного Джо Страммера. Он подал мне руку в перчатке, я схватился за нее и поднялся на ноги. Свет его фонаря соскользнул на пол, Хенриетта лежала там лицом вниз, из-под черного пластика виднелся испачканный красным край овечьей шкуры.
— Парень, где у тебя мешки? Доставай сам, раз уж ты сюда пришел. Я торопился и прихватил недостаточно материала. Овчина уже промокла. Всю машину мне перепачкает.
Он сказал material para acondicionamento, и меня передернуло. Я заставил себя отвести от него глаза и посмотреть на Хенриетту еще раз. Ее тело казалось маленьким, почти детским, а голова была обмотана чем-то вроде липкой ленты. Я оступился не в луже крови, а в луже воды, в которой плавали клочья серой пены. Наверное, выплеснулась из ведра, которое человек в перчатках поставил возле раковины. Я прервал его работу в самом конце, еще полчаса — и в доме не осталось бы ни пятна, ни отпечатка. Все начисто смылось бы водой и губкой, скрылось бы, как зеленые острова в Ирландском проливе. У меня закружилась голова, я схватился за косяк двери, и чистильщик придержал меня за плечо.
— Ясно, мальчик скис, — он повел меня к открытой кладовой, все еще придерживая. — Будешь блевать? Тогда иди к раковине, здесь и так хватает грязи.
Я помотал головой, смерть замкнула мне рот и перехватила горло, мне казалось, я иду по колено в густой крови, будто ирландский правитель Луг по полю сражения. Барабанные палочки стучали у меня в висках, запах крови казался едким и немного рыбным, наверное потому, что я уже видел кровь на ногах женщины, и запах остался у меня на дне памяти, в заброшенном кластере, где остается все, что смущает рассудок.
— Посиди пока здесь, — чистильщик втолкнул меня в кладовку и накинул крючок.
Я услышал, как он быстро прошел по коридору, хлопнула входная дверь, лампы загудели, и в кухне вспыхнул свет, теперь я видел светлую полоску в щели между дверью и косяком. Я сидел на полу, упираясь затылком в коробку сервера, из которого были вырваны провода, похоже, парень и вправду профи, раз начал работу с отключения съемки. Я слышал как чистильщик ругается и громыхает ведром — о тишине он явно не заботился, — потом послышалось влажное шлепанье мешка, который волокли по плиточному полу.
— Надо же, сколько в этой девчонке крови, — его голос был так близко, прямо за дверью, что мне показалось, что говорят со мной. — Как будто корову зарезали. Надо было взять на работе резиновый фартук, а я схватил что под руку подвернулось.
...не две ли малые птицы продаются на ассарий?
Если девушка хочет, чтобы с ней обращались, как с товарищем, то ее и колотить можно в полную силу, написал Честертон, и я с ним совершенно согласен.
Однажды я повторил это для своей сестры Агне, и она обиделась. Она не хотела быть моим товарищем. Не знаю, чего minha prima ждала от меня, когда приехала на Терейро до Паго во второй раз. Может быть, она хотела остаться с нами — со мной, с Байшей, с балконом, покрытым треснувшими квадратиками азулейжу, с видом на каменную рыбу, изо рта которой теперь бежала только ржавая струйка. Иногда мне казалось, что она вернулась потому, что хотела спать со мной. Иначе — зачем она мелькала белыми, будто слоновьи бивни, бедрами и трясла волосами, словно индийская танцовщица?
— Не понимаю, зачем ты там живешь, — сказал я, выслушав ее жалобы на жизнь в Агбадже. — Зачем тебе эта миссия, храмы, ашрамы, вся эта дребедень для колченогих барышень, вбивших себе в голову, что в таком месте легче найти любовника.
— Мне не нужен любовник, мне нужна жара и медленное течение времени, — она надула губы, и я сразу вспомнил, какие они на вкус. — Раньше мне нужно было кого-то любить, я просто по стенам ходила, будто геккон на охоте, а теперь мне все равно. Это как с фотографией: сначала чувствуешь себя беспомощным, оказавшись в чужом городе без фотоаппарата, а спустя десять лет даже не вспомнишь о нем, собирая дорожную сумку. Маме тоже не нужны были любовники, она могла выдумать их сколько угодно, хоть целую армию.
— Ты не похожа на свою мать.
— Да, не похожа. Зато я похожа на своего отца. Мне все время чудилось, что мама вглядывается в меня с недоверием, как будто пытается различить одно, а видит другое. Я знала, что напоминаю ей моего отца, ее телесное унижение, и так будет всегда, даже если я стану красивой, как ундина, и семи пядей во лбу.
— Два унижения, — поправил я и тут же пожалел об этом.
— Ты тоже знаешь? — я слышал ее участившееся дыхание. — Значит, она тебе сказала.
— Со мной она могла говорить. А с тобой, похоже, не очень.
— Ну да, потому что ее никогда не было дома, — она тихо засмеялась.
— Зато ты знала ее с самого начала, а я нет. Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю.
— Плохое или хорошее? Однажды мы застряли с ней в Сагреше, в отеле — мне было лет девять, наверное. Мама поссорилась с Фабиу и уехала со мной на юг, понадеявшись на свою подругу. Денег у нас не было, подруги дома не оказалось, и мы пили воду из-под крана, от которой ломило зубы, и грызли яблоки, украденные из китайской вазы в холле. Мама вышла на балкон, чтобы выкурить сигарету, и услышала, что наши пожилые соседи говорят по-английски, они накрывали на своей террасе стол для ужина и звенели бокалами. Представь себе, она вернулась в комнату, надела лучшее платье, встала у балконных дверей, сняла телефонную трубку и стала громко говорить по-английски с воображаемым собеседником, она смеялась так ласково и всхлипывала так натурально, что я чуть сама не поверила, что на том конце провода кто-то есть. Не прошло и пяти минут, как соседи постучали в нашу дверь со стороны коридора: раз такое дело, сказали они, ваш багаж пропал, ваши деньги выпали из сумки на пляже, а ваш муж опоздал на лондонский самолет, не хотите ли присоединиться к нашему ужину?
— Ладно, давай я тоже свожу тебя поужинать, раз такое дело. Поищи себе платье в Зоином шкафу.
— Я не буду надевать ее вещи, они мне малы, — она налила себе молока в кружку и пошла к лестнице. — А ты чувствуешь себя здесь хозяином, верно? Не думай, что мама оставила тебе дом, потому что любила тебя, ненавидела меня или что-то в этом роде. Она никого не любила, вы с ней на удивление похожи, хотя вовсе не родня. Я думаю, что вы оба похожи на рапанов.
— На кого?
— Есть такое морское существо, оно сверлит дырку в раковине моллюска и впускает туда что-то вроде травяного молочка, впускает и ждет, пока хозяин раковины расслабится и откроет створки, чтобы съесть его без лишних хлопот.
— Можешь держать свои створки закрытыми, — я засмеялся, хотя след от ее укола уже наливался болезненным жаром. — Содержимое твоей раковины меня не интересует.
Не знаю почему, Хани, но мне нравилось грубить ей, нравилось разыгрывать небрежного старшего брата, этакого бурбона, хотя — какая она мне сестра? Впрочем, это у нас семейное: тетка не тетка, сестра не сестра, у матери запекшаяся ссадина вместо сердца, а отца вообще нет. То есть он есть, но не про нашу честь.
Помнишь картину Дали, где нарисована группа Венер, постепенно превращающихся в мужчин? Шутка в том, что в их телах зашифрован тореро — на манер головоломки найди грибника в лесу.
Я знаю разгадку: его нос — это правая грудь второй Венеры, рядом сверкает шитье позументов, а в контуре скал проступает голова заколотого быка. Мой отец, Франтишек Конопка, точно так же зашифрован в моем детстве, да чего там, я до сих пор не извлек его полностью, то здесь, то там мелькает условная конфедератка и черничные усики на белом порцелиновом лице.
Со стороны отца у меня было два родственника — два брата Конопки, живущие в Новой Вильне, в собственном доме. Кем они мне приходились, я толком так и не понял, да и важно ли это? Важно было то, что они ездили в Польшу и виделись там с моим отцом, по сути, они были единственными свидетелями его существования, я даже ловил себя на том, что принюхиваюсь к ним, когда они появлялись на нашем пороге с подарками, присланными из города, названия которого я так до сих пор и не узнал.
Младший был светлой масти, ниже меня ростом и крепче в плечах, а старший был почему-то чернявый, кривоногий и вспыльчивый. Я с тревогой вглядывался в его лицо, пытаясь найти пронзительные черты, о которых рассказывала мать, но лохматые мужицкие брови и круглый нос говорили о другом и приводили меня в отчаяние. Однажды младший Конопка взял меня в польский костел и там принялся ругать за то, что я пересек проход к алтарю, не преклонив колен и не перекрестившись.
— Что ж ты ходишь по костелу, чисто глупый бык по полю, — сказал он. — Вставай вон туда, помолись за свою непутевую мать.
Будь он португальцем, сказал бы что-нибудь вроде: Puta que te pariu!
— А мой отец от этого самого алтаря сбежал? — спросил я. Смешно, но я всегда представлял его беглецом — мечущимся между каменных колонн с безумным видом, в расстегнутой сорочке и с бряцающим оружием на перевязи. Бабушка Йоле так и говорила: сбежал, мол, от алтаря, пся крев, бродяга побрадский, холера ясна, безбожная польская курва.
— Не парься, — сказал младший Конопка, — мой отец тоже сбежал, только не так далеко. Теперь в Ниде живет с жемайтийкой, у них дом каменный, они курортникам комнаты сдают.
— А откуда ты про дом знаешь?
— Да поехал туда после восьмого класса, прикинулся, что квартиру ищу на лето. Ну, хозяйка позвала в дом, показала две комнаты с верандой — за пятерку в день, а потом и отец появился, до полудня спит, толстый стал, как бурундук Он меня сразу узнал, растерялся, минут пять в окно смотрел, будто у него речь отнялась.
— А теперь как?
— Теперь письма пишет, приручил я его. Недавно вот это прислал, — и он достал из кармана сложенную вчетверо открытку с видом.
У меня даже во рту пересохло от зависти. Я-то ни разу не видел почерка своего отца, трудно ему было, что ли, черкнуть на бумажке привет, Костас! и положить в коробку с подарком, всегда неожиданным и особым, не то что практичные свертки с носками и трусами, которые я получал от матери. Или бабушкины ломаные безделушки за полушку.
Когда, спустя четверть века, я рассказал об этом Лилиенталю, он даже засмеялся от удовольствия. Мы напились зеленого вина и говорили о детских обидах, пока бутылки катались по дну чугунной ванны — мыться в ней было непросто, а вот вино охлаждать в самый раз. Мой друг так увлекся, что сам сходил за третьей и четвертой bundudo, опираясь только на один костыль и почти не держась за веревки. Я давно заметил, что удовольствие заставляет его забывать о хромоте.
Об одном он никогда не забывает — о том, что обязан язвить меня.
— Да не слал он тебе никаких подарков, — сказал Ли, — он про тебя и думать забыл. Отец, покупающий подарки к Рождеству и ни разу не пожелавший увидеть сына, — это персонаж абсурдной пьесы. Одним словом, пако, тебя обманули. Смирись с этим и сделай подстановку. Скажем, представляй вместо бегущего парня с рапирой — тихо присевшую в углу писающую даму в кринолине и воротнике, похожем на мельничный жернов.
— Не слал? То есть как не слал? А кто же тогда слал? — спросил я, но он уже заскучал, поднялся с театральным кряхтением и отправился в ванную за новой бутылкой, так что мне пришлось подумать об этом самому.
какой еще выпить отравы,
покуда не снится аид,
и озеро, выйдя из рамы,
за шторами тихо стоит.
Да, я ведь забыл закончить про Габию. Тебя, наверное, здорово раздражает, что я не способен удержаться на канате повествования и качаюсь в разные стороны, будто подвыпивший плясун над ярмаркой? Ты уже знаешь, что я остался жить у нее, деваться все равно было некуда: художник, приютивший меня в своем подвале, стал хмуриться и покупать газеты с квартирными объявлениями, а его девушки косились на меня, будто на Конаки Дзидзи — у японцев есть такое чудовище, которое вечно лежит на дороге в ожидании сердобольного странника.
Первые три ночи в доме кукольницы я провел на матрасе, в узкой комнатушке, отгороженной от спальни картонной стеной. Засыпая, я смотрел в потолок и думал о грудях Габии, которые в парке видел у самого лица, но был так пьян, что не смог насладиться ими как следует. Я думал, что мог бы сейчас встать и постучаться в ее дверь, но это было рискованно — меня запросто могли впустить, но могли и выставить на улицу.
— С Габией смотри в оба. Никогда не знаешь, чем закончится день, — говорил мой школьный друг, а он разбирается в женщинах получше меня, этого у него не отнять. Я знал, что Лютас пытается заработать денег в немецком городке, я даже получил от него пару открыток, но мне не хотелось думать о его возвращении. Чему быть, того не миновать.
На потолке, там, где раньше была люстра, остался лепной плафон, а в нем я различил барочного ангела — или путти? до сих пор их путаю, — обрамленного виноградными листьями. Вернее, это была половина ангела. Плафон разделили стеной пополам, когда пытались сделать из студии двухкомнатную квартиру, но ангел не выглядел оскорбленным и поглядывал на меня сверху, задрав округлую ручку с двумя пальцами, сложенными буквой V.
Не прошло и трех дней, как я увидел его обшарпанную задницу по другую сторону стены.
Сегодня ужин принесли на тарелке из молочного стекла, я уже перестал удивляться здешней посуде, но жареной рыбе я сильно удивился. Хотя да, сегодня же пятое марта, начало лиссабонского карнавала. Наверное, тюремный повар веселится, заодно и арестантам перепало. Я все быстро подмел и теперь смотрю на тонкие разлапистые косточки форели на стеклянной тарелке. Так выглядят заснеженные ели на берегу, когда утром идешь от аникщяйского хутора к озеру. К полудню туман сползает на лед, и обнажается мостик, сбитый из сосновых досок, и перевернутая лодка, и черный языческий крут кострища в заиндевелой траве.
Вчера я разговаривал с Трутой, своим адвокатом, он заехал в тюрьму по дороге в аэропорт и все время смотрел на часы, однако вид у него был довольный.
— Пистолет вашего дядюшки одно время был на вооружении в португальской армии, — сказал он важно, — но от него быстро отказались, поменяв на девятимиллиметровый «Парабеллум». И знаете почему? Обнаружился дефект модели: иногда ударник оставался в полувзведенном положении, слегка касаясь гильзы патрона в патроннике.
— Ударник? Это боёк, что ли? — я не знал португальского слова и сказал английское peen.
— Неважно, — он махнул рукой. — Одним словом, любой толчок мог привести к случайному выстрелу. В наставлении для военнослужащих говорилось, что пистолет следует держать разряженным, и заряжать только перед самым выстрелом. Это дает нам линию защиты!
— На черта мне сдалась эта линия, если я не держал этого пистолета в руках? — я вдруг понял, что он не верит ни одному моему слову. — Если я скажу, что выстрел был случайным, то признаюсь в убийстве, которого не совершал. Вы вообще адвокат или тайный помощник прокурора?
— До прокурора нам еще далеко, — обиженно пробормотал Трута, откидывая со лба свои маслянистые волосы. — Пока что мне нужно вытащить вас отсюда под залог. Мы можем заявить, что ваш приятель попросил показать ему оружие, но стоило вам снять его со стены, как выстрел произошел сам собою.
— Он мне не приятель! И потом, формально это не он, а она. Кто бы это ни был, я вообще не видел его живьем, только в кино!
— Ну вот, начинается, — адвокат присвистнул, да так громко и длинно, что в дверях показался удивленный охранник — Поверьте, Кайрис, вы выбрали самый неверный путь из всех возможных. Они не дадут вам прикинуться сумасшедшим. Все, что вы выиграете — это пару дней на чистой постели в изоляторе. Мне пора ехать, а вам следует посидеть и подумать.
Кваква сидит на корнях мангрового дерева и ждет рыбу, просто сидит и ждет — я вспомнил теткины слова, сидя на нетопленой кухне «Веселого Реполова». Я тоже сидел и ждал, уставившись в дисплей, слушая, как вода бьется в жестяном водостоке, вместо того чтобы бежать куда глаза глядят или звонить частному сыщику. Прошло беда сколько времени, а я все еще сижу и жду.
Сижу тихо, поставив ноги на железную табуретку и чувствуя, как мартовское солнце нагревает мне затылок. Жаль, что еще не придумали солнечные батареи для лаптопов, мне не пришлось бы ходить в душевую в конце коридора, втыкать провод в розетку и делать вид, что я долго моюсь под ржавой теплой водой, бегущей из обломка трубы. На обломок надета резиновая соска, чтобы вода текла медленнее, а регулятора вообще нет, только красная раздвоенная клешня на трубе: открыто — вверх, закрыто — вниз.
Итальянский поэт Пьетро делла Винья, когда его бросили в тюрьму, разбил себе голову об стену. Через пятьсот с лишним лет другой литератор — француз Жильбер запер свои рукописи в сундук, проглотил ключ и умер. А мне хоть бы что: я сижу в этой камере и думаю о течении своей лиссабонской зимы. Хотел бы я знать, куда потекла бы сюжетная линия, не приведи я девку себе домой и не погляди с вожделением на ее ягодицы и груди с сосками, похожими на ягоды? Что бы тогда предприняли Ласло и компания — нашли бы другого дурака или продолжали бы подсылать мне миловидных garotas? Нет, не думаю: им просто нужен был пустой дом с хорошо подключенной аппаратурой и сговорчивым хозяином, такого добра в столице навалом.
Да и Ласло ли это, вполне вероятно, что он и чистильщик лишь исполнители, неуклюжие яванские куклы на тростях, управляемые невидимым далангом. Я видел такую куклу у Габии в чулане. Она воткнула заточенную снизу трость в ящик с цветочной землей, а я вошел в чулан в темноте и шарахнулся от плоской деревянной рожи. Кто же тогда я сам и чем мой лиссабонский дом не вертепный ящик? Куклы в нем не смотрят друг на друга, они беседуют, оборотившись к залу, превращая диалог в монолог, а монолог в посмешище.
Для стюардессы я тоже куклу нашел: би-ба-бо, состоящая из головы, в которую втыкают палец, и платья в виде перчатки. Под платьем нет трусов, и можно пощупать шерсть цвета кротовой шкурки. И где теперь эта шкурка и голова из папье-маше, почему бы ей не объявиться в кабинете Пруэнсы и не рассказать всю правду своим пронзительным голоском, чтобы я мог накинуть пальто, выйти под мартовский дождь и пойти домой.
Perai um pouquinho, Костас. Что тебе делать дома? То же, что все семь лет, пробароненных в Лиссабоне? Здесь я хотя бы не пью в три горла (няня!), не курю травы, вспоминаю испанскую грамматику, читаю, пишу в день по семь страниц не пойми чего, написал уже уйму слов, пропасть (няня!), разливанное море. Испанский тем временем подмигивает мне из принесенного охранником учебника: enchiquerar означает посадить в тюрьму, тот же глагол в другом контексте означает завести быка в стойло. Похоже, маленькой резвой Додо удалось и то, и другое, хотя она и была стеклянным камнем, имитацией женщины. Имитация: мутация, тация (миролюбивый пятнистый сомик), муть и метаться.
А может, мне и не нужно ничего другого? Может, я создан для такой вот Додо. Ее имя, казавшееся мне раньше забавным и даже соблазнительным, звучит теперь, как два неумолимых, тупых удара по клавишам: до! до! И хриплый собачий вздох педали.
слова мои, звери домашние,
не бросайте меня, безрассветного,
помогите крест донести
Прихватил на работе, что под руку подвернулось. Я поймал себя на том, что повторяю последние слова чистильщика, будто завороженный. Он бы еще сказал любимое Байшино: « um trabalho sujo mas algum tern que faz-lo!» Кто-то же должен делать грязную работу!
Где этот тип работает? И почему он со мной беседует? Я ведь могу запомнить его голос.
К тому же он говорит со знакомым акцентом, спотыкание согласных внезапно напомнило мне Мярта и даже немного тебя, Хани. Я прислонился к стене и стал смотреть на полоску света под дверью, полоска то и дело затемнялась, чистильщик ходил по кухне и шлепал мокрой тряпкой по полу. Представляю, как удивится Байша, увидев свежевымытый пол, подумал я, и сам себе удивился — о чем я думаю? Помню, как я взялся за уборку в ту зиму, когда стал хозяином дома, отмыл гостиную до блеска, сел на стул и огляделся — чистая комната выглядела намного хуже, пол был испорчен длинными бороздами, прежде скрытыми под слоем грязи. После смерти Фабиу тетка сразу велела вывезти из гостиной рояль, и рабочие тащили его через несколько комнат, извилисто царапая вощеные полы. Она продала столовое серебро и отправилась путешествовать, открытки от нее приходили короткие, будто повестки, иногда вместо слов там были чернильные облака, обозначающие седьмое небо.
Когда меня выставили из университета, тетка узнала об этом первой, потому что я напился вдребезги и позвонил ей в Лиссабон с маленькой почты на углу улицы Вайке. Не помню, что я там орал, помню, что в кабинке было слишком тесно, и еще — как я возвращался по берегу реки и смотрел на уток, рассыпанных на льду, будто горсть черноплодной рябины. Кажется, она сказала, что не стоит так убиваться, а я сказал, что домой не поеду, лучше в армию сдамся, в Eesti Kaitsevagi, в сухопутный батальон.
Через неделю тетка приехала в Тарту, чтобы выпить со мной порто и образумить, так она, по крайней мере, написала в телеграмме. Телеграмма пришла утром, но Мярт про нее забыл, засунул куда-то, и когда я прибежал на вокзал, чтобы встретить таллинский автобус, тетки там уже не было. Водитель ходил вокруг автобуса и пинал грязные колеса, на мой вопрос он развел руками:
— Иностранка? Была тут одна, совсем раздетая, спросила, где купить сигарет, — он ткнул пальцем в сторону торговых палаток, и я увидел клочок материи, похожий на заячье ухо среди голых кустов. Тетка стояла у стены — без пальто, в белом вязаном платье, поставив сумку прямо на снег и разглядывая полуоторванное объявление, написанное от руки.
— У кого-то потерялась собака, — сказала она, — теперь она замерзнет. Господи, я и забыла, как здесь холодно. Это бесплодная ледяная земля Калевалы.
Заглянув ей в лицо, я даже испугался, она сама выглядела замерзшей до смерти, нос у нее заострился и побелел, а круги под глазами были точь-в-точь такими, как у крепко пьющего доцента Симмааса, от нее даже пахло похоже.
— Зоя, здравствуй, — я решил не подавать виду. — Собака выживет, у нее шерсть густая, а вот ты в этом балахоне замерзнешь насмерть. Надевай мою куртку и пошли отсюда.
— Я прилетела в Таллин в пальто на меху, — заявила тетка, — в нем можно в арктическую экспедицию ехать. Но, подумай, Косточка — три пересадки! Очень утомительно. Я выпила немного вина на люфтганзовском рейсе и потом еще кофе с коньяком в зале прилета. Потом я повесила пальто на спинку кресла рядом со справочным окошком, и кто-то его забрал.
Я заставил тетку надеть мою красную стеганку и повел ее в общежитие, чтобы познакомить с китаистом, он должен был ждать нас в чисто убранной комнате за накрытым столом. Утром я оставил ему денег и наказал не покупать водки, но от Мярта можно было ожидать чего угодно, так что я немного нервничал. Тетка держалась за мою руку, вид у нее былбезмятежный и хитрый одновременно, мягкие торбаса делали ее ниже ростом, если бы не светлые косы, болтающиеся по спине, она была бы похожа на мальчика-шулера с картины Караваджо.
Зоя пьет? Глотает колеса? Я чувствовал, что она сама не своя, и не знал, как себя вести. Сделать вид, что я ничего не заметил? Поговорить об этом?
Подходя к нашей комнате, я услышал шум и понял, что китаист сделал все по-своему. У порога толпился народ, сизая копоть плавала под потолком, на столе было расстелено мое банное полотенце, на нем вперемешку лежали яблоки, помидоры и ломти белого хлеба из пекарни на улице Рютли. Под иглой проигрывателя шуршала пластинка PJ Harvey, взятая из моего чемодана, без спроса, разумеется. Мы остановились в дверях, я молча огляделся: ширма из неструганых полок, заставленных книгами, была сдвинута к стене, книги кто-то сбросил на пол, а драгоценный «Каталог» валялся на подоконнике, пропитываясь подтекающей из щели снежной влагой. Не слишком пьяный, но почему-то раздетый до пояса Мярт помахал мне рукой из угла:
— Я тут ни при чем, старик, они зашли на минуту и уже уходят.
— Нет уж, — крикнула от стола лингвистка, замотанная в клетчатый арабский платок. — Никуда мы не пойдем. У вас самая теплая комната на этаже. Заходи, Костас, и маму свою не прячь.
— Лучше бы ты папу привел, — мрачно сказала Пия, сидевшая на моей кровати. Об этой девушке я знал немного: что она на пару лет старше нас и что пьет с тех пор, как разошлась с мужем-математиком. Китаист время от времени приводил Пию ночевать, заявляя, что спасает ее от неприятных приключений. Quis custodiet ipsos custodes? заметил я ему однажды, кто будет стеречь самих сторожей? В те времена мне ничего не стоило вспомнить подходящую строку Ювенала, не то что теперь, в голове всю дорогу пересыпалась латунная мелочь латыни и греческого.
Мы с Мяртом еще на первом курсе договорились не обсуждать частную жизнь друг друга, он называл своих девиц лахудрами, я говорил — барышни, и Мярт презрительно щурил узкие чухонские глаза. К началу второго семестра я понял, что просчитался: частная жизнь китаиста была не в пример любопытнее моей, за его сосновыми книжными полками отправлялись таинства, о которых я не отказался бы поговорить. Особенно меня занимала легкость, с которой Мярт заговаривал с девицами: он вдруг переставал быть низкорослым эстонцем с деревенской походкой, выпрямлялся, стройнел, сверкал чистыми белками, а движения его становились плавными, как у лисы, отыскавшей в траве гнездо куропатки.
— Ты говорил, что приедет заграничная тетушка, и мы надеялись на маленький праздник, — сказал китаист, надевая рубашку. — Похоже, она явилась с пустыми руками, и праздник отменяется. Придется пить местную водку и закусывать колбасой из предместья Ныйгу.
— Другое дело мой финский дядюшка, — добавила Пия, — уж он-то знает толк в вечеринках, к тому же не бегает по городу в чужой одежде. И не выглядит как похмельная дворничиха.
Они говорили по-эстонски, но тетка насторожилась и застыла на пороге. Я молча подошел к своему шкафу, отодвинув лингвистку в куфье, вынул старое осеннее пальто и с трудом натянул его поверх свитера. Потом я снял пластинку с проигрывателя, положил ее на место и стал складывать книги, я делал все это медленно, пытаясь сообразить, как лучше себя повести.
— Какие милые эти филологи, — тихо сказала тетка, ни к кому не обращаясь. — Деликатнейшая субстанция нашего времени. Хорошо, что ты учишься не с ними, дорогой.
— Сейчас я вообще ни с кем не учусь, только прогуливаю. Пошли отсюда. — Я взял ее за плечи и вывел из комнаты, дверь закрылась, и за ней сразу засмеялись и зазвенели стеклом. Я с трудом мог дышать, бешенство душило меня, я тащил Зою по черной лестнице вниз, понимая, что нужно выйти как можно быстрее, выйти на улицу и выдохнуть, иначе я вернусь в комнату и разобью Мярту голову. Или он мне разобьет.
Нечто похожее я испытал, сидя в чулане на своей лиссабонской кухне и слушая, как чистильщик шмякает по полу мокрой тряпкой. Не знаю, знакомо ли тебе это чувство. Ты понимаешь, что твои обстоятельства сгустились самым оскорбительным образом, но разозлиться как следует не можешь, потому что в тебе зреет не злость, а ярость — и ярости нужен выход покрупнее. Мысли становятся ломкими, как жуки-плавунцы, и носятся сами по себе, дыхание противно замедляется, по спине бежит холодный ручей, и — наконец! — тебя заливает плотным, тяжелым, невыносимым жаром с ног до головы.
Я услышал, как закрылась кухонная дверь, потом — шаги по коридору, железное бренчание колокольчиков на сквозняке и звук захлопнувшейся створки в парадном, показавшийся мне непривычно громким, наверное, потому, что сразу после этого настала тишина.
Еще какое-то время я сидел на полу, собираясь с силами, я чувствовал, что какая-то важная мысль от меня ускользает, но не мог за нее ухватиться — так стоишь, дурак дураком, перед багажным транспортером с единственным чужим чемоданом, выезжающим снова и снова, и все надеешься, что теперь уже выедет твой, потерянный.
Ладно, что я знаю? История с неверным мужем и разводом была выдумкой, датчанку наняли для более серьезного дела — это раз. Значит, сердцевиной шантажа должен был стать чиновник высокого ранга или просто владелец лишних денег — это два, а человека в вязаной шапке послали избавиться от приманки, пока крючок не вонзился слишком глубоко, — это три. Кто послал? Любовник, кто же еще, homem opulento, тот самый парень с деньгами, не желающий платить вымогателям. А вслед за убийцей пришел человек в хламиде, которого послал неведомый Ласло, чтобы устранить неожиданную неприятность. И теперь он ее устраняет.
Похоже, уже устранил. Вот и все.
По крайней мере, ясно, что Додо не имеет отношения к убийству. Моя партнерша — авантюристка, это другая порода хищников, они не нападают на жертву, они таскают чужие яйца, подворовывают, как ласки. Даже ласка Додо отличается от любовной страсти, как гортанобесие от чревоугодия — у нее это не гудящий голод, а просто любовь к сладкому.
Есть только одно утешительное обстоятельство во всем этом бардаке: если верить теткиной записке, гадалка, знакомая старой хозяйки, предсказала, что три человека умрут в этом доме после хозяйкиных похорон. Загибаем пальцы. Фабиу. Зоя. Хенриетта. Все, история с пророчествами закончилась, больше никому умирать не придется. Более того, сюда никак не помещается Мириам, а это значит, что ее убили не здесь или вообще не убивали.
О чем я думаю? Какая, к черту, гадалка? И где была моя хваленая интуиция, когда прошлой осенью Лютас приволок ко мне домой картонную коробку с красными иероглифами на боку? Почему, черт возьми, я не могу сказать нет, когда кто-то настаивает на своем, делая дружеские пассы и глядя на меня с набухающей прозрачной обидой во взоре. Единственный способ уклониться от неминуемого — это не подходить к телефону, затаиться в листве, притвориться высохшим жуком на ветке. Но если меня поймали и прижали к стене, я непременно размякну и соглашусь на любую дурацкую затею, только чтобы не говорить человеку нет.
Чтобы не чувствовать стыда за того, кто настаивает.
...a sort of permanent outcast, someone who never felt at home, and was always at odds with the environment.
— Ну, какой из тебя историк, — сказала тетка, допивая вторую рюмку таллинского бальзама. — Вот приятель твой Мярт, тот на своем месте. Типичный языковед, надменный, вялый и собой нехорош. Да еще комнату сплошь заставил своими полками, как ты только это терпишь!
На смуглую тетку в пушистом, как пасхальная верба, платье оглядывались, и мне было неловко. Лучше бы мы в парке посидели, двадцать крон за чашку эспрессо, да она с ума сошла.
— Там в основном мои книги стоят. И потом, эти полки служат нам отличной ширмой. Личное пространство, гости, женщины, понимаешь?
— Вот оно как, — тетка прикусила губу, — и зачем тебе понадобилось это пространство? Ты же девственник, Косточка, разве нет?
Я подумал, что у девственников, наверное, на лбу написано, что они еще не пробовали. Так в пантомиме времен Вордсворта актеру писали на груди невидимка, и все старательно делали вид, что его не замечают, даже натыкались на него.
— У меня была женщина, — сказал я хмуро, — я забирался к ней в спальню по карнизу.
Зоя засмеялась и, протянув над чашками руку, погладила меня по носу. Черный бальзам и бессонная ночь стояли в ее лице, будто ртуть в столбике градусника, но ее смех был таким же хроматическим спуском — или как там это называется? — как раньше, у меня от него щекотало в горле, словно от лимонада. Я подумал, что тетка скоро состарится, лицо ее увянет, ноги распухнут, а смех будет таким же безжалостным и свежим.
Потом я подумал, что в сорок лет надо жить какой-то особой жизнью — без лишних телодвижений, без суеты и без выпивки. Когда мне стукнет сорок, подумал я, нужно будет превратиться в египетскую статуэтку: правым ухом слушать дыхание жизни, а левым — дыхание смерти. Нужно будет прогнать всех, кто мешает, и даже тех, кто не мешает, но и не слишком помогает. Всех, кто отнимает время, донимает своей пустотой, занимает деньги без отдачи, понимает слишком много, вынимает ножик из кармана и принимает меня за дурака. Всех отлучить и сохранять равновесие.
Оставив непомерные чаевые, мы вышли на улицу. Зоя пожелала взглянуть на здание моего факультета, судя по всему, нашего общежития ей не хватило. Стоило нам выйти за дверь, как вдоль аллеи подул крепкий ветер и уличный мусор закрутился мелкой завертью. На мгновение стало теплее и так тихо, будто черные облака были ватными, потом послышался мягкий шлепок — с жестяного козырька кафе сдуло снежную горбушку, и она рассыпалась прямо у нас под ногами.
— Ой нет, — сказала тетка, отступая обратно к дверям, — сейчас будет буря.
— Пошли быстрее, — я накинул куртку ей на плечи. — Тут всего два шага до гостиницы.
— Тогда побежали, — сказала тетка и взяла меня за руку. Мы побежали, и тут же пошел дождь.
Только подумай, Хани — пишу тебе про Тарту и ловлю себя на том, что пытаюсь описать город, в котором ты сама живешь, все время забываю, что ты читаешь мое письмо, сидя над чашкой кофе на какой-нибудь заснеженной улице Лосси.
Видела бы ты, что я теперь читаю! «Войну и мир» на португальском. На русском я эту махину ни разу не читал, но я тут многое делаю, чего раньше не делал. Второй день мучаюсь с французскими цитатами, заполняющими текст, будто черные семечки арбузную мякоть. Где еще, скажи на милость, читать такое, как не в камере с окном на кирпичный брандмауэр?
Странная, однако, у них система: заказов на книги не принимают, приносят то, что под руку попадется, как будто вынимая вслепую из огромной груды неразобранного наследства. Представляю себе эти заваленные макулатурой полки в каком-нибудь подвале и нарочного, развозящего заказы заключенных по этажам на проволочной тележке.
Дня два назад, когда меня объяла утренняя тоскливая хмарь и стены камеры стали сдвигаться, я потребовал охранника и сказал, что хочу помолиться, пусть меня отведут в тюремную часовню. Оказалось, что часовни в этой тюрьме нет, а также нет мечети (я спросил!) и синагоги (он сам сказал), нет даже молитвенного коврика. Это тебе, Костас, не Литовский замок у Крюкова канала с киотом из красного дерева, я про него когда-то читал в книге «Жизнь заключенных». Одним словом, это второстепенная тюрьма, где охранники меняются на удивление редко и похожи то на лавочников, то на статистов, за исключением того щеголя, что расхаживает с бильбоке, его зовут Rbano, то есть редиска, я переделал его в Редьку, разумеется.
У Редьки вечно полон рот мятных таблеток — из-за этого он смахивает на пациента психушки, прячущего лекарство за щекой. Глядя на него, я думаю, что люди, так сильно неуверенные в себе, как он, вынуждены совершать чертову уйму ненужных движений: щелкать зажигалкой, сосать пилюли, крутить в руках пенковую трубку или вот — носить с собой бильбоке. В детстве у меня самого был похожий шарик, няня называла его раскидай, он приятно пружинил и возвращался обратно в руку, гулять с ним было весело, будто со щенком на длинном поводке. Теперь я знаю, что такую же штуку во Франции давали в руку приговоренным к гильотине, чтобы они улыбнулись перед смертью.
В коридорах стоит мертвая тишина, не слышно даже шагов, как будто заключенным выдали музейные тапочки, а в питье добавляют пустырник или мяту — нигде и никогда я не спал так крепко и не видел таких театральных барочных снов в духе Кальдерона. И правда, сижу тут, как принц Фернандо, и думаю о la dama duende. А если повезет, обо мне вспоминает саламейский алькальд и вызывает на допрос, утешительно бессмысленный и дающий отдохнуть от серых сдвигающихся стен хотя бы на пару часов.
Я сижу тут тихо, не скандалю, не объявляю голодовок, делаю на стене зарубки — на всякий случай, если вдруг отберут компьютер — и пишу тебе длинное и, смею надеяться, не слишком тоскливое письмо. Хотя мог бы поступать, как тот русский офицер, о котором я читал в каких-то военных мемуарах: офицер аккуратно отмечал в дневнике каждый прошедший день, а рядом писал: опять ничего не произошло. Может, в глубине души я всегда этого хотел?
Сидеть тихо, писать, делать зарубки. Вылитый el prncipe constante.
Один писатель, из тех, что, как и я, грешный, сбежали из своей страны, считал своим лучшим произведением написанный на пари рассказ из шести слов: For Sale: Baby shoes, never worn. Если бы меня спросили, что я сделал за свои тридцать четыре года, я бы сказал, что написал четыре десятка страниц и покрасил бассейн в Альгарве, больше мне сказать нечего.
Слово «Лиссабон» звучит как «мутабор» и превращает меня из халифа в аиста, при этом сам я живу в гнезде мертвой коноплянки, читаю ее книги, доедаю ее варенье, нюхаю ее рубашки, храню ее пепел непогребенным. Гнездо я потерял, в этом нет сомнения, остались рубашки, книги и пепел. Когда я прочел долговые бумаги, присланные банком, то чуть не порвал их на мелкие клочки.
Этого не могло быть, это компьютерная ошибка, разве я не посылал им чеки каждый квартал, я пропустил всего месяца два-три, не больше! Вы не выплатили проценты в течение года, следовательно, если означенная сумма не будет погашена в срок, то дом переходит... Кому переходит? Хрустящие звенья цифр нацелили в меня свои пики, сомкнувшись ливонской «свиньей»: с тех пор прошло пять лет, и все пять лет я слушал, как чудской лед трещит и проваливается под моими ногами.
Смешливая коноплянка подвела меня, сама того не желая, так уж сгустились наши с ней обстоятельства. Я видел дату на завещании — когда оно составлялось, тетке и в голову не приходило, что она потратит две сотни тысяч на докторов и умрет после второй операции. Она думала, что успеет все уладить. К тому же Зоя вовсе не собиралась оставлять мне дом, мое имя появилось в бумагах в один из последних дней, вернее — не имя, а прозвище, а почему это случилось, я так до сих пор и не понял.
Ты знаешь, Хани, чем дальше я углубляюсь в этот лес, тем темнее в глазах: еще шесть недель назад я был уверен, что выкручусь с долгами, даже бутылку арманьяка на радостях купил. Я пришел тогда в банк, чтобы поговорить с парнем, который занимался моим делом, и — на мое счастье — парень оказался покладистым, улыбчивым англосаксом.
— Не все так плохо. Найдите десять процентов от суммы долга, — сказал он, утешая мой слух британским приглушенным клекотом, — мы сможем оформить частичный возврат, и вас оставят в покое. Самое малое — на один квартал, а то и на полгода, если будете аккуратно платить проценты. Сейчас у всех трудные времена, и банк должен поддерживать свою репутацию, — он кивнул на рекламный постер, висевший напротив стола. Банк заботится о вас, как дядюшка, будьте и вы хорошим племянником.
Знал бы он, какой я паршивый племянник. Я предал свою тетку дважды, нет, трижды. Я не приехал навестить ее в клинике, я ублажал себя под одеялом, глядя на ее фотографию, я прочел письма своего дяди, копался в его бумагах, вскрыл его тайник, а напоследок ограбил сестру, расточив ее законное наследство. Я на редкость бесстыжя птица, какой там халиф-аист — серая городская сорока с полным клювом ворованных побрякушек.
Я закрываю глаза, прислоняясь к бетонной стене, и вижу, как Зоя садится в кровати, спиной ко мне, закидывает руки за голову, чтобы найти запутавшуюся в волосах шпильку, которая колет ее в шею. Зимний свет пробирается в комнату через узкую полоску между шторами, и я понимаю, что уже часов девять, не меньше. А в двенадцать мне нужно забирать документы и сдавать ключи коменданту общежития. Начинается мое последнее утро в Тарту, и я этому рад.
— Я уже забыла, как это бывает на севере, — говорит Зоя, — с небес сыплется снег, а за шиворот почему-то капает дождь. Хорошо, что ты захватил для меня свитер, Косточка.
Я не говорю ей, что нес его из чистки, это мой единственный приличный свитер, приходится то и дело сдавать его в pesumaja. На белой шерсти сверкает свежее кофейное пятно, недаром мы пили кофе в темноте, не вставая с постели, она замечает пятно и снимает свитер через голову. Какое-то время я вижу ее правую грудь, всю в темных веснушках, как перепелиное яичко, и слышу, как цитрины, похожие на зерна великанской пшеницы, глухо стукаются друг о друга, когда она поворачивает голову. Цитрины я бы тоже украл и глазом не моргнул.
Да, я влюблен в ожерелья и шпильки своей тетки, во все ее дремучие мелочи, я влюблен в ее голос, в ее записки и в ее пепел. Я даже здесь, в тюрьме, думаю о ней жадно, будто о живой женщине, оставшейся дома. Да, я вор. После ее смерти я украл и продал все, что мог, но только потому, что этот необъятный дом пил мою кровь, не говоря уже о закладной, которую тетка оставила мне вместе с ним, будто яйцо Паньгу, наполненное хаосом.
Когда же увидишь его под ветвистым дубом, от дел жужжащих пчел опьяневшего, свяжи его.
В квартире было тихо, но я не решался подняться с пола, хотя железный угол нижней полки больно вкручивался мне в поясницу. Я слышал, как медленно стучит мое сердце, в горле першило, крючок с той стороны двери казался мне колючей веткой, а полоска света под дверью — отдаленной линией горизонта. Воздух в кладовке стал зеленым и плотным, колыхался, как болотная ряска, и кишел личинками водомерок.
В детстве мне часто приходилось сидеть взаперти. Когда мы с матерью переехали к Йоле, та почти сразу же уволила няню, не прошло и месяца. За недостаток образования, как она выразилась, а на деле — за дух противоречия и русскую речь, которая могла поселиться у меня в голове и вытеснить lietuviii kalba, торжество которой бабушка предвидела еще в начале восьмидесятых. Я займусь Костасом, сказала она матери, а ты можешь взять ночные дежурства.
Занималась она так: вечером меня запирали в столовой с бутылкой лимонада и учебником испанского, чтобы я делал упражнения, а не шлялся с мальчишками во дворе. Испанский был выбран лишь потому, что в доме было два учебника, оставшиеся от студента-квартиранта — мы с матерью жили в той комнате, которую он когда-то снимал, на стене еще долго висела карта Андалусии. Случалось, что Йоле уходила к подруге и забывала меня выпустить, так что мне приходилось спать на диване или — лежать, глядя в разлинованный тенями потолок и прислушиваясь к шагам и хлопанью дверей в подъезде.
Шагов было много, некоторые я узнавал, а некоторые приближались к самой двери, сопровождаясь зловещими скрипами и шорохом, резко замирали и заставляли меня вытянуться под одеялом и перестать дышать. Я слышал стук своего сердца так явственно, как будто оно билось не внутри, а снаружи. Сейчас он войдет, думал я, дверь откроется, чернильное зыбкое нечто втиснется в комнату, замычит, разбухнет, распространится повсюду и закупорит мне рот темными комьями донного ила.
— Эй вы, сколько вас? — скажу я смело, выплевывая ил, вставая и вырастая до потолка. В руках у меня окажется меч, нет, загнутая на конце шпага матадора, нет, лучше молния, а за спиной распустятся складчатые крылья плаща, как на римском рельефе из отцовской книги.
- Эй вы, сколько вас? Убирайтесь сей же час.
- Кто бы ни был этот зверь, я теперь открою дверь.
Не помню, откуда взялся этот клич, судя по рифмам, я сам его сочинил. Эй вы, сколько вас? Для шести лет неплохо, а? Хотел бы я знать, Хани, помнишь ли ты хоть строчку из того, что я читал на вечере в университетском клубе. И помнишь ли ты мое лицо. Думаю, что нет — если бы меня спросили, какой у тебя на самом деле рот, какие волосы, я бы тоже растерялся. В моей памяти твое лицо потеряло краски — прямо как гобелен из Байе, когда революционеры вытащили его из собора и накрыли им грязные повозки с оружием и доспехами. Впрочем нет, я, кажется, ошибаюсь, какой-то адвокат вмешался и дал республиканцам несколько штук сукна, а ковер в тот раз уцелел. Я бы тоже уцелел, будь у меня такой адвокат. Но у меня другой.
В конце недели он придет сюда со своим портфелем, разбухшим от сэндвичей и допотопных папок со шнурками. Сидеть напротив него в комнате для свиданий не слишком-то приятно — он то и дело жует свои булки, чихает и пьет какую-то желтую сладость из фляги. Вопросы, которые он задает, меня бесят, его салфетки вызывают отвращение, его сытое хмыканье сводит с ума, а губы напоминают посмертную маску Агамемнона, но я все равно рад его видеть. К тому же, он добился отмены бумажных мешков, и теперь я знаю, что стены на моем этаже такие же облупленные, как на первом, но дверей не двенадцать, а восемь — как раз по числу символов Фу Си. Будь у меня мелок, я бы пометил свою дверь триграммой Кань, но мелка у меня нет.
Я сидел в кладовке около получаса, кашляя и думая обо всем сразу, и в конце концов меня пробрала дрожь. Знаешь, как бывает, когда тебя ударяет морозным разрядом прямо в диафрагму, и очумевший, стиснувший мокрые ладони, ты вдруг понимаешь, какое все слабое и на каком перетертом шнурке оно держится? Вот такая дрожь.
Перед этим я забылся минут на пять и увидел сон. В моем сне рыжие муравьи несли своих покойников куда-то в глубины муравейника, один покойник был в виде рисового шарика, другой похож на мертвую осу, а третьим был я сам, еще не мертвый, только объеденный. Муравьев было много, густая красная лента, я слушал, как они шаркали своими ломкими ногами по песку, набирался сил и ждал пробуждения.
Открыв глаза, я поднялся и что было силы нажал на чуланную дверь плечом. Крючок хрустнул, и я вывалился в пустую кухню. Над сосновым столом горели все лампы, будто в операционной, свежевымытый пол сверкал шоколадной терракотой, такой чистой эта кухня не была уже много лет. Я вымыл руки, поднялся на второй этаж, зашел в спальню и провел рукой по стене. Стена была влажной. Я понюхал пальцы, от них слабо пахло чем-то вроде стирального порошка. Я представил себе человека, высокого, закатавшего рукава, застывшего на четвереньках в луже розовой грязной воды. Такую воду я рисовал себе в детстве, читая про Эгле — королеву ужей.
- Если ж милый мой убит и в пучине темной плавает,
- над волною закипит пена красная, кровавая.
Я выключил свет, лег поперек кровати и стал смотреть в потолок Может, ко мне приходил не сам чистильщик, а его подручный, у такого человека должно быть много подручных, я ведь не видел его лица, наверняка у него пристальный взгляд и толстые складки под затылком. Такие складки творец не раздает направо и налево. Люди такого склада владеют особой речью, слова их не струятся, не свиваются в опасную воронку над илистым дном, они бьют в землю, как небесный огонь, и запоминаются, как мантра.
Я лежал там долго, пытаясь успокоить кровь, произнося мантру про соловья, складывая числа и думая о времени. Я говорил с Додо в одиннадцать, а теперь без десяти два. Когда я укладывал компьютер в сумку, покидая «Веселый Реполов», все шесть окон на экране зияли белесой пустотой, значит, в доме никто не шевелился, а уж тем более не ходил. Датчик движения заставляет камеру работать двадцать минут, значит, убийство произошло в то время, как я гулял по пляжу, поэтому картинка с телом оставалась на экране еще какое-то время.
Одним словом, за те полтора часа, что я добирался до города, человек Ласло явился ко мне домой, выкрутил световой замок, отключил камеры, спокойно сделал свою работу, наткнулся на хозяина дома, запер его в кладовке и, уходя, включил свет. Но как он умудрился добраться так быстро?
Сейчас бы мне пригодился Хамфри Богарт в роли хорошего полицейского, с этим его топорным лицом и тяжеловесными губами справедливого копа. Помню, как я читал «Мальтийского сокола», забравшись в самую середину книжного холма на полу магазина, и помню, что сидеть было удобнее всего на зеленых Брокгаузе и Ефроне. Это было начало девяностых, доставать русские книги было не так-то просто. После январских событий они исчезли из магазинов, так что я ходил в лавку на улице Соду и копался там часами в грудах сваленных на пол томов, пахнущих подвальной сыростью. Люди уезжали и продавали свои библиотеки за бесценок, хозяин магазина не успевал расставлять книги и разрешал мне приходить вечером и отбирать себе что получше. Взамен я наводил там порядок, складывал книги в стопки и заносил названия в список, проставляя цену: десятка за потрепанного Апулея или двадцатка — за синий том с головой Флобера в золотом медальоне. Русские книги я еще в детстве любил больше литовских, особенно те, что про полярные экспедиции или блуждания в джунглях. Больше всего мне нравились долгие перечисления, я любил читать про запасы провианта на судне (пятнадцать бочек ржи, сухари и солонина) или про груды оружия, обнаруженного в крепости, а гомеровские списки кораблей с упоением дочитывал до конца.
В Тарту я не читал ничего, кроме учебников, голова у меня и без того гудела от текстов, зато вернувшись, я нашел работу в библиотеке и снова оказался по уши в книжной пыли. Место было при Жемайтийском книжном обществе, и я рад был уехать в Палангу, оказаться подальше от матери и пожить до весны на берегу моря. Зимнее жилье сдавалось там намного дешевле, чем в сезон, но на приличную комнату мне все-таки не хватило, и я снял застекленную веранду с кроватью и трехногим табуретом вместо письменного стола. Хозяйка дома, grosse dondon лет сорока пяти, сказала, что ее зовут Марта, дала мне ключ, привязанный к сухой беличьей лапке, и попросила не являться после полуночи.
Первый вечер я провел на своей веранде без занавесок, потешая окрестных мальчишек, которые глазели на мой эркер, будто на волшебный фонарь. Особенно их насмешило умывание над цветочным горшком: хозяйка рано легла спать и забыла поставить обещанную миску. Занавески мне выдали наутро, но от холода они не спасали, к тому же были тюлевыми и шевелились от сквозняка. Мне то и дело мерещилось, что за окнами кто-то стоит, я выходил на крыльцо, курил, стряхивая пепел в снег, вглядывался в редкие стволы сосен и почему-то ужасно тосковал.
Наверное, мне трудно было смириться с мыслью, что я снова в Литве. Оказавшись в Тарту, я дал себе слово закончить университет и добиться гранта в каком-нибудь Лейдене или Бордо, да где угодно, только бы не возвращаться домой. Я даже согласился учить эстонский, чтобы убраться подальше от родимых мест. И что же — теперь я говорил на четырех языках, цитировал «Breviarum historiae Romanae» и вернулся туда же, откуда начал.
Что-то должно было произойти, я чувствовал это всей кожей, как чувствуют приближение грозы — электрическая мякоть созревала в моем теле, голова гудела от предчувствий, Вильнюс был мне мал, Литва была мала мне. Наказание Марсия затянулось, кожу содрали, натянули на барабан, а барабан не издает ни звука, думал я. Как вышло, что я сижу на этой заиндевелой веранде, прислушиваясь к собачьему лаю в дюнах, и мне ни написать, ни позвонить некому.
Теперь я понимал описанных у Стивенсона туземцев с островов Гилберта — они попрощались с путешественниками, обменялись дарами, но вскоре увидели, что судно белых гостей по-прежнему стоит в бухте, пережидая неблагоприятный ветер. Ветер дул три дня, корабль стоял на месте, а туземцы тихо сидели в кустах и не показывались — ясное дело, ведь прощание уже состоялось, и снова увидеться будет неприлично! Мое прощание с этой страной тоже состоялось, я рассыпался на сканды — или как там называются эти шестеренки? — и никак не мог собрать себя заново, я знал, что писатель из меня не выйдет, историк — тоже, но что выйдет, никак не мог уловить.
Может, и вовсе ничего?
Если верить Платону, книги расслабляют человека, веря в написанное, мы доверяемся тому, что идет снаружи, чужим отпечаткам, а не тому, что есть внутри нас.
Чужие отпечатки. Интересно, чьи отпечатки так тщательно отмывал суровый мужик в балахоне, думал я, глядя в потолок, хотел бы я знать, для кого он так старался — не для меня же? Хотел бы я знать, что ты за птица, Додо, во что ты меня впутала, и знаешь ли ты, как из этого выпутываться? И кто этот мадьяр, который дергает за твои веревочки?
И дергает ли кто-нибудь за веревочки самого мадьяра?
И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу.
— Ничего не вышло. Ты хотел написать историю сердитого юного автора, а написал монолог похмельного клошара в ожидании todo, — сказал мне Лилиенталь, возвращая прочитанную наконец-то рукопись. Я взял у него тетрадь и подержал его за плечо, пока он избавлялся от ботинок. У него русская привычка разуваться в коридоре и кельтская манера снимать носки и бросать где попало.
Мой друг живет в похожей на лабиринт студии, где даже Байша не смогла в свое время навести порядок. Когда-то я был там частым гостем, мне нравился этот дом и нравился хозяин — злой, красноволосый, похожий на Гун-Гуна из «Каталога гор и морей». Понять, что он говорит, когда выпьет, невозможно, но слушать занятно — так древним языкам не хватало слов, и они позволяли смыслам переливаться одним в другие. Еще у него есть кукла Касперль, которую нужно надевать на руку, и тогда у нее двигается рот, кукле этой лет двести, не меньше, и рот у нее давно отодрался, одни красные нитки торчат. Когда Лилиенталю становится скучно с гостями, он достает куклу, сует в нее руку, и Касперль говорит гнусавым ярмарочным голосом: а не пойти ли нам вздремнуть, а, дружище? И сам себе отвечает: а вот и пойти!
Мне нравились его рассуждения о том, что сумасшедших надо лечить испугом: заманивать лимонадом и пирожными в беседку на воде и внезапно ее переворачивать, или — стрелять у них над ухом из ружья ранним утром. Мы часто говорили о сумасшедших, потому что Лилиенталь считал себя сумасшедшим в третьем поколении, мало того, он считал себя потомственным наркоманом, потому что какой-то его прадед-офицер однажды так и не проснулся в малайском опиумном притоне. Мне даже имя его нравилось, в детстве я читал о Карле-Вильгельме Лилиентале, человеке, объяснившем причину парения птиц и погибшем от порыва глупого берлинского ветра.
— Жертвы должны быть принесены, — сказал авиатор перед смертью. Я даже хотел написать это на одной из Лилиенталевых стен, сплошь исписанных друзьями-бражниками, но передумал и написал другое: счастлив, кто падает вниз головой: мир для него, хоть на миг, а иной. Под моей надписью вскоре появилась другая: жизнь — это боль! взяла со стола двадцатку (ева).
Самая жестокая надпись — на зеркале, черной помадой — оставалась со времен Дарьи, русской студентки, прожившей в студии несколько накаленных, будто вольфрамовая проволока, недель. По студентке мой приятель убивался на удивление долго, русские женщины — наша с ним угрюмая слабость. Дарье хотелось бродить по городу ночью, забираясь в портовые бары, где подают горячую вишневую водку, ночевать в чужих лодках, замусоренных рыбьей чешуей, слушать фадо и курить траву на рассветных холмах Байру-Алту. Ли предпочитал всему этому свою студию, дай ему волю — он лежал бы на Дарье сутки напролет, отвлекаясь только на кокосовый суп, который хозяйка тайской лавки приносила ему в судках.
Наткнувшись на скорбное Лилиенталево упрямство, девица поступила по примеру американцев, не желавших платить налоги короне: они просто взяли и вывалили фрахт английского чая в воды гавани, весь без остатка. Однажды вечером Дарья дождалась, пока Ли заснет, вылила его запасы рома и самбуки в чугунную ванну, посыпала тростниковым сахаром, подожгла эту адскую смесь и удалилась. Открыв наутро глаза, Лилиенталь обнаружил покрытую черной сажей ванную, закоптелый пол и размашистую надпись на зеркале: «Алло, летчик, ты слишком низко летаешь».
Вот бы мне теперь зачерпнуть из этой ванны, я бы даже на горящую самбуку согласился, пил бы это горючее, как воду из ручья, низко наклонившись, и еще в лицо себе плескал бы. Жизнь в тюрьме отвратительна не столько сыростью, одиночеством и тем, что туалет похож на латрину в замке госпитальеров, сколько скудостью ежедневных ощущений. Вкус во рту всегда один и тот же, боюсь, что даже самбука не слишком бы мне помогла. Здешние запахи через неделю знаешь наизусть, тюрьма сдает их будто карты, аккуратно, постепенно, а дома их — сотни, в городе — тысячи, и все бросаются на тебя радостно, как собаки, часто дышат, встают лапами на плечи. О прикосновениях и говорить нечего, приятна на ощупь только клавиатура, все остальное осклизло, сомнительно, мокро или заскорузло.
Сегодня Пруэнса вызывал меня, чтобы прочесть показания нового свидетеля, так радовался, что даже чаю велел принести, и читал с особым выражением, делая театральные паузы.
«Настоящим подтверждаю, что с подозреваемым у меня были близкие отношения, однако я отвергла его предложение руки и сердца, чем привела Кайриса в отчаяние. Однажды он залез в нашу квартиру по карнизу, перепугав соседей и мою младшую сестру Сольвегу. Сестру он пугал и позднее, она боялась мне признаться и довольно долго терпела его домогательства. Он воображает себя писателем, не признает никаких правил и совершенно аморален. Полагаю, что Кайрис способен на криминальные поступки. В том числе и на убийство».
Когда я услышал это, то даже засмеялся от удивления.
— Это же Габия пишет! Где вы ее выкопали? И при чем тут наши с ней отношения, близкие или далекие? У нее, видать, в голове помутилось, она всегда была немного не в себе.
— Да? А мне она показалась здоровой и бодрой, — заметил Пруэнса, — даже слишком для ее нынешнего положения. Вы убедитесь в этом, когда у вас будет очная ставка с сеньорой Рауба.
— С сеньорой кто? — мне показалось, что я ослышался.
— Сеньорой Рауба из Литвы. Вчера мы с переводчиком звонили ей в гостиницу, чтобы снять предварительные показания. Она придет сюда в понедельник, чтобы вас увидеть.
— Габия придет сюда? Что она делает в Лиссабоне?
— Вероятно то, что полагается в таких случаях. — Пруэнса пожал плечами.