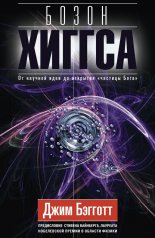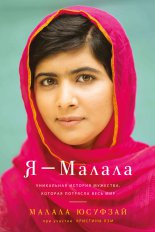Влюбленные в Лондоне. Хлоя Марр (сборник) Милн Алан
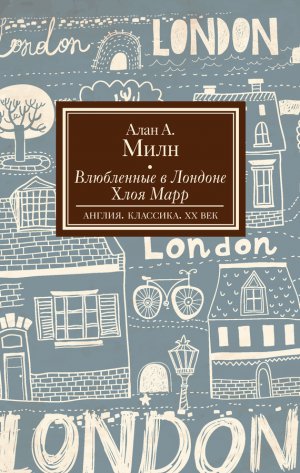
– Вы в эволюции что-нибудь смыслите?
– Достаточно, чтобы объяснить ребенку, который ничего о ней не знает. Как и многие. Но, боюсь, вас это не устроит.
– Мы ведь произошли от обезьян, так? А обезьяны от других животных, и так далее, и так далее, до… до первых признаков животного мира…
– Кажется, морских червей. Так они, кажется, называются, но не поручусь.
– Да. Откуда бы там ни взялись морские черви.
– Это можно счесть великой тайной бытия. Как все началось. Надеюсь, вас это не слишком тревожит?
– Нет, я просто задумалась… о таких созданиях, как бегемот. Они уже остановились или еще развиваются во что-то другое?
– Скорее всего в толстосумов из Сити. Но понимаю, о чем вы. Вы о том, почему только одному бедолаге удалось пробиться наверх?
Джилл рьяно закивала:
– Да! И есть еще кое-что… – Запнувшись, она добавила серьезно: – Все это очень интересно, правда?
«Дорогое ты, милое дитя», – подумал Барнаби, глядя на нее с улыбкой, а вслух сказал:
– С вами – да. Продолжайте.
– Предположим, только обезьяны оказались единственными – не важно, по какой причине, мы этого никогда не узнаем. Они все еще эволюционируют?
– Придется изучить проблему серьезнейшим образом. Вы хотите сказать, что все ступени развития от обезьяны до пилтдаунского человека, от пилтдаунского человека до пещерного человека, от пещерного человека до человека говорящего должны, так сказать, постоянно развиваться на каждом этапе?
– Не может же эволюция вдруг прекратиться, и не может же она идти только на высших ступенях.
– Погодите-ка. Давайте поконкретнее. Кстати, вон там жираф, и если он когда-нибудь достигнет половой зрелости, его прачке не позавидуешь.
– Могу разглядывать, пока слушаю, – отозвалась Джилл. – Продолжайте.
– Возьмем обезьяну в пятидесятитысячном году до нашей эры, которая в двадцатитысячном стала пещерным человеком, а в десятитысячном научилась говорить, за даты не поручусь, вероятно, их следует умножить на десять. Значит, существо, которое двадцать восемь тысяч лет назад было обезьяной, сегодня должно быть пещерным человеком. И если да, то где оно?
– Вот именно. И каков ответ?
– Помимо очевидного «Извините, мэм, это не я», на ум приходит только: эволюция, выживание сильнейших, и – как в таких случаях говорят – все это естественно в порядке вещей. Естественный отбор. Как только появился Человек, Природа уступила ему первенство, и ничего больше в Природе уже не происходит согласно ее законам.
– И все равно это не объясняет, почему бегемот не добился большего прежде, чем объявился человек.
– Наверное, он развился до бегемота, посмотрел на себя в зеркало и решил, что и так сойдет.
Совершенно неожиданно Джилл рассмеялась.
– Потому что я счастлива, – объяснила она с улыбкой, точно это единственный смех, который должен позволять себе человек разумный.
– Надеюсь, вы всегда будете счастливы, – серьезно отозвался Барнаби, – поскольку мне кажется, что пока счастья вам выпадало не слишком много. И надеюсь, будете вы счастливы или нет, вы всегда найдете чему посмеяться.
– Думаю, люди слишком легко смеются по самым глупым поводам.
– Благослови их за это Боже. Знаете, если чего-то не делаешь сам, это что-то не обязательно неправильно. Или глупо.
– Вы считаете меня очень молоденькой. Верно?
– И очень хорошенькой. Не забывайте этого, ведь это очень важно. Но я думаю, что вы пока не определились.
– С чем? – презрительно спросила Джилл. – Со средним возрастом?
– С юностью. С лично вашей юностью. С тем, кто и что вы есть. Теперь идемте в зал Аквариума и посмотрим, сколько старых знакомых удастся найти за стеклом.
Стейнера они нашли сразу. Он симпатично, по-доброму уставился на них из-за стекла.
– Преувеличение, конечно, – сказал Барнаби, – но определенно Стейнер. Стейнер, собирающийся разразиться чем-то важным и чуть-чуть побаивающийся – вдруг не получится. Как, на ваш взгляд?
Кивнув, Джилл рассмеялась, потом сказала серьезно:
– Но в жизни он выглядит лучше.
– Большие усилия прилагаешь, чтобы выглядеть получше рыбы, и иногда удается. Хотелось бы надеяться. – Они медленно пошли дальше. – С Маршаллом вы знакомы? Вот он – при бакенбардах и прочем. С классовым сознанием, но здравомыслящий. Теперь вы сами кого-нибудь найдите.
Мало-помалу она вошла во вкус игры.
– Смотрите, вон там! Совсем как садовник, который у нас когда-то работал! Он сломал ногу, и мне приходилось ему читать.
– А со сломанной ногой он читать не мог? – чуть удивленно спросил Барнаби.
– Он вообще читать не умел. То есть достаточно быстро, чтобы запомнить, о чем говорилось в начале фразы. Мы читали книгу, которая называлась «Морковка, или Мой маленький мальчик».
– Про морковку?
– Морковкой звали мальчика.
– Надеюсь, вы ясно дали это понять перед тем, как начали.
– Сомневаюсь, что имя было для него важно. Это была единственная книга в доме, его жена получила ее как приз, когда была маленькой, и он очень ею гордился. А когда жена от него ушла, он каждый вечер держал книгу в руках, делая вид, что читает, ему хотелось читать, но он не умел. Поэтому, думаю, он даже не слушал, а просто лежал, вспоминая, какой она была ребенком, и думая о том, как она читала эту книгу, совсем как я читала тогда, и… вспоминая все…
– Так она от него ушла? Когда? Как?
– Мне было одиннадцать, так что это было лет десять назад, и она ушла за каким-то солдатом на войну.
Барнаби вдруг показался себе дешевкой. Поймав Джилл за руку, он сказал:
– Простите меня.
– Простить? – переспросила Джилл, но руки не отняла.
– Что дурачился все то время, пока вы рассказывали. Умничал. Вставлял остроумные реплики и паясничал, как заправской комик. Мне правда стыдно. Я не думал, что это будет такого рода история.
– Наверное, это моя вина, ведь я рассказала такого рода историю, то есть мы оба дурачились насчет сходства, но когда я начала, то о садовнике даже не помнила, а потом вдруг все вернулось.
– Это я тут извиняюсь, – твердо сказал Барнаби. – Прощен?
Превратившись вдруг в школьницу, Джилл покраснела.
– Я… Я… спасибо вам, то есть да, конечно!
Сжав ей руку, а потом отпустив, Барнаби взял Джилл под локоть и повел ее дальше.
– Посмотрите вот на этих. Они все красивые и не одной масти, как мы.
С приятным шоком удивления он вспомнил, что завтра она принесет ему чай… и послезавтра… и послепослезавтра…
3
Не может быть на свете счастья большего, чем быть наедине с Гумби в своем собственном доме. Так говорила когда-то Сильви, а теперь знала, что это чистая правда. Это был маленький дом на маленькой улочке на окраине Кетерхема, которая ответвилась от улицы побольше с намерением куда-то вести – назад в Кеттерхем, например, или, расхрабрившись, все дальше и дальше к самому морю, но остановилась на полдороге, поскольку (так предполагали) застройщику отказали в кредите, или потому что устала, или потому что решила, что в конце концов большая ошибка слишком удаляться от станции. Домик Сильви стоял последним, можно сказать, на собственном участке из абсолютно любого числа акров – во всяком случае, до гряды холмов, если не считать нескольких великолепных построек, которые, вероятно, были когда-то конюшнями. Право слово, приятнее не придумаешь.
Разумеется, Сильви хотела сама зажигать поутру газовую конфорку, чтобы согреть Гумби воду для бритья, и разумеется, Гумби говорил, что она не должна делать ничего подобного, что она получит завтрак в кровать, как полагается принцессе, и, разумеется, Сильви смеялась своим веселым смехом и говорила, мол, всего делов-то: проскользнуть вниз и зажечь плиту, потому что вставать они будут, конечно же, вместе и вместе завтракать внизу, поэтому какая разница, кто сбегает зажечь плиту?
– Сама наша супружеская жизнь от этого зависит, – торжественно говорил Гумби.
– Ладно, дорогой, будем зажигать по очереди.
– Мы вечно будем забывать, чья сейчас очередь. Нет, каждое утро будем бросать монетку. И чем дольше мы живем, тем справедливее будет, потому что вероятности выравниваются.
Сильви на это со смехом ответила, что они вечно будут забывать брать с собой в кровать пенни, но изобретательный Гумби отмел и это глупое возражение. Поэтому когда приходило время вставать, Сильви обнимала его и говорила: «Готова, дорогой», посмеиваясь про себя, поскольку это была прекрасная шутка, как и все теперь.
– Пятьдесят шесть, – сказал на сей раз Гумби.
– Я загадывала двадцать три, – отозвалась Сильви. – Мне столько было, когда я пришла работать в «Проссерс». Ошибся на тридцать три. Твоя очередь.
– Готов, – сказал Гумби.
– Сорок восемь.
– Восемьдесят два. Столько будет восьмидесятилетнему старику в его следующий день рождения. Я победил.
– Ты уверен?
– С минимальным отрывом. – Поцеловав ее в шею, он сказал: – Вперед!
Сильви выпрыгнула из кровати.
– Поверить не могу, что эти ноги действительно мои, – сонно пробормотал Гумби и потянулся за очками.
– Твои, дорогой, все до последнего дюйма!
По-женски она всегда выбирала число, с которым у нее были личные ассоциации, поэтому жульничать ей было труднее, а ради любимого она обязательно сжульничала бы, пусть даже Гумби заставил ее пообещать, что она не будет: игра ведь не игра, если не играть по правилам. Еще одним весомым фактором в пользу честности была загадочная штука под названием Закон Усредненности, который как будто был на его стороне и набрасывался на нее, если она жульничала снова и снова. И действительно, за каких-то нескольких недель они поняли, что идут голова к голове, разумеется, при условии, что Гумби не проигрывал два предыдущих утра.
В ведро или в непогоду Гумби ездил до станции на велосипеде. Поначалу Сильви ездила с ним, чтобы удостовериться, что он не заблудится или не попадет под машину, но когда понемногу успокоилась, в центр стала приезжать, повесив на руль корзинку, только к открытию магазинов. Учитывая, сколько дел предстояло переделать, никакого дня не хватало, и ни один не тянулся так долго до того момента, когда Гумби вернется домой. Она печатала книгу для одного автора «Проссерса», и ее ждали другие книги, редакция просто завалила ее работой, и, точно этого мало, приходилось управляться не только по хозяйству, но и в саду.
Однажды счастливым воскресным днем, когда Гумби вскапывал грядку для особо привлекательного пакетика семян, который Сильви купила в «Уолворте», а сама Сильви чистила его велосипед как можно ближе к вскапываемой грядке, в дверь дома позвонили.
– Кто бы это мог быть? – удивилась Сильви.
– Пришел герцог Норфолкский, хочет одолжить почтовую марку, – предположил Гумби.
– Надеюсь, он не останется к чаю, ведь пирог мы почти доели. У меня есть черные пятна на лице?
Внимательно изучив милое лицо, он его поцеловал.
– Теперь нет.
И Гумби вернулся к грядке. Сильви же, несколько тревожно глянув на руки, прошла через французское окно в гостиную, а оттуда – в коридор и, быстренько убрав в шкаф пальто и шляпу Гумби, распахнула дверь.
– Ой! – воскликнула она. – Это вы!
– Я, – согласился Барнаби. – Можно мне где-нибудь прилечь?
– Боже, мистер Раш, вы шли пешком от самой станции?
– Пустяки. А вот бродить по всему Суррею было утомительно. Никто про Сикамбо-авеню слыхом не слыхивал.
– Вам следовало бы нас предупредить, и тогда Гумби нарисовал бы вам какую-нибудь карту. Ох, простите! Входите же, как мило с вашей стороны было приехать. Я и не думала, что вы взаправду приедете. Дорогой! – позвала она. – Как по-твоему, кто приехал? Мистер Раш!
Мужчины еще пожимали друг другу руки в гостиной, а Сильви уже убежала с криком:
– Я поставлю чайник! Садитесь, мистер Раш, вот лучшее кресло!
Исчезла она надолго, потому что надо было привести в порядок руки, поджарить тосты, переодеться во что-нибудь менее подходящее велосипедам и собрать поднос, на котором столпились чайный сервиз (от «проссерсов») и настоящие серебряные чайные ложки (от папы Гумби). А поскольку мистеру Рашу полагалось только самое лучшее и поскольку он сам их ей подарил (и хорошо в таком разбирается), переодевание включало также особенные чулки, про которые даже и не заподозришь, что это чулки. Какая удача, что сегодня она побрила ноги, подумав, ну, никогда не знаешь…
– Прошу, не прерывайтесь из-за меня, – сказал Барнаби. – Могу наблюдать за вами отсюда и подбадривать вас криками.
– Даже рад прерваться, – отозвался, надевая пиджак, Гумби. – Хуже нет, чем быть любителем. Работаешь чересчур усердно и слишком быстро устаешь, а потому делаешь слишком мало. Сигарету?
– Спасибо. И марафон превращается в череду спринтерских забегов с долгими передышками в промежутках.
– Ага. Совершенно безнадежно. Вот почему тот, кому нечем заняться, так часто негодует на рабочего человека. Он говорит себе: «Я и за половину времени сделал бы вдвое больше», когда речь идет о десяти минутах праздного времяпрепровождения, которое он тратит на работу, которая занимает весь день. Ну да, за пять минут он мог бы сделать вдвое больше – а потом сесть в такси и поехать куда-нибудь, где на полчаса можно закинуть ноги повыше.
– Однако же, – улыбнулся Барнаби, – я видел рабочих, сидевших, закинув ноги повыше.
– Согласен, лентяи есть в любом ремесле. Но на мой взгляд, в этом причина антагонизма между классами: в ощущении, что если рабочий не спринтом занят, а марафон бежит то он плохо работает.
– Скорее всего вы правы. Об этом я раньше не думал. Но сдается, другая причина, что рабочий по какой-то экстраординарной причине называется рабочим и в результате думает, что только он один и работает.
– Мы-то знаем, что это не так.
– Мы-то знаем, но забываем. Любой аргумент неизменно теряет силу, едва начинаем обобщать. Например, когда говорим «рыжие», подразумеваем при этом людей с рыжеватыми волосами, ростом меньше пяти с половиной фунтов и проживающих в Манчестере.
– Ну и как его тогда называть? Вы же писатель, мистер Раш, подскажите нам слово.
– Вы изобретатель, изобретите его.
– Вы в словах разбираетесь, – сверкнул очками Гумби с вспышкой.
– Немного. Благодаря вам. Сколько раз я проклинал вас с Сильви, что втравили нас в издание энциклопедии.
– Ну так и кто такие пролетарии? О них многое говорят.
– С этим-то я справлюсь. Слово происходит от «proles», что на латыни означает «потомство». Это был низший класс в Древнем Риме, не имевший собственности, поэтому единственную пользу государству мог приносить своими детьми. Людской силой, пушечным – точнее, копейным – мясом.
– Ну и точка зрения! Вам не приходило в голову, сколько там было обид?
– А вы разве не так на дело смотрите? По-вашему выходит, что рабочие руки, а вовсе не отдельный индивидуум, работающий головой, – основа государства и имеет наибольшие на него права.
– Надо бы разузнать побольше про римлян. Наверное, про них не только на латыни написано? – помолчав немного, сказал Гумби.
– Конечно. Мне только сейчас пришло в голову, что мы сколько-то вам должны за идею «Еще вопросы есть». Можно мне прислать пару книг про Древний Рим? Они как раз в духе «Проссерса».
Когда Сильви крикнула «Дверь, дорогой» и вошла с подносом, прекрасно было видеть, как они так заинтересованы друг другом, как им комфортно вместе. Гумби любому ровня, подумала она, даже мистеру Рашу. Это было счастливое чаепитие, и даже когда они с мистером Рашем заговорили про издательство – ведь как же иначе, как она могла не разузнать все про всех? – Гумби и виду не подал, если чувствовал себя в разговоре лишним.
– А как дела у мисс Морфрей? Она готовит чай, как вы любите?
– Благодаря вам, Сильви. Великолепно.
– И она подходит мистеру Стейнеру?
– Как будто да.
– Она милая, знаете ли, мистер Раш.
– О, мы большие друзья. – И он добавил, поскольку ему доставляло огромное удовольствие произносить это вслух: – На днях мы ходили в зоопарк.
И тут же об этом пожалел, поскольку это как будто относило Джилл в категорию товарищей по зоопарку, к которой Сильви никогда не принадлежала. Но Сильви, которая всегда знала, что мисс Морфрей «другая», была последним человеком, который обиделся бы. Будь она сама другой, она не повстречала бы Гумби.
– Линн то и дело задумывается, как вы все там и как вам удается без нее обходиться.
– Если бы это было правдой! – воскликнула Сильви. – То есть глупо думать, что вы не можете без меня обойтись. Но мне, конечно, приятно послушать новости. Да не будь «Проссерса», я никогда бы не познакомилась с Гумби.
Она посмотрела на мужа, а он посмотрел в ответ, и Барнаби почудилось, что они говорят на языке, который он пока не освоил.
– А как вы познакомились? – Он перевел взгляд с одной на другого. – Нельзя же так заинтриговать и бросить на полуслове.
– Ты не против, дорогой? – По всей очевидности, Гумби был не против, поскольку Линн продолжила: – Гумби собирался погулять с одной своей приятельницей в Ботаническом саду, дело было в субботу, и он принес ленч на двоих, а мистер Стейнер попросил меня по пути домой занести очень важную посылку на Риджент-парк, ну мне это было не совсем по пути, – она рассмеялась нелепости просьбы, – и конечно, я сказала, что прихвачу посылку, поэтому ушла, даже не съев ленч, и издали цветы казались такими красивыми, а мне вечно говорят, какие они чудесные, поэтому я зашла в сад, а там Гумби расхаживал взад-вперед перед входом в розарий, и в руках у него пакет с ленчем, а сам он – одинешенек, потому что его приятельница не объявилась.
– Больше чем просто приятельница, – вставил Гумби.
– Да, понимаете, его девушка… И она не пришла! Мы разговорились о том, какие чудесные тут розы, и он сказал, что у него с собой ленч, но к нему не пришли, только он дал мне понять, что это мужчина не пришел… Правда, дорогой? Так что у нас был ленч.
– А как же… та девушка? Она опоздала или просто не пришла?
– Она уже на час опаздывала, когда я увидел Линн, – объяснил Гумби. – На ленч мы устроились в другой части сада, поэтому я не видел, пришла ли она. На самом деле я вообще с тех пор ее не видел.
– Гумби решил, что я ему больше нравлюсь, – гордо сказала Сильви.
– Я не решал, – отозвался Гумби, – я просто понял, каким дураком был в первый раз, но не во второй.
– Как Ромео, – вставил Барнаби.
– Ромео? – удивленно переспросила Сильви. – Но я думала, Ромео и Джульетта…
– Даже Ромео поначалу думал, что любит другую.
– А я и не знала! А потом он встретил Джульетту и…
– И Розалин перестала существовать.
– О, милый! – сказала Сильви Гумби, а потом повернулась к Барнаби: – Как приятно это знать. – И засмеялась вместе с ними над самой собой и над своей дурашливостью. – Правда, приятно!
4
Он не против пойти на станцию пешком или предпочтет взять велосипед Гумби, а Гумби поедет на ее и вернется с двумя, он на такое мастак, нет почти ничего, чего бы он не сумел на велосипеде.
– Одна нога в каждом седле? – улыбнулся Барнаби.
– Наверное. Ты ведь сможешь, милый?
– Только не в горку, – отозвался Гумби.
В результате на станцию пошли пешком все вместе. В домиках вспыхивали огоньки – в каждом молодожены, в каждом – кто-то, кому можно махать по утрам на прощание и к кому возвращаться по вечерам. Когда поезд тронулся, Барнаби еще купался в отраженном свете уютного счастья – счастья, с которым повстречался сегодня, а на смену ему пришла тихая грусть от того, что упускает что-то, что могло бы принадлежать ему. «Я живу ресторанной болтовней, – думал он, – питаюсь ресторанной любовью, которая оборачивается не завершением дня, а его целью. О Боже, какая пустая, тщетная у меня жизнь! Просто существование с развешанной тут и там мишурой, чтобы казалось, будто оно что-то стоит. И что мне теперь делать? Что мне остается? Наверное, завести детей и надеяться, что их жизнь будет не столь тщетной. Ну, это-то я смог бы. Если бы…»
– Не удивлюсь, если он женится на мисс Морфрей, – сказала Сильви, когда они шли в горку. – Всегда можно определить. Она милая.
– Я думал, он любит другую девушку.
– Любил, мистер Ромео Гумберсон, любил. – Она сжала его локоть. – Теперь давай угадаем, сколько шагов до дому, мы еще никогда не угадывали с этого места. Семьсот?
– Тысяча двести восемьдесят шесть, – твердо ответил Гумби.
– Ладно, мистер Всезнайка. Тысяча двести восемьдесят шесть. Поцелуй меня и начнем. Чур, я считаю первые сто.
Они остановились, и он ее обнял.
– Вот это поцелуй! – охнула Сильви. – Думаю, мы никогда… Кажется, мы никогда… А теперь начинаю считать.
Глава XVIII
1
Поразительная новость, что тетя Эсси выходит замуж, возникла на периферии сознания Перси и так же быстро канула в небытие, но сколько-нибудь прочно в нем угнездилась лишь несколько дней. Разумеется, ему рассказали первому (после Хлои), поскольку он был ближайшим родственником и на него самого это повлияет в финансовом плане. Но все это было так странно и не по-английски, что он считал, что за случившимся кроется некий неведомый пока замысел. Когда Перси сообразил, что человек возраста Уинга, который играл за Эссекс и – заметьте! – к тому же священник, и дама вроде тети Эсси, практически мать Перси, не женятся в девяносто лет забавы ради, и отверг первую свою мысль, что Хлоя устроила помолвку, лишь бы испортить Мейзи уик-энд, ответ ему пришлось поискать в другом месте. Очевидно, все дело в деньгах. Лучшее, что он смог придумать, что кто-то из стариков надеется тем самым уклониться от налога на наследство или еще что.
Истинное объяснение он нашел позднее, когда мисс Уолш предложила передать свой дом ему с Мейзи.
– Ужасно благородно со стороны тетушки, – сказал Перси, – и многое объясняет. Как насчет этого, старушка? Может, поселимся там, раз тетя Эсси разрешает?
– Дорогой, – встревожилась Мейзи, – мы же в Лондоне живем, правда? Ну в самом же деле! Из-за твоей работы.
– В том-то и суть. Есть на продажу один дом в Уокинге, так уж вышло, довольно близко от старины Джорджа, и рядом чертовски удачная станция, и коротко говоря, старина Джордж, то есть Джордж Чейтер, я тебе про него рассказывал…
– Да, дорогой.
– Ну, он знает большинство директоров, и если выйдет, что случайно забросишь ноги повыше в некурящем, и если какой-нибудь пацифист поднимет бучу, ну, служащие там вообще чертовски вежливы… Вот к чему сводится, старушка: Уокинг от Лондона в двух шагах, да и старина Джордж Чейтер живет практически за углом, можно тот дом купить или сохранить лондонскую квартиру и ездить в дом тети Эсси на выходные, будем играть на бильярде с Бобом Перрименом в Холле.
– А ты бы что предпочел, дорогой?
– Как я посмотрю, дело обстоит так. Когда рос в деревне ребенком и пособлял время от времени чинить водопровод чуть ли не в каждом доме, не говоря уже про холодильник в «Фокс энд Грейпс», а это, скажу я тебе, прямо-таки взлом был и я там первоклассно отмычкой поорудовал, в общем и целом начинаешь чувствовать себя там своим, вроде как привыкаешь и вообще.
– Ах, как верно, дорогой! – согласилась Мейзи, которая не прониклась сходным чувством к старине Джорджу.
– Так, по-твоему, стоит избавить тетю Эсси от хлопот по Бриджлендсу?
Мейзи определенно так считала. А поскольку теперь стало ясно, что тетя Эсси выходит на старости лет за старину Уинга только для того, чтобы подарить Перси и Мейзи дом, приятно было думать, что ее самопожертвование не пропадет даром.
С тех пор как она пообещала выйти замуж за Альфреда, мисс Уолш преследовал один и тот же сон. Она вступала в ту пору жизни, когда временами трудно отличить собственно сон от полудремы, которая ему предшествует и которая за ним следует, и мысли, за которые она в полной мере может отвечать, от тех, которые приходят на ум бессвязно и непрошено. Поэтому ей иногда трудно бывало с уверенностью сказать, приснилось ли ей то-то и то-то или она по какой-то причуде себе это вообразила, а может, это и в самом деле имело место, только затерялось в дальнем уголке памяти. Возможно, преследовал ее вовсе не сон, а нечто, чего она позволила себе бояться, нечто, что началось в ее сознании как шутка и понемногу становилось все более реальным и пугающим. Им бы следовало расписаться в Бюро записи актов гражданского состояния в Лондоне… Так глупо выставлять себя напоказ в церкви перед всеми соседями, но тогда Альфред ни за что бы не поверил, что их соединил Господь. Поэтому ему придется самому выступить в церкви с оглашением собственного брака. Ему придется встать перед всеми и сказать: «Оглашаю бракосочетание между…» – и все разом навострят уши… кто бы то мог быть? – «между Альфредом Джоном Уингхэмптоном и…» – с задних скамей раздастся протяжный удивленный свист – фью! – «и Эсмеральдой Уолш», – свист станет еще громче и еще протяжнее, а потом – ужасающее и губительное, но совершенно непроизвольное: «Боже ты мой!» Нет, ей этого не вынести.
– Поэтому, понимаете, – объясняла она Хлое, – я трусливая старуха, и я на три недели уехала в Лондон, и вот я тут. Скажите, что не думаете обо мне слишком дурно.
– Вы же все равно собирались в Лондон за платьями, дорогая, верно? – переспросила Хлоя.
– Конечно, – согласно закивала Эсси. – Как глупо с моей стороны. Я знала, что у меня была причина сбежать.
– Что вы сказали Альфреду?
– Что мне надо повидаться с поверенным. И я с ним, конечно, повидаюсь. Я не стала бы лгать Альфреду.
– И свадьба двадцать седьмого. Мы будем очень заняты, дорогая, времени у нас немного. А теперь скажите, куда вы едете в свадебное путешествие?
– Альфред подумывал о Святой земле, но вместо этого мы остановились на доме пастора. Нет, сначала мы проведем четыре дня у моря в Торки, а остальной медовый месяц отложим до весны, до поры настоящих отпусков. Хлоя, дорогая, вы никогда не задумывались о том, какие глупости мы иногда говорим, сами того не замечая?
– Если бы я над ними задумывалась, дорогая, ни слова бы не произнесла.
– Взять, например, Святую землю. Когда Альфред про нее заговорил, прозвучало как вполне реальное место, но если несколько раз повторить про себя «Я еду в Святую землю», звучит очень и очень странно. И есть еще Закон Божий. Помнится, Перси, когда был совсем маленьким, получал в школе отметки по предмету под названием Закон Божий…
– Вы уверены?
– О да, он даже приз за Закон Божий получил. Но как можно называть зубрежку иудейской истории Законом Божьим? Диковинно как-то..
– Надо бы подучить Закон Божий, – пробормотала Хлоя. – Действительно, бред какой-то.
– И подумайте про то, как в книжках ставят крестик с указанием даты. И все оттого, что придумали отсчитывать годы от Рождества Христова и потому что он умер на кресте. А если бы его ломали на колесе, как могло бы случиться, родись он англичанином, в книжках кружок бы ставили? Чудовищно вульгарно, вы не находите? Такое оскорбление. Хлоя, дорогая, мне в голову приходят престранные мысли, наверное, потому, что я собираюсь замуж за священника.
– Альфред очень широких взглядов. Он не будет требовать, чтобы вы с ним во всем соглашались. И почему это я вам такое говорю, Эсси? Вы знаете его в сто раз лучше меня.
– Как раз это меня скорее пугает. Я очень боюсь, что натолкну его на мысли, которым в его голове не место. Или, что еще хуже, обнаружу, что они всегда там были и их приходилось прятать.
– Нельзя столько лет быть священником, дорогая, не зная всех ответов.
– Пожалуй, нельзя. – Мисс Уолш немного помолчала. Потом сказала, встряхнувшись: – А теперь я расскажу вам, какое платье хочу, и вам тоже будет о чем подумать.
– Идемте ко мне в спальню, – сказала, вставая, Хлоя. – Там самое место обсуждать наряды.
Мисс Уолш сочеталась браком в конце октября, ибо почему должны ждать те, кто уже ждал так долго?.. Она вышла замуж в шляпке и с одной подружкой, Хлоей, а поскольку все современники Альфреда были теперь престарелыми отцами семейств, шафером жениха выступал Перси. Уж он-то в таких делах разбирался, поскольку был несколько лет назад шафером одного своего друга по фамилии Чейтер. Джордж Чейтер. После он развлекал гостей множеством увлекательных историй о том событии.
2
Миссис Уингхэмптон была счастлива. Она была замужем за Альфредом уже четыре месяца, и временами ей казалось, что она жила с ним в доме священника все сорок лет, что он служил в этом приходе. Глупо было с ее стороны столько лет оставаться старой девой, когда по характеру она не старая дева. Будь у нее хоть капля ума, она сделала бы Альфреду предложение пятнадцать лет назад. Пятнадцать лет! Да она тогда могла бы родить собственного ребенка, или это было бы опасно? И получилась ли бы из нее хорошая мать? Она решила, что матерью была бы посредственной и что вообще все лучше так, как есть.
А «как есть» было чудо как хорошо. Теперь она понимала, что в замужней жизни ее пугала не физическая, а интеллектуальная близость. Альфред всегда был с ней так очарователен, так галантен и так – какое чудесное в наши дни слово! – старомоден. Неспешная тщательность речи, то, как он воздавал должное ей и себе самому своим чувством стиля, придавали аромата их беседам, который она страшилась утратить. Обыденные фразы и семейные шутки, которые так естественно возникают из близости, небрежно брошенные «милый» и «дорогая», мысли, которые предвосхищаются так легко, что достаточно первых слов, – их лавина могла погрести под собой интеллектуала и джентльмена, которого она любила…
Ей нечего было бояться. Альфред оставался прежним обходительным Альфредом. И не намечалось вероятности, что он превратиться в Альфа.
Но, как она намекнула Хлое, чуть ли не пропасть разверзлась между мисс Уолш, которая с доброжелательной рассеянностью внимала по воскресеньям привычному голосу и которая вольна была бродить мыслями от Бога к саду и от сада к шляпке миссис Перримен, и миссис Уингхэмптон, принимающей непосредственное участие в проповедях мужа, играя одновременно роль и помощницы пастора, которая мысленно стоит рядом с ним на кафедре, и прихожанки, которая его критикует. Она ловила себя на мысли: «О, Альфред, не можешь же ты в это верить!», или «Альфред, дорогой, посмотри! Вон сынишка Стрэттонов, он только что из Кембриджа. Он вообще бы не пришел, но не хотел расстраивать мать. Что, по-твоему, он думает, когда ты уворачиваешься от собственных доводов? Он говорит про себя: «Все священники одинаковы». Он очень умен. Ты непременно должен это помнить». А потом: «Альфред, милый! Дочка Койнерсов! Сразу за мной. Ты ведь про нее знаешь, верно? Отец ужасно ее бил, и его посадили в тюрьму. Она приехала жить у тети, помнишь? Ни в коем случае не говори ей, что Бог нам совсем как отец». Иногда она виновато оглядывалась по сторонам, опасаясь, раз столь настоятельны были ее мысли – она выкрикивает их вслух.
Она задумывалась, все ли жены священников переживают подобное, а потом вспоминала, что отличается от прочих жен священников, ведь те не жили многие годы одни и у них не было стольких лет, чтобы думать. У священников, наверное, все по-другому, рассуждала она теперь. Они приносят обеты двадцать лет – либо потому, что того требуют отцы и они должны как-то зарабатывать на жизнь, либо (как она надеялась, гораздо чаще) потому, что пылко верят во все, чему их учили в детстве, и снедаемы горячим желанием рассказать миру про вселюбящего Бога. Или, Господи ты Боже, сколь многие из нас верили в человечество в двадцать лет и утратили эту веру к сорока! Сколь многие из нас меняют свои убеждения по мере того, как мы взрослеем, набираемся опыта, думаем и учимся? Сколькие, бывшие в двадцать лет либералами, к сорока стали консерваторами, а бывшие консерваторами – либералами? Сколь часто пылкие чувства к актеру или актрисе, поэту или композитору, к герою вообще казались впоследствии глупыми! Сколько молодых людей, воспитанных в религиозных семьях, утратили веру! Но священникам нельзя терять свою веру мальчишеских дней, нельзя менять юношеских убеждений, нельзя каяться в былой любви. Что они думали и что чувствовали в двадцать лет, они должны думать и чувствовать до конца жизни.
«Нельзя сорок лет быть священником, не зная всех ответов», – сказала Хлоя. Сможет ли она однажды поговорить об этом с Альфредом, не разбередив рану, не потревожив его убеждений? В том-то и смысл… действительно ли это вера и убеждения?
«Я с ним поговорю, – решила она. – Нельзя загонять себя в колею, думая, будто мы не можем говорить обо всем».
Произошло это однажды воскресным вечером после ужина. Альфред вытянул длинные ноги к потрескивающим поленьям в камине, вздохнул от счастливой усталости и сказал, набивая трубку:
– Хотя мы сидим каждый по свою сторону камина, сама мысль, что мне не придется через несколько минут взглянуть на часы и задуматься, куда это я зашвырнул свою шляпу, все еще способна сбить меня с толку. Не скажу, что происходящее слишком хорошо, чтобы быть правдой, ибо «хорошо» есть универсальная истина, остается место для сомнения, достаточно ли я хорош, чтобы это было правдой.
А Эсси, приподняв уголки губ, ответила:
– Я не назвала бы тебя по-настоящему дурным человеком, Альфред.
– Очень стараюсь быть иным, моя дорогая, и надеюсь, что эти старания не ускользнут от внимания моих прихожан.
– Альфред, тебя когда-нибудь посещали сомнения в истинности того, что ты проповедуешь? – вскользь спросила Эсси, не отрывая глаз от вязанья, точно как раз оно больше всего ее интересовало.
– Часто, моя милая, часто.
– А что бывает, если священник начинает сомневаться по-настоящему?
– Я бы сказал, у него три пути. Во-первых, он может отказаться от сана и прихода, что станет тяжким ударом для его семьи, если он человек женатый. Во-вторых, он может говорить себе, что сомнения в нем поселил дьявол и что их следует изгнать. Дьявола он может одолеть при помощи собственных или заимствованных аргументов или может попытаться от него убежать, говоря себе, что его разум слишком слаб, чтобы утруждать его вопросами веры. Иными словами, он перестает думать.
Тут стало казаться, что пастор закончил, но Эсси молча ждала, а потом мягко спросила: