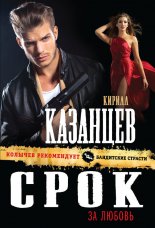Учебник рисования Кантор Максим

- Значит, не возьмешь?
- Еще чего.
- Темный ты мужик. Ну, тогда акции купи. Советую.
- Какие еще акции?
- Вот, полюбуйся, - Сникерс показал узкие бумажные полоски с синими печатями, - вот акции фабрики «Красный Октябрь», приобретешь такую бумажку - и будешь совладельцем фабрики.
- А на кой?
- Фабрика получает прибыль и делит ее между акционерами. Сидишь ты, допустим, дома, а тебе денежки на счет капают.
- А вдруг - не капают?
- Ты что? Это же - акция!
- И сколько таких бумажек настригли?
- Дурак ты, Кузнецов. Настригли! Серьезное дело. Капитализм, это тебе не Советский Союз - тут думать надо. Ну, как, возьмешь акции?
- На кой мне твои акции?
- Дурак ты. Я бы с тебя по дружбе недорого взял. Совсем маркетинга не понимаешь.
- Мне получки хватает, - сказал Кузнецов.
- Ну и сиди со своей получкой. Мозгами шевелить лень. Мир сейчас такой, что думать надо. Сюда пришел, одну схему придумал. В другое место пришел - другую схему. Крутиться надо. Маркетинг!
- И какой ты здесь маркетинг делаешь? - спросил Кузнецов.
Сникерс объяснил, что он изучает возможности прироста прибыли в данной отрасли. Сектор массажных салонов сталкивается с простой, но ощутимой проблемой: девушки везде приблизительно одинаковые, их анатомия довольно однообразна, цены на их услуги сходные, и, таким образом, непонятно, как привлечь внимание именно к данному салону. Доход предприятия в прямой зависимости от посещаемости, которая, увы, - непредсказуема. Позиция для бизнеса шаткая. Снизить цену - значит а) нажить врагов и б) снизить прибыль. Нет, демпинг - это не путь. Требуется провести рекламную акцию, которая, не снижая цены услуг, даст прирост посещаемости. Как быть? Предложение Сникерса состоит в следующем: надо давать клиентам бонус своего рода премию. Например, если клиент посетил девушку два раза в неделю, то в субботу он может посетить ее бесплатно. Эта привлекательно для клиента, дает ему ощущение не зря потраченных денег, а салон имеет возможность даже несколько поднять цену за час ведь клиенту все равно выгодно. Попутно возникает атмосфера домашнего уюта: клиент приходит на любовное свидание с подругой, а не участвует в коммерческой сделке. Что же касается девушки, то сверхурочная работа должна ею рассматриваться как субботник - т. е. бесплатная работа на благо заведения, которое ее кормит. Нынешняя неделя будет показательной. У людей будет стимул, сказал Сникерс, трахнуть девку два раза в неделю, потому что в субботу дадут третий раз бесплатно. Понял стратегию? Всякий пойдет, если на халяву. Вот ты, например, пошел бы?
- Мне не надо, - сказал Кузнецов.
- Дурак ты, Кузнецов. Этого тебе не надо, того не надо. Арт-объектов не надо, акций не надо. И бабу на халяву отыметь - тоже не надо?
- Мне - зачем?
- Если бы все, как ты, рассуждали, - сказал Сникерс, - прогресса бы не было. Пассивный ты человек. Социализм тебя испортил: все на готовом, думать не надо. Нация рабов, - Сникерс сплюнул. - Снизу доверху, если хочешь знать мое мнение, все рабы. А время такое, что шевелиться надо. Гляди, как умные люди себя ведут. Активно, не то что ты.
X
И действительно, люди вели себя активно. Холл массажного салона заполнялся веселыми господами, смех и визги наполнили пространство. Изредка смех сменялся истеричными претензиями девушек: иные из них не соглашались работать бесплатно.
Молдаванке Ларисе, шумной девушке с толстой попой, Валера Пияшев сказал так:
- Тебя, Лорка, наша маркетинговая политика не устраивает? Хорошо. Много об себе понимаешь? Хорошо. Собирай манатки и вали отсюда к чертям. Самостоятельно хочешь жить? Иди ищи на свою толстую попу приключений. Только должок верни сначала - восемьсот баксов. Как за что? За все. Интерьер кто здесь строил, как считаешь? На кафель я сколько денег грохнул, ты подумала? Итальянский кафель - не заметила? Давай, расплачивайся. Ах, не можешь? Тогда - марш в койку. Ишь, развела здесь тред-юнионизм, паскуда! - он договорил эту тираду и повернулся к Анжелике, которая кричала:
- Не дам я бесплатно! Нашли дупло, ага! Если бы так только - потыкать туда-сюда. Ему ведь надо меня крутить, пока плакать не стану. Не хочу!
- Как бабки в наволочку откладывать, так хочешь! - крикнул Пияшев в ответ, и скулы его порозовели от гнева. - Как шампанское лакать задарма, так это с дорогой душой! А за всех Валера отдувайся!
- Я же не отказываюсь, я говорю только, что вот ему - не дам. Не дам уроду.
- Что за люди, ну что за люди! Все под себя гребут. Саня, - сказал Пияшев Кузнецову, - проводи барышню. Успокой и в койку уложи. Устроили мне здесь! И так голова кругом идет, - он тронул висок - Везет же некоторым. Ведь работают люди на спокойных местах. Кто-то вот нефть продает, а кто-то вообще фотографии. Тихие бывают профессии. Стоматолог, например. А здесь рехнешься. Поработай с таким матерьялом, голова-то закружится. Еще говорят, кафель меняй. Кафеля мне как раз не хватает.
- Да болит у меня все! Болит там, понимаешь!
- Подумаешь, болит. У меня, знаешь, как голова болит. Терплю, не жалуюсь.
- И грудь болит. Он соски крутит.
- Так шла бы колбасой торговать, если такая нежная! Дояркой иди работай, коров за вымя тягай! Свое вымя подставлять не хочешь - иди корову доить.
- Ты мне заплати, так я потерплю!
- Последний раз тебе говорю: лезь в койку - и жди.
- Ага! Жди! Бесплатно не дам!
- Дашь - и спасибо скажешь.
XI
Кузнецов увел плачущую Анжелику, и через полчаса дверь в ее комнату открылась, и на пороге появился Петр Труффальдино, низенький культуролог с лицом тухлой рыбы. Глаза тухлой рыбы озорно блестели. Однако то, что увидел культуролог в знакомой комнате, ему не понравилось. На кровати девушки сидел костлявый человек с бескровным лицом. Огромные руки его лежали без употребления на коленях. Человек повернул бескровное лицо к Труффальдино.
- Вы ко мне? - спросил Кузнецов, вставая. Страшные руки его двинулись вперед, и Труффальдино шарахнулся в сторону. Кузнецов сделал шаг.
- Вы с ума сошли, вы с ума сошли, - забормотал Труффальдино и попятился, - я сейчас охрану позову. Сейчас крикну. Вот сейчас закричу.
- Дурак. Я и есть охрана.
- А я милицию вызову.
- Ори громче.
Руки Кузнецова легли на Труффальдинино горло, и сознание культуролога помутилось.
- Ты успокойся, - сказал ему Кузнецов, - не надо скандала. Успокойся, или я тебя задавлю. Ты сядь. Подыши. Сколько я тебе должен?
Труффальдино смотрел на него и ничего не понимал.
- Я не платил сегодня, - прошептал он, - сегодня для постоянных клиентов бесплатно. Бонус у меня.
- Вот и я говорю, - сказал Кузнецов терпеливо, - сколько я тебе должен? Чтобы в порядке маркетинга вышло. Чтобы вам всю торговлю не сорвать. Ну, прикинь и скажи.
Труффальдино вздрагивал и ничего не отвечал. Он был сильно испуган.
- Я что говорю, - терпеливо сказал Кузнецов, - я тебе твой бонус верну. Чтобы без скандала. Ты понял? Тебе ведь премию дали? Так? Значит, вроде как бесплатный визит, так? Ну, вроде тебе стольник фирма дарит обратно, так? Просто не деньгами, а натурой. Ну вот. Тебе же без разницы: или натурой, или деньгами подарки брать, верно?
Труффальдино ничего не говорил, но выразительно смотрел большими красивыми глазами.
- Я тебе деньгами отдам. Тебе фирма подарок дарит, так? - Кузнецов говорил терпеливо, чтобы испуганный человек успокоился и понял и не стал жаловаться, - я хочу без скандала. Так? Тебе же все равно, как приз получать - так вот тебе твой стольник. Твой визит стольник стоит, правильно? По маркетингу? Твои бабки назад отдаем. Вот держи. Кладу тебе сто баксов в карман.
И Кузнецов достал сто долларов, сложил вдвое стодолларовую бумажку и положил ее в нагрудный карман приталенного пиджака Труффальдино.
- И газетку твою кладу, почитаешь, - Кузнецов сложил вчетверо «Русскую мысль» и засунул Труффальдино в боковой карман. - Запомни: вот тут у тебя газета. А деньги я тебе положил сюда. Сто баксов.
И тогда Петр Труффальдино разлепил пересохшие губы и сказал:
- Я обычно на визит трачу двести.
21
Картина (в том понимании, которое мы наследуем от Возрождения) называется картиной именно потому, что являет собой полную и совершенную картину мира. От имприматуры до финальной лессировки создает художник ее столь же тщательно, как Господь создавал мир. Художник распределяет в ней тень и свет, предметы и воздух, тепло и холод. Художник населяет ее страстями и усилиями - как тщетными, так и прекрасными. Художник наделяет ее памятью, ибо что такое как не память - преемственность и традиция, без коих невозможна картина. Художник открывает в ней героев, их лица и руки, их взгляды и немоту, их любовь и бесстрашие. Картина не может быть ироничной или пародийной (как не может быть иронией или пародией созданный Богом мир) - ибо она сущностна и с предельной серьезностью отвечает за все то, что воплотила. Этим она и отличается от любого иного плода человеческой деятельности, объявленного искусством (т. е. от абстракции, объекта поп-арта, перформанса, инсталляции и прочего, - то есть от тех занятий, что демонстрируют зрителю лишь фрагменты бытия).
Нельзя сказать, что абстрактных пятен в природе не существует; они, вне всяких сомнений, есть в узорах калейдоскопа, в ряби на воде, в игре света на стене. Известно, что Дега (усмотревший уже в пейзажах импрессионистов отход от картины и общего замысла) полагал, что для создания импрессионистического пейзажа достаточно пропитать краской губку и бросить ее о стену. Великолепный пример абстрактной живописи, достойный кисти Кандинского, показывает фрагмент «Тайной вечери» Андрео дель Кастаньо, изображающий разводы и прожилки камня на мраморной стене поверх головы Иуды. Иными словами, абстрактное столкновение цветов и пятен - феномен, природе и разуму известный, но лишь усилием сознания можно вычленить этот фрагмент бытия из целого и придать ему значение целого. То же самое касается объектов поп-арта, или перформансов, или иных выражений свободного художественного духа.
Применять прием абстрактной живописи для достижения нужного эффекта не зазорно. Так, Пизанелло задолго до Эдгара Дега освоил прием бросания губки в стену. Отчаявшись написать пену на губах у собаки, метнул пропитанную краской губку в нарисованного пса - и случайные брызги дали нужный эффект. Включать перформанс в художественный процесс возможно: что, как не большой перформанс, устроил некогда Боттичелли, сжигая свои великие холсты в кострах Суеты? И в использовании инсталляции нет греха, как нет в этом и новаторства: что, как не инсталляцию, являла собой площадь Синьории, небо над которой затягивали холстами с нарисованными светилами и звездами, пока самое пространство площади было занято скульптурами Микеланджело и Донателло? Ни один из вышеуказанных приемов ничем не плох, более того - любой из этих приемов присущ искусству.
Грех состоит лишь в том, чтобы подменить фрагментом бытия само бытие, всю полноту его. Грешно было бы объявить часть - целым и лишить мир тем самым смысла и цели. Разнообразные житейские обстоятельства будут вынуждать вас к подобной уступке: всегда соблазнительно обозначить малое свое достижение и незначительное знание как целую картину мира. Всегда соблазнительно будет обозначить неумение как сверхумение, недуманье как особого рода думанье и моральную неполноценность как специальную мораль. Вам часто будет казаться, что возможно поступиться общей картиной - ради сиюминутной выразительности; вы захотите именовать такую выразительность самовыражением и будете связывать это с представлением о личной свободе. Надлежит помнить, что подобная уступка есть уступка небытию.
Однако до той поры, пока существует живопись, до той поры, пока хоть одна картина свидетельствует усилиями своими о всей полноте бытия, история и смысл защищены надежно - и торжества небытия не наступит никогда.
Глава двадцать первая
ТОТАЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
I
Я вспоминаю беседу профессора Татарникова с протоиереем Николаем Павлиновым, в которой Татарников коснулся истории святого Бернардино Сиенского. Сергей Ильич, в частности, рассказал своему религиозному другу о том, как Бернардино попытался стать отшельником, и у него это не получилось. Аскеза не далась святому - даже воздержание, как оказалось, имеет границы: Бернардино не смог справиться с поеданием листьев салата, не сдобренных оливковым маслом. Святой попытался прожевать сухие салатные листья, у него не получилось, он салат выплюнул и решил аскетом и отшельником не становиться.
- Как это верно, Сереженька, - восхитился отец Николай, обнаружив сокрытого в далеких веках единомышленника, - я тебе больше скажу: и не со всяким маслом салат хорош. Надо, чтобы масло очищенное было, прозрачное, как вода, иначе салат можно только испортить. Полагаю, если бы святому Бернардино заправили салат маслом из подольского супермаркета, он бы его тоже выплюнул. Салат приготовить - целое искусство! Особенно если это руккола, - в этом месте беседы глаза протоиерея засверкали огнем и чело его прорезала морщина, зигзагом напоминающая молнию. - Разве рукколе достаточно, если ее польют маслом? Нет, надобно и лимон выжать, хорошо бы и пармезанского сыру покрошить. Заставь ты меня есть рукколу без лимона, оливкового масла, уксуса и пармезана - конечно, я выплюну. Ничто в этом мире, - отец Николай поднял палец назидательно, - не существует обособленно. Всякое явление поддержано другим явлением - и в этом мудрость и промысел небесный. В прошлую пятницу у Дики (знаешь Дики? Ну как же, президент «Бритиш Петролеум», наш, абсолютно наш человек, почему ты к нему не ходишь по пятницам - не понимаю!) подали фаршированную баранью голову - и (ты мне не поверишь!) с руссильонским розовым. Да знаешь ты, знаешь это вино - руссильонские, они всегда с горчинкой, пряные вина. Думаю, их неплохо с куриной грудкой подавать, с тушеными овощами можно попробовать. Но баранина! Я-то промолчал, решил про себя: перетерплю, не сахарный, но сам Дики, как увидел, что его повар делает, - за голову схватился. Благо, в Москве теперь любое вино достать можно - послали шофера за бургундским. Я бы лично выбрал Риоху: к густой бараньей подливке, полагаю, темная Гран Резерва сама просится, - и отец Павлинов углубился в воспоминания.
Сергей Ильич выслушал сентенцию отца Николая и, решив не продолжать жизнеописание св. Бернардино, сменил тему. Про Бернардино он мог рассказать многое, но, человек деликатный, вовремя почувствовал, когда надо остановиться. Не рассказывать же о том, что у Бернардино не было дома, и жизнь он провел в скитаниях.
Я же в истории Сергея Ильича и в реплике отца Николая услышал отголосок своих собственных мыслей - не связанные с гастрономией и житиями святых. Я думал о том, что если современный мир отверг живопись (в привычной форме ее существования - картине, которая определяла искусство ушедших времен), если он живопись отбросил, как ненужный атрибут культуры, значит, на то были веские основания - большие, нежели перемена моды. Не следует, думал я, возмущаться тем, что мир живопись выплюнул, но надо понять, каких ингредиентов (масла, лимона, пармезана) не хватило для того, чтобы мир живопись принял. Ведь каждое время, думал я, создает свой собственный набор ценностей: надо лишь внимательнее приглядеться к тому, что ценно в этом мире сегодня, и поймешь тогда, какое искусство мир алчет. Покажите отцу Павлинову пять-шесть ингредиентов, и он немедленно скажет, какое блюдо из них готовить, какого ингредиента не хватает и с каким вином это следует употребить. Поглядите на экономику, науку, военную промышленность, политику современности - и вы поймете, какое искусство к этому набору надо подать. Пусть меня задевает то, что они называют изобразительным искусством нечто, не связанное с изображением, думал я. Что с того? Многие понятия наполнились совершенно иным смыслом - не только изобразительное искусство. Разве не то же самое происходит в экономике? Разве в социальной жизни происходит иначе? Ждали, например, что интернациональная идея объединит рабочих, а она объединила капиталистов: пятым интернационалом явился интернационал богатых - вот парадокс развития капитала, не предусмотренный черным сыном Трира. Современный мир наполнил ветхие меха молодым вином, и привычные слова стали обозначать нечто прямо противоположное их первоначальному смыслу.
И нужна ли лучшая иллюстрация для этой догмы, нежели сегодняшняя Москва. Ах, Москва, сердце беспощадной политической диктатуры, город, сквозь который гнали пленных немцев и который на рассветах бороздили черные воронки чекистов, - где твоя грозная стать? Мнилось твоим фанатичным правителям, что этот город станет центром суда над историей, местом, где прозвучит приговор капиталу, а теперь это одно из многих мест, где богачи чувствуют себя безнаказанно. Теперь Москва сделалась Меккой богатых людей, местом, где удобно пустить в оборот уворованное, где прилично и со вкусом можно посидеть в ресторане, найти подходящий под любую фантазию ночной клуб и выбрать достойные пополнения для изысканного гардероба. Что русские богачи, не только они одни, но и весьма обеспеченные иностранцы теперь предпочитают жить в Москве - где еще такая качественная белая прислуга, интеллектуальное общение, икра и нефть? В Арабских Эмиратах, полагаете? Так ведь прислуга там не белая. В Португалии? Так ведь нефти там нет и икры. Словом, хорошо, его весь мир теперь открыт и обеспеченный человек может выбирать, где устроиться: хочет - в Португалии, хочет - в Нижневартовске, а хочет - в Москве.
Как доверительно сказал за деловым завтраком нефтяник Ричард Рейли барону де Портебалю: я не вижу разницы, барон, где жить сегодня - в Лондоне, Москве или Париже. Я предпочитаю жить сразу везде. Тем более что самолет за три часа доставляет меня в любую из искомых точек - Действительно, - подтвердил Портебаль, катая за щекой мясную фрикадельку, - шарик сделался мал. Я уже много лет отдыхаю не на Корсике, как обычно, а в Патагонии. А мой партнер Майзель предпочитает теперь Байкал. - Я имею в виду даже не отдых, а будни. Вы не поверите, - сказал Рейли, - порой приходится летать на деловой ленч в Лондон. И что вы думаете? Успеваю вернуться на поздний обед в Москву, в «Палаццо Дукале» на Бронную улицу. - Неужели переночевать в Лондоне нельзя, - изумился Портебаль, уважающий комфорт. - Понимаете, Алан, если назначена встреча с деловыми людьми. I mean, действительно с деловыми, men of decision, такими, как Луговой, например, или Дупель, - то я все же предпочитаю прилететь. И потом, что такое расстояние? Живем сегодня всем миром. - Это верно, - согласился Портебаль, - я, скажем, частенько теперь летаю в Казахстан, а партнеры заманивают во Владивосток
- Рыба? Я вам не советую, Алан. Вам, мобильному гражданину мира, связывать себя с этим неповоротливым бизнесом - зачем? Но что вы думаете о строительстве в Шанхае?
- Да, - согласился де Портебаль и отхлебнул минеральную воду, я часто летаю в Шанхай.
Рейли, в отличие от Портебаля, употреблял алкоголь, и даже активно употреблял, иногда пил и шампанское за завтраком, однако день впереди был тяжелый - и он ограничил себя минеральной водой. Поэтому два гражданина мира подняли бокалы грузинской минеральной воды Боржоми (превосходящей своими качествами французский Эвиан) и салютовали друг другу бокалами в знак понимания и солидарности.
Для того чтобы сделалось ясно, какого рода порядок устанавливается в мире, что, собственно говоря, представляет собой новый социум, претендующий быть глобальным, чего от такого сообщества людей можно ждать, надобно понять, какой индивид наиболее полно этот мир воплощает, кто - персонально - есть микрокосм, воплощающий чаянья нового порядка. Каков он - искомый результат селекции? Иными словами, покажите портрет члена семьи, и станет ясно, что это за семья. Именно это и воплощает известная формулировка «гражданин мира»: гражданин мира - это такой полномочный представитель мира, который строем мыслей, характером деятельности, широтой кругозора воплощает не только свою биографию, но судьбу огромного социума. Нарисуйте портрет большевика, и станет ясно, что такое коммунизм; изобразите джентльмена, и вы увидите систему отношений просвещенного мира недавних веков. Скажем, полномочным представителем мира эпохи Ренессанса был библиофил, путешествующий из Тосканы в Рим, из Нюрнберга в Милан, порой, как Карпаччо, доезжавший до Турции, порой рискующий на морские вояжи; разумом и дерзанием этот человек охватывал весь мир, и понятно, зачем и как он его охватывал. Мир эпохи колониализма воплощал колонизатор, водружающий свой безжалостный флаг на Малакском архипелаге или в Индии. Мир эпохи утопических и тоталитарных чаяний воплощал оголтелый агитатор, вербующий отряды последователей от Африки до Ирландии. Иные скажут, что наряду с библиофилом мир Ренессанса явил кондотьера; наряду с агитатором мир утопий явил узника; и это правда. Правда, однако, и то, что эти ипостаси эпохи не находятся в противоречии, они лишь дополняют и проясняют одна другую: гуманист, он тот же кондотьер знаний, агитатор - узник убеждений. И - что самое важное - все предыдущие общества являлись (в прогрессивной демократической терминологии) обществами закрытыми, то есть продукт, производимый ими, не был универсален: большевик годился в качестве микрокосма для соцлагеря, но по ту сторону колючей проволоки в ходу был уже джентльмен. Задачей нового века явилось уничтожение барьеров и образование единой, разумно управляемой Империи нового демократического порядка. Зачем бы и потребовался глобальный план переустройства человечества, как не затем, чтобы создать универсальную модель личности - пригодную и в Африке, и в Антарктиде. Зачем бы и рушить стены ненавистных закрытых обществ, как не затем, чтобы единый тип «гражданина мира» стал употребим повсеместно? Сколь же интересно будет узнать, каков продукт общества открытого, обнявшего всеми своими просвещенными интенциями шар земной? Можно смело предположить, что новый порядок, новое открытое общество вырастило такого универсального человека (или уж, во всяком случае, завело гомункулуса в пробирке), который являет образец для любой культуры. Что значит понятие «гражданин мира» сегодня? Кому-то может померещиться, что это индивид, соединяющий в биографии своей разные нации, перешагнувший, таким образом, границы и узкие рамки прежних родовых отношений. Однако не всякие нации пригодны для объединения, далеко не любая комбинация стран и корней дает нам искомый феномен «гражданина мира». Иные границы столь неинтересны, что перешагивай их или не перешагивай - толку никакого нет. Казалось бы, взять, например, гражданина прежней, почившей в анналах истории, Югославии. Вот поистине персонаж, живущий на перекрестке родовых укладов, обычаев и конфессий - чем не гражданин мира? Но время показало, что нет - нисколько он на роль гражданина мира не пригоден. Видимо, мир сегодня таков (или, во всяком случае, желает быть таковым), что объединяется по избирательным признакам - и признаки эти хоть и связаны с культурами и конфессиями, но придирчиво их сортируют. Новый мир предлагает строгий способ отбора свойств - для того чтобы иметь право назваться его гражданином. Гражданин мира - это, оборони Создатель, никак не казах, работающий на молдавском предприятии и женатый на украинке, - такой человек не гражданин мира, он просто олух. Гражданин мира - это француз, женатый на американке, имеющий офис в Швейцарии, нефтяной бизнес в России, грузовой терминал в Латвии, офшорную компанию на Антигуа, а наемных рабочих вербующий в Сербии и Белоруссии.
Одним словом, предостережение социолога Хантингтона, гласящее, будто конфликты человечества происходят на стыке цивилизаций, было услышано и принято к сведению: следует - во избежание конфликтов - построить такую цивилизацию, которая бы оказалась всемирной и включала в себя прочие на дочернем основании. Эта новая, универсальная цивилизация создается для блага и во имя процветания «гражданина мира».
В свете сказанного делается самоочевидным, что феномен эмиграции попросту перестал существовать: эмигрантом является в современном мире неудачник, тот у которого ничего не получилось на родине и, по всей вероятности, не получится в чужой земле. Эмигранты - это пуэрториканцы в Нью-Йорке, уроженцы Ямайки в трущобах Южного Лондона, турки в берлинском квартале Кройцберг. Вот они - эмигранты; прочие же, перемещающиеся по свету люди, - граждане мира. С некоторых пор стало нормой, что человек делит свое время меж тремя землями и затрудняется назвать какую-либо из них отечеством. Скажем, Гриша Гузкин, мастер, обласканный Германией, сохранивший российский паспорт, живущий в настоящее время в Париже и целящий перебраться в Штаты - какой земле он принадлежит? Он и сам не знает. И вот какой вопрос еще невнятен: человек с тремя паспортами - случись что, какому паспорту он будет верен? За какую родину станет сражаться? Так не случится же ничего, что может случиться? Зачем вы такие вопросы провокационные ставите, скажет любой гражданин мира, зацепи вы его этой дилеммой. А все-таки, ну, вот если война? За кого идти сражаться Грише Гузкину: за Германию, Францию, Америку или Россию? Или любому другому гражданину мира - что ему выбрать? В каком окопе сидеть?
Ответ довольно прост, его и дал Гриша Гузкин в частной беседе в Париже: я, подчеркнул интернациональный мастер, не вижу никаких причин для того, чтобы те земли, что стали мне родными, ссорились меж собой. Что, в сущности, делить? Мир давно представляет собой одну большую семью, члены которой всегда сумеют договориться. В случае же войны - я, разумеется, буду на стороне прогресса, цивилизации и культуры. Ефим же Шухман, колумнист «Русской мысли», с которым Гриша чрезвычайно сблизился в последние годы, высказался еще более определенно: ни за какую родину сражаться он не станет, нашли дурака, он будет сражаться за свой банк. Слова эти лишь по форме прозвучали цинично - по сути же за ними таилась глубоко выстраданная и продуманная позиция, позиция человека, натерпевшегося от догм и идеологий. И то сказать, родина это ведь такое образование, которое (по замыслу) о тебе печется и заботится, словно мать родная, а разве земля, где нас произвели на свет, о нас печется? Ха-ха! Если вдуматься, кто же заботится о гражданине более, нежели его банк? Может быть, секретарь парторганизации? Ха-ха! И Ефим Шухман показал кукиш по адресу далекого секретаря парторганизации, который если и имел намерения заманить Шухмана под свои знамена, но теперь, увидев кукиш, должен был одуматься.
Мысли, подобные шухманским, посещали прогрессивных людей и прежде. Мы думали, что умираем за Родину, а оказалось, что за банковские сейфы, некогда ахнул французский писатель, установивший до того, что боги идеологии жаждут. Он не добавил лишь, что теперешние боги, т.е. сейфы, жаждут не менее, но более прежних богов, и - в силу особенностей организации новой Империи - жажда их неутолима. Они требуют безусловной преданности всегда. Вы можете изменить отечеству, жене и партии, быть преданным идеологии в рабочее время, а:вечером смотреть телевизор и думать о пустяках, - но вы никогда не измените своему счету. Подобно секретной татуировке под мышкой у эсэсовца, татуировке с неким тайным номером, подобно таинственным числам масонов и каббалистов, подобно номеру группы крови, выбитому на жетонах у солдат, - номер банковского счета конденсирует в себе самое значительное в жизни. Этот номер обозначает вашу принадлежность к цивилизованному миру. Цифры, точки и дроби обозначают ваше место в современной структуре ценностей - руководствуясь этими знаками, распорядится вашей жизнью история. Это - ваш порядковый номер в истории. Если вообразить, что утопия всеобщего воскрешения осуществима, если представить себе человечество, собранное для Страшного суда, - то в каком порядке расставят эти бесконечные толпы? А очень просто - по номерам личных счетов.
Нечего и говорить, какую путаницу во всеобщий порядок вносят банкротства банков или неожиданные изменения котировок на биржах. Рушится не благосостояние - но порядок вещей. Чтобы ранить француза в самое сердце, вовсе не надо платовским казакам въезжать на Елисейские поля, достаточно взять под контроль «Кредит Лионне» и «Банк Агриколь». Желая оградить малые родины (т.е. страны) от потрясений, большие родины (т.е. банки) должны были достигнуть меж собой приемлемых договоренностей. Новое прогрессивное сообщество сделало ощутимый и внятный шаг вперед по направлению ко всеобщему миру, создав мировые банки и мировые финансовые институты, озабоченные всем мировым пространством сразу. Так образовалась одна Большая Родина прогрессивного человечества, которой действительно не было теперь нужды в конфликтах с самою собой. Теперь коллективный разум просвещенного человечества решал, какой из погибающих в нищете стран выделить кредиты, а какой ничего не давать; какую поощрить, выделив для нее набор из цифр, запятых и дробей, а какой сделать внушение, урезав дотации. Так мудрый отец семейства наказывает своего отпрыска-лодыря, лишая его за обедом сладкого, и поощряет отличника, протягивая ему пряник. Иному наивному обывателю, не вникшему в общий замысел Большой Родины, становилось непонятным, отчего же Большая Родина, обладающая огромным запасом цифр, запятых и дробей, не обрушит всю свою мощь в какой-нибудь отдаленный уголок мира, туда, где малая родина (ведь и Сомали, и Индия приходятся кому-то малой родиной) дохнет и пухнет от голода. Однако искать резоны и обсуждать поступки Родины - занятие пустое: Родина всегда права.
Одним словом, мир пришел к тому - желанному во все века гуманистами - состоянию, когда границы сделались условными, а интересы - общими. Понятно, речь идет о просвещенном мире, о той его благополучной части, что призвана своим мудрым примером вразумить отсталые народы и собрать их вокруг себя для их же пользы. Глядишь, кому-нибудь из малых сих и перепадет толика участия и расположения, кому-нибудь дадут немного цифр и запятых, а кого-то ободрят морально. К лучшему, что там ни говорите, к лучшему устраивалась жизнь!
II
Искусство, как и следовало ожидать, приняла вызов времени во всей его полноте - оно обязано было выразить новое состояние мира.
Осип Стремовский, мастер, вникающий в шум времени внимательно, как никто другой, преподал Соне Татарниковой урок, а девочка ушла обиженная она не поняла в уроке главного. Осип Стремовский тремя фразами показал ей, что требуется для того, чтобы тебя сегодня опознали в качестве художника: требуется быть актуальным, а весь неактуальный багаж отбросить. Что же может быть ценнее такого совета? Если бы Сонечка вникла в предостережение мастера, она бы, вероятно, заинтересовалась тем, как конкретно достигается актуальность, что требуется делать для того, чтобы актуальным художником стать. Отбросить старое, это понятно - но где же взять новое, из чего новое состоит? Возможно, Стремовский и не сумел бы ей внятно ответить; в самом деле, не скажешь же юному созданию: слушай, детка, шум времени, шум времени сам тебе подскажет, куда идти; смотри, девочка, на все новое, оно тебя подтолкнет в нужном направлении. Звучит это расплывчато и затруднительно в исполнении. Вот, Снустиков-Гарбо пляшет в женском платье - и это актуально, а Захар Первачев все рисует русских алкоголиков - и это неактуально. Как такое объяснишь? Тонко надо понимать идущие процессы. Стремовский и сам-то не сразу попал в тон времени, а уж на что внимательно прислушивался к его шуму.
Вопрос и впрямь непрост. Актуальное искусство - оно актуально по отношению к чему? Следует допустить, что всякое время рождает искусство, адекватное себе, т.е. такое искусство, которое полно выражает данное время и данный социум, - значит ли это, что данное искусство актуально? Видимо, да, поскольку термин «актуальное» не несет (и не может нести) никакой оценочной характеристики - плохо ли, хорошо ли то, что сделано в данное время, но сделанное принадлежит своему времени - тем и интересно. Допустим, во времена Хеопса актуальны были пирамиды - с этим, кажется, не поспоришь. Но это было крайне давно, и, чем ближе приближаешься к нашему времени, тем больше шансов испытать растерянность. Например, искусство Третьего рейха, разумеется, было актуально по отношению к правлению Гитлера, а искусство соцреализма - актуально по отношению к режиму Сталина. Однако в то же самое время писались и свободолюбивые абстрактные полотна - и теперь доказано, что они гораздо лучше с точки зрения эстетических нормативов, нежели правоверные опусы. Но по времени создания и то и другое совпадает. Выходит, что и парадные портреты диктаторов, и абстракции Де Сталя - были актуальны одновременно? А возьмем вчерашний день - и удивимся того более. Скажем, искусство поп-арта было актуально по отношению к развитому индустриальному обществу капиталистических стран. Но ведь в то же самое время в подлом советском обществе развитого социализма создавались сотни тысяч серых натуралистических полотен. Странная, однако же, получается история: выходит, что и соцреализм и поп-арт были одновременно актуальными - ведь времена социалистического застоя и капиталистического прогресса хронологически совпадали. Ерунда получается: и Раушенберг, и какой-нибудь, прости господи, автор сельских пейзажей - оба были актуальными художниками в семидесятые годы? Так ведь не может быть, никак не может, несправедливо это. Раушенберг - понятно: он, несомненно, был актуальным, еще каким актуальным! И что же, Иван Иванов, никому не интересный, унылый маляр, который писал комбайнеров на деревенской завалинке, - он, выходит, тоже актуальный? Ну, знаете, этак ничего святого у вас не останется.
Ответ напрашивается сам собой, звучит он так: актуальным является не всякое искусство, но такое искусство, которое не просто выражает соответствующее себе время (время оно выразит невольно в любом случае), но которое формирует новые эстетические нормативы - для формирования нового социума и новых социальных отношений. Иными словами, актуально то искусство, которое организует наш с вами завтрашний день, а вовсе не отражает день сегодняшний. Иными словами, искусство существует прогрессивное, и непрогрессивное. Сказать так - значит весьма определенно высказаться в давнем неразрешенном споре: есть ли прогресс в искусстве. Искусствоведы обыкновенно стесняются говорить на сей предмет определенно, робеют: а ну как получится, что Ворхол лучше Фидия? Неудобно как-то. Но ведь никак не скажешь, что Ворхол Фидия хуже - иначе зачем бы он создавал свои поделки, а мы их хвалили? Принято уклончиво говорить, что Фидий - хорош для своего времени, а Ворхол - хорош для своего; но такого высказывания недостаточно: что же получается - наши сегодняшние достижения равны тем, что были достигнуты много веков назад? Зря, что ли, все мы старались? И боятся произнести законченное суждение: мол, есть прогресс в искусстве, прогрессивное общество порождает прогрессивное искусство - ничего не попишешь. Однако говорить так приходится, сама логика общественного развития вынуждает так сказать. Наконец договорились до некоторого компромисса - решено было говорить, что не искусство современное лучше, а культура - в целом - прогрессивнее. А с этим фактом не поспоришь.
Если мир сегодняшний прогрессивнее мира вчерашнего (а, кажется, сомнений в этом у большинства нет), следовательно, искусство, актуальное нынешнему прогрессу, - прогрессивнее искусства вчерашнего. Осталось, правда, поинтересоваться, что такое прогресс - и имеет ли он в принципе отношение к искусству и к общественному благу - однако этим никто не интересовался. Самый же факт, что создание нового мирового порядка потребовало нового прогрессивного искусства, сомнений не вызывает. Нет сомнений и в том, какого рода должно быть это новое искусство: искусство инсталляции актуально по отношению к периоду глобализации. Империи нового типа потребовалось произвести такое искусство, которое всеохватностью своей затмило бы прочие дисциплины. Искусство инсталляции в той же мере актуально в современной империи, в какой соборы были актуальны в средневековой Европе - инсталляция не отражает современность (как собор не отражал средневековое мировоззрение), инсталляция современностью является. Собственно говоря, усилиями политических деятелей, военных и менеджеров весь мир сегодня сделался одной большой инсталляцией.
Осип Стремовский, в ту пору, когда он уже стал интернационально признанным мэтром, когда ретроспективы его творчества триумфально были показаны в крупнейших музеях мира, Осип Стремовский выразил эту мысль наиболее полно и развернуто в интервью, данном «Лос-Анжелес Таймс». Художник долго шел к себе: он отдал дань соцреализму во время учебы в советском художественном институте, он посвятил много времени иллюстрациям детской литературы, изображая пионеров и новостройки со всем необходимым тщанием, он попробовал себя в живописи а-ля Сезанн, он создал несколько произведений, стилистически близких поп-арту; он проявил себя как концептуалист, одним словом, он попробовал многое. Находились недоброжелатели, утверждавшие, что у Стремовского нет своего лица, что он не имеет своего почерка, линия его анонимна, и цвет - случаен. Но даже и самые оголтелые злопыхатели вынуждены были замолчать, когда Стремовский наконец набрел на тот самый жанр, который его прославил, на то искусство, которое совершенно совпало с шумом времени - на инсталляцию. Будучи в Калифорнии (происходил этот разговор уже тогда, когда лидерство Стремовского сделалось несомненным и он оставил далеко позади менее удачливых коллег: пьющего Пинкисевича, однообразного Гузкина, вялого Дутова), Стремовский высказался следующим образом:
- Как я определяю жанр, в котором работаю? Это тотальная инсталляция. В ней находится место всему - и картине (я использую даже свои старые эскизы, иллюстрации к детскому журналу «Пионер», и поп-арту, и вообще чему угодно.
Осип Стремовский таким образом незаметно подвел собеседника к совершенно новой для того мысли - что самый подлунный мир есть не что иное, как инсталляция Господа Бога. Едва корреспондент уразумел сказанное и вообразил себе Саваофа, организующего небрежную инсталляцию в своем домашнем музее, как ему захотелось возражать. Сказать так не значит ли сказать банальность, подумал было корреспондент. Ну да, инсталляция, и что с того? Прежде говорили, что весь мир - театр, а теперь вот говорят, что весь мир инсталляция, и где же разница? Разница, однако, существовала, напрасно интервьюер сомневался. Прежде всего разница состояла в том, что для инсталляции (в отличие от театра) не нужна ни драма, ни герой, ни конфликт чувств структура инсталляции крайне проста, она не нуждается в героях и страстях, она не нуждается ни в чем определенном, собственно говоря, у инсталляции нет структуры - в этом ее сила и жизнеспособность. И это то главное, что сделало инсталляцию необходимой современному миру. Структура (иерархическая структура в особенности) - образование уязвимое, но лишенная структуры инсталляция, мимикрирующая к любой среде, чрезвычайно витальна. Мамонты вымирают, но амеба живет; революционной мыслью явилось вывести амебу размером с мамонта.
III
Слeдyeт признать - нравится это или не нравится, но это правда, - что Иосиф Эмильевич Стремовский и его концепция тотальной инсталляции выразили современный мир так же полно, как некогда соборы выразили средневековую схоластику; его инсталляции столь же актуальны сегодня, как некогда фрески Микеланджело были актуальны по отношению к Риму, решившему конденсировать в себе христианскую догму и языческую мощь. Более того (и это подчеркивалось многими исследователями творчества Стремовского), именно гений Стремовского сформулировал многие положения и постулаты общего порядка, применимые Новым Мировым Сообществом не только в искусстве, но и в политике, экономике, образовании и науке.
Сегодняшний мир имеет ту политику, таких политиков, такую структуру управления, что в точности соответствует идеалам искусства, которое мир признает за таковое. Искусство - и так было на протяжении всей истории человечества - формирует идеалы, которые политика делает реальными. В конце концов, политика не более чем один из видов искусства, а Платон ставил ораторское мастерство даже еще ниже, называя его просто «сноровкой». Наивно думать, будто искусство следует за политикой. Общество культивирует свои искусства и сноровки одновременно, и если интеллектуалам и заказывают портрет политиков, то убедительный заказной портрет создают и политики - и выполняют его в точности по заветам интеллектуалов.
Перикл старался походить на скульптуры Фидия статью и решимостью, а не наоборот; Александр Великий брал в походы «Илиаду», воображая себя Ахиллесом; Сталин и Дзержинский осуществили на деле проекты Малевича и конструктивистов. Вы хотели мир, расчерченный на квадраты? Извольте: вот, мы, политики, сделали все в точности, как вы просили. Политика - реализованный проект искусства.
Сегодняшний мир переживает торжество политики постмодернизма, то есть того типа мышления, который четверть века господствует в умах просвещенной интеллигенции. Мир (напуганный директивами двадцатого века) страстно захотел искусства без определенных критериев, философии деструкции, утверждения, которое не значит ничего конкретного. Мир захотел тотальной иронии, он захотел посмеяться над собой - и посмеялся. Правда, разница между политиками и интеллектуалами заключалась в том, что последние полагали иронию и рефлексию самоцелью; политики же знали, что подлинная цель совсем- совсем иная. Целью - совершенно внятной, явной и осознанной целью - была организация нового мирового порядка; для осуществления этой цели в первую очередь следовало использовать искусство - как самый подходящий инструмент для формирования сознания.
В сущности, то, что произошло в последнюю четверть века в искусстве, а затем и в политике, является операцией, сходной с банковской эмиссией. Чтобы понизить значение основных акций, следует дополнительно выпустить еще тысячи акций, и тогда они упадут в цене. Вторая книга «Илиады», содержащая список кораблей и полководцев, - лучшая иллюстрация подобной политики: когда собираешь в поход огромное количество мелких царей, мнением одного, кем бы он ни был, можно пренебречь - война все равно начнется. Так поступал Цезарь, расширяя сенат и глуша голоса своих противников хором славословий; так делал Сталин, вводя новых членов в политбюро, чтобы простым голосованием уничтожить Бухарина с Троцким. Так произошло сегодня с Европейским союзом, когда вновь избранные члены расширили понятие Европы до бессмысленных пределов - и утопили голоса Франции и Германии в хоре верноподданных славянских народов, рвущихся к так называемой буржуазной цивилизации.
До того как это случилось си для того, чтобы это прошло гладко), подобная эмиссия была произведена в интеллектуальном мире. Было введено в оборот огромное количество продукта, который назвали новым искусством, новой философией. Этот продукт - с принципиально нивелированным качеством просто затопил своим количеством искусство старого образца, подобно тому как партийцы сталинского призыв а задавили количеством немногочисленную ленинскую гвардию. Искусство нового порядка (и его смело можно именовать актуальным искусством) было призвано - так казалось - обеспечить комфортное состояние обывателя: уберечь его от деклараций и одновременно оставить приятное интеллектуальное возбуждение. Это искусство никуда не зовет, ничего не утверждает, никакого фигуративного образа, упаси господь, не предлагает, оно вообще ничего не должно говорить определенно - оно просто воплощает некую абстрактную тягу к свободе и демократии. И прогрессивный интеллигент не склонен был видеть в таком развитии событий беды: уж если выбирать между авторитарной декларацией и рефлексией, пожалуй, стоит выбрать рефлексию. Да, ничего громокипящего и пророческого искусство сегодня не говорит - но это оно нарочно так делает. Пусть сегодня победит не сатрап, но буржуа, - говорили друг другу интеллигенты, - в конце концов, буржуазная демократия и буржуазные свободы рано или поздно породят новое большое искусство. А если и не породят, то кто же сказал, что такое искусство необходимо? Художник не должен написать картины, писатель не должен создать романа, философ не обязан создать философскую систему - ни в коем случае не должен, как раз наоборот! Он воплощает тотальную иронию и принцип тотальной деструкции, и писатель, у которого нет мыслей, оправдан тем, что рядом с ним художник, который принципиально не умеет рисовать: вместе они посмеются над анахронизмом утверждения, будто надо делать что-то определенное и страстное. Цель их благородна - обезопасить существование буржуазной демократии, устранить из культуры декларации.
Однако цели нового порядка отнюдь не сводились к обеспечению покоя буржуа. Если угодно, цели были прямо противоположны. Медленно, но неумолимо этого самого буржуа, покой и комфорт которого призвано было охранять актуальное искусство, этого самого буржуа заставили поверить, что не только его интеллектуальный комфорт важнее страсти и деклараций, но его физическое благополучие важнее существования других людей - не дошедших в своем развитии до понимания цивилизации как высшего блага. В мире, который столько лет смаковал иронию, называя ее - позицией, оправдывал отсутствие утверждения, называя это - концептуализмом, в этом мире появилась та политика, которая эти принципы довела до реального воплощения. «Мы не хотим бомбить, мы за мир, но убивать в интересах абстрактной свободы надо». Разве это недостойно выставки в Музее современного искусства? Искусство, из которого были изъяты сострадание и ответственность - как конструктивные начала, не соответствующие идеалам деконструктивизма, породили политиков, которым эти качества несвойственны. Где вы сегодня найдете лидера, употребляющего всерьез слово «мораль»? Но ведь это сами интеллектуалы, потребители и создатели аморального искусства, вызвали к жизни политику постмодерна. Вы хотели деконструкции - извольте! Теперь ее будет в избытке.
Дорогие зрители и художники, дорогие читатели и писатели, сказали политики интеллектуалам, не стоит сетовать на бомбежки - посмотрите на инсталляции у себя в гостиной, полюбуйтесь на вещи Ле Жикизду, Он Кавары, Пинкисевича, Джаспера Джонса. Вы ведь никогда не хотели, чтобы они теребили совесть, не правда ли? Посмотрите на дома моды и галереи современного искусства. Не стоит переживать сегодня из-за войны: вы разбомбили Ирак (или Сербию, или Афганистан) еще вчера.
Впрочем, никто на этом останавливаться не собирался.
Настало время, когда победивший демократический средний класс хотел веселиться, пожать плоды победы. Маккарти, Латинская Америка, Индокитай, Алжир - конечно, что-то неприятное все время происходило, но это неприятное не задевало демократических основ, не ставило под вопрос торжество просвещенного обывателя. И веселье длилось долго: зря, что ли, расправлялись с диктаторами? И все-таки что-то такое скребло внутри, мешало развеселиться в полную силу. Только отправишься на презентацию молодого Божоле, только зайдешь на перформанс Снустикова-Гарбо, только ознакомишься с опусами Гузкина - казалось бы: забавно, что ж не порадоваться? Ан нет, что-то держит внутри, не дает расшалиться в полную силу. Ну не сочувствие же к голодающим в Руанде мешает смеяться во весь голос? Нет, конечно, не оно. А вот мешает же что-то.
Матери обыкновенно останавливают чрезмерно развеселившихся детей. Известно, что буйное веселье у детей кончается истерикой и слезами. Так произошло и с миром, который смеялся так заразительно, так бесшабашно, что и плакать ему придется долго.
Чем же плохо, что мы шутим тридцать лет подряд, спрашивали друг друга интеллектуалы. Разве повода не было? Смеялись над отжившими ценностями, над диктаторскими режимами, над дидактикой. Просто надоели эти замшелые зануды, моралисты довоенного образца, риторика и призывы. Мир принимал постмодернизм как противозачаточные таблетки: хотелось веселиться без последствий. Шутить действительно ничем не плохо. Плохо одним: если только лишь шутить, и ничего серьезного не говорить, то серьезное все равно кто-нибудь скажет, просто это будешь не ты, и весьма возможно, это серьезное окажется очень страшным.
Природа шутки такова, что она подготавливает место для серьезного утверждения; такое - далеко не шутливое - утверждение обязательно рано или поздно, но прозвучит. Даже если клуб шутников постановит, что серьезного в мире не существует, то правило это не будет действовать за пределами комнаты. Серьезное, увы, происходит ежечасно - просто потому, что жизнь кончается болезнью и смертью. В мире, где голодают и умирают миллионы людей, действует простое правило: серьезное отношение к себе подобным бывает двух родов - им можно сострадать, но ими можно и управлять. И пока клуб шутников отменяет серьезные утверждения, за пределами этого клуба решают, чему отдать предпочтение: состраданию или управлению. Обычно выбирают второе. Выбрали и на этот раз.
Заповеди, скрижали, декларации и прочие безвкусные аффектации производятся в числе прочего и потому, что если этого вовремя не сделать, место скрижалей займут идолы и золотые тельцы. Жизнь, как выясняется, не так длинна, и надо торопиться с утвердительной фразой. Спору нет, благие заповеди - вещь занудная, но антитезой им является не шутка, как полагали либералы, но - война.
IV
Деконструкция - концепция свободолюбивая и привлекательная; нехороша она одним - она не в силах отменить конструкцию. Дерево все равно растет вверх, а хвост у коровы - вниз, и эти векторы не поддаются свободной мысли. Мир так или иначе нуждается в конструкции, просто потому, что существуют факты биологического, географического, физического характера, вполне материальные факты - которые отливаются в конструкцию, даже если постановить, что происходить этого и не должно. Вопрос только в том, на что похожа будет конструкция того общества, которое идеализировало принцип деконструктивизма? Это так же интересно, как узнать, кем станет хиппи, достигнув шестидесяти четырех лет.
А на этот вопрос ответ уже дан. Поколение безобидных бунтарей 68-го, достигнув зрелых лет, сменило джинсы на костюмы в полоску, а бутылки и булыжники на бомбы. И кидает теперь эти бомбы не в своих профессоров, а в другие страны. Джек Стро, посылающий британских мальчишек убивать незнакомых им людей, - прямой участник славных сор боннских событий, а Йошка Фишер, вчера бомбивший Белград, - хиппи со славным свободолюбивым прошлым. Вероятно, период юношеской праздности лишь укрепляет в сердцах безжалостность: не проведи Ахиллес свои юные годы в неге на острове Скирос, кто знает, проявилась ли бы в полной мере его свирепость. Мы наконец дожили до мира, которым правят свободолюбивые шутники - но отчего-то получается и несвободно, и невесело. Хиппи всегда носили в рюкзаках томик Толкиена (спросите знакомых хиппи, они подтвердят), и это было немного странно: зачем бы ребятам без царя в голове такое, хоть и сказочное, но директивное чтение? Зачем бы детям цветов дидактика? Отвeт пришел треть века спустя. Сегодня пришла пора передела мира, и очень важное дело - получение мандата на убийство себе подобных. Всякая власть его должна изготовить заново - старый образец не годен для новой крови. Молодым оболтусам 68-го надо было получить себе право - не менее убедительное, чем было у их отцов, - судить мир и кроить рынки. Инстинктивно общество чувствовало, что наступают времена, когда просвещенному мещанину надо дать право убивать не во имя общественного порядка, а во имя личной свободы. Цель убийства, разумеется, всегда та же самая - рынки сбыта, изменение границ, обеспечение комфорта, - но надо же найти этому новые оправдания. Драки на Сен-Мишель и скандалы Латинского квартала только предваряли сегодняшнюю бойню. Когда мандат отцов пришел в негодность, лишенные наследства сыновья призвали на помощь свободолюбивую интеллигенцию, авангард, контркультуру, новую философию: хиппи 68-го, философы-деконструктивисты, мастера постмодернизма, шутники и кривляки бойко взялись за дело - расчистили место для нового серьезного утверждения. Шутка и деконструкция, - вот и все, что требовалось, чтобы дать время вырасти новому хозяину. Дискурс и интерпретация - мощное оружие, которое постановили использовать против институциональной твердости, присущей модернизму. Надо было только расчистить место, надо было подготовить приход нового порядка. Надо было только посмеяться вволю и подождать, пока он подрастет, этот оригинальный недоросль, этот милый остряк, ниспровергающий кумиров прошлого - наш новый хозяин.
И он подрос, балбес с оранжевым коком на макушке, с Делезам под мышкой, с Толкиеном в рюкзачке, с билетом на выставку Бойса в кармашке. Оказалось, однако, что интересы у него вовсе не ограничиваются интеллектуальным дискурсом, отнюдь нет; ему не кумиры старого мира не нравятся, ему не нравится, как границы в этом старом мире проведены. Он некоторое время позубоскалил вместе со своими интеллектуальными лакеями, а потом смеяться перестал. А те, бедные, и не заметили сперва, что хозяин, тот, кто спонсировал их выставки, оплачивал их конференции и учреждал для них гранты, уже и не смеется вместе с ними - и они хихикают в одиночестве. Они и не заметили, что он их кормил вовсе не для того, чтобы они выросли, а только затем, чтобы они служили. Ахнули, только когда поняли, что смеются они в одиночестве, что борются за демократическую цивилизацию, которой в природе нет - и никогда не было. А вы что же, ваше превосходительство - уже не веселитесь? Как же так? А вот смотрите: еще одна смешная шутка, а вот полюбопытствуйте: еще один проект внедрения европейской цивилизации на Чукотке (в Бурятии, Сомали, Руанде). Вам что же, хозяин, уже и не интересно больше? Оказалось, хозяин уже больше не хочет смеяться, а если скалит зубы, то чтобы хватать и рвать. Он прочитал вместе со своими лакеями Дерриду и Толкиена, насмотрелся Ворхола и Бойса, внял - и выстроил простые логические выводы. Он употребил их лакейские усилия по назначению, правильно, как и надо было употребить, так же, как Александр - «Илиаду», т.е. принял как руководство к действию. Следует пройти чужеземные страны с огнем и мечом, перебить незнакомых орков во имя толерантно устроенного общества, а потом сесть пить чай с кексом. Он ведь совсем не чужд патриархальных идеалов, этот юноша нового образца.
Все вышесказанное так или иначе проникал о в сознание граждан. Надо было сказать себе просто и ясно, что тотальная ирония сменилась тотальной инсталляцией - и только. В своих беседах и спорах граждане - то осознанно, то инстинктивно - приближались к осознанию нового порядка, к осознанию того мира, куда освобожденная Россия вошла, и который был больше, чем Европа, огромней, чем Запад, могущественней, чем христианская цивилизация. Всеми этими понятиями продолжали пользоваться, однако постепенно до граждан доходило, что они уже граждане не страны, не континента, но мира - причем мира, организованного по-новому. Они граждане новой империи. Их еще влекли прекраснодушные фантазии мечтателей типа Бориса Кузина, фантазии, повествующие о проникновении России в Европу. Однако граждане уже прекрасно понимали, что европейцами они как не были, так и не станут, а куда вот они попали это вопрос непонятный. В цивилизацию, как и это было задумано либеральной интеллигенцией, - это уж точно, в цивилизацию. Только вот в какую? На что это теперь похоже - на Ренессанс? На Просвещение? Или совсем-совсем нет?
V
Павла Рихтера, в сущности, смущали только две вещи; не любил он все, что происходило, однако неприязнь к политике и авангарду, недоумение перед общим порядком вещей - все вытекало из инстинктивного неприятия только двух вещей. Ему казалось, что если ответить на два эти простые вопроса, то и остальное разъяснится. Первое: как могли люди, ему хорошо известные, люди, столь бойко и рьяно выступавшие против советского строя, оказаться под обаянием строя нового? Как могли они, знающие цену пропаганде и внушению, оказаться под обаянием пропаганды ценностей иного общества? Разве какое-либо общество непосредственно представляет надмирное благо? Вот они выстроились в очередь за грантами, вот они ищут знакомства и дружбы иностранных галер истов, признания западных теоретиков, внимания европейских директоров - но неужели иностранные функционеры лучше отечественных партаппаратчиков? Функционеры выполняют наложенные на них обществом функции - и только. Не может быть, чтобы в массе своей люди рознились: западные функционеры такие же прохвосты, как и советские. Как же могло произойти так, что люди, демонстрировавшие сопротивляемость прежней догме - подпали под настоящую? И второе: почему новый порядок (а что весь мир объединился в новый порядок, было очевидно даже Павлу) нуждается в таких бессмысленных поделках, как произведения Стремовского, Ле Жикизду, Снустикова- Гарбо, Сыча, Ворхола и Бойса? Когда объединяется весь просвещенный мир (а он несомненно объединяется), когда рушатся границы (а они несомненно рушатся), когда создается мировая Империи (а она несомненно создается), когда появляется такая небывалая сила и власть - то почему такой силе и власти потребны в качестве искусства бессмысленные поделки, некачественная пустая дрянь? Ведь должен существовать внятный ответ, объясняющий, почему громадная Империя не захотела серьезного антропоморфного искусства (т. е. такого, которое рассказало бы о ней и ее людях так, как это делали в свое время и о своем обществе Фидий, Рембрандт, Микеланджело, Гойя и Пикассо), но предпочла языческие значки и тотемы, кружочки и линии, декорации и дизайн? Искусство, изображающее людей, стали презрительно именовать фигуративным и считать совершенно устаревшим. Когда говорят, что то, фигуративное, искусство несовременно, - то кривят душой, вопрос совсем не в хронологии. Дело вовсе не в том, что Гойя или Фидий изображали антропоморфные фигуры: дело в другом - Гойя и Фидий воплощали свое время, наделяли время образами из плоти и крови, то есть давали духу времени оболочку. Фидий и Пикассо не были современниками, Гойя и Микеланджело жили совсем в разное время, однако былое развитие человечества нуждалось в воплощении своих усилий. Говоря иначе, если социальное строительство персонифицировано - то с необходимостью возникает герой, общество воплощающий: у него есть судьба, глаза и приметы. Отчего же теперешний порядок мира в воплощении не нуждается? Как получилось, что мощная, грандиозная Империя - не нуждается в воплощении? Как получилось, что у современного мира нет образа? Почему современный обыватель не знает собственной физиономии - он стоит в музее и смотрит на аморфные значки и закорючки, на полоски и пятна. И весь огромный современный мир убеждает его, что так и есть - физиономия действительно отсутствует. Как же получилось, что у этой гигантской амебы нет ни структуры, ни хребта, ни лица?
Вопросы, которые задавал себе Павел, были тем более важны, что именно культура в Империи нового типа сыграла ту роль, какую сыграл капитал при образовании прежних империй.
VI
Стоит задержать внимание на этом пункте.
Рынок труда оказался встроен в рынок товаров, рынок товаров в дальнейшем оказался встроен в рынок капитала, рынок капитала - и это закономерно - оказался встроен в рынок информаций, а рынок информаций, в свою очередь, - внутрь некоей системы отношений, которую следует поименовать как рынок культур. Этот рынок культур (а торговлю на нем блестяще освоил постмодернизм и его представители: от французских философов-рантье до ставропольского механизатора) сделал возможным столь широкий, безнаказанный и произвольный обмен, что понятие историзма и культурной традиции потеряло цену и стоимость. Ходом вещей сделалось так, что ценности, которыми жили предыдущие эпохи, в одночасье подверглись девальвации: былые авторитеты оказались низвергнуты, и замелькали новые имена - зачем Пикассо, если есть Ворхол и Ле Жикизду? Зачем Солженицын, если есть Яков Шайзенштейн? Прежних кумиров не отвергли вовсе, но отодвинули в Пантеон, объявили неактуальными, как неактуальным стал золотой запас по отношению к современным банковским трансмиссиям. Те расписки и обязательства, которые существовали в непосредственной связи с золотым запасом, стали помехой. Действуя строго в рамках рыночных эмиссий, культурный рынок выпустил такое количество новых ценных бумаг, что обесценил прежние расписки. Прежде культурный рынок был устроен таким образом, что приобретение новых акций не отменяло акций старых и хождение тех и других одновременно не возбранялось, однако теперь старые к хождению объявили непригодными. Особенность же новых бумаг состояла в том, что на них вовсе ничего не было написано, они не были обеспечены ничем, - общество решило не только обесценить прежний культурный товар, но отменить культурный товарооборот в принципе, заменив оборот товаров оборотом культурных символов. Произошло это вот почему: культура - единственное, что препятствовало нивелированию социального организма, превращению его в однородную субстанцию и налаживанию бесперебойной работы. Картины нет, постольку поскольку не существует рудника, акции которого уже проданы, а полученные средства вложены в политика, у которого нет идей. Этот принцип столь властен и неотменим, что любое нарушение договоренностей поставит общее дело на грань краха. Объявись рудокоп с твердой информацией, что данный рудник существует, а другой нет - и это удар по политике; объявись художник, производящий не символы, но вещи - и вся система отношений (учрежденная во благо людям) закачается. Так строительство новой империи потребовало создания новой профессии культурного менеджера, культурного брокера, культуролога. Создания этой междисциплинарной поли функциональной единицы, которая подменила собой прежде существовавшие профессии: философа, историка, писателя, потребовало само время (а шум времени, как сказал бы Осип Стремовский, надо уметь услышать). Впрочем, узкая специализация и не пригодилась бы более в империи нового типа. И если Борис Кузин, или Роза Кранц, или Яков Шайзенштейн на вопрос о профессии отвечали «культуролог», то делали это они инстинктивно - понимая, что их место здесь, в этих рядах, что новое общество предъявляет новые вопросы и нуждается в новых людях.
Культурные брокеры необходимы были Империи чрезвычайно: пожертвовав ради объединения прежними символами, удачно регулировавшими социум, как то: нация, раса, религия, идеология и т. п. - Новая Империя обязана была сохранить в общей благостной плюралистической картине механизм, позволяющий регулировать и управлять. На фоне торжествующего принципа корректности во всем таким инструментом регулирования социума должна была стать культура.
Для того чтобы успешно заменить собой понятие расы и идеологии, культура обязана была, во-первых, лишиться своего конкретного воплощения (т. е. вещей: картин, романов, статуй) и перейти на язык языческих символов, и, во-вторых, оборвать традицию преемственности - и начать новый отсчет времени (Пикассо, умерший всего тридцать лет назад, сделался так же непоправимо анахроничен, как Фидий, именно потому, что являлся автором вещей). В этом смысле именно и понималось фукуямовское утверждение о конце истории: новому отсчету времени требовались иные ценности и иная традиция. Полинациональная и поликультурная империя с холодным расчетом отказалась от расизма, диктата идеологии и пуританской морали - заменив все указанное расизмом культурным. В полимерном обществе, в обществе, вынужденно использующем принципы политкорректности и прочих нивелирующих разногласия доктрин (а как еще объединиться?), в Империи нового типа требуется принцип дифференциации нового типа, т. е., говоря грубо, требуется новый принцип расизма. Культурный расизм, разумеется, не означает того, что негритянский блюз поражен в правах по отношению к итальянской опере; совершенно наоборот - блюз до неразличимости приравнен к итальянской опере. Совокупно (они и прочие допущенные в Империю дисциплины) образуют однородный, лишенный иерархичности продукт, который и есть культура Империи. Однородный продукт этот настолько богат, что обладает способностью к самовоспроизводству - на тотемном, заклинательном уровне, - и он будет беспощадно бороться с любыми проявлениями духа, которые это тотемное благополучие могут гипотетически нарушить. Излишне говорить о том, что всякой знаковой имперской системе необходима каста жрецов - тех, кто обеспечит нормальное идеологическое функционирование символов.
Интеллигенция - как европейская, так и советская - ходом предыдущих событий была хорошо подготовлена для новой роли. Теперь же, когда ее задачи были сформулированы ясно, когда ее хозяин дал подробные инструкции, интеллигенция глобального капитализма, компрадорская интеллигенция заработала в полную силу. Каждый делал что мог на отведенном ему участке труда: историки-культурологи создавали новые версии истории, из которых явствовало, что мир - однороден; критики-культурологи осваивали версии того, почему свободное творчество отказалось от картин и романов; философы-культурологи рассказывали о том, почему оппортунизм лучше последовательности, а отказ от высказывания лучше высказывания. Впрочем, особенность их деятельности состояла в том, что ничего внятного производить им не требовалось - прямо наоборот: задачей компрадорской интеллигенции являлось размывание представлений о том, что труд (в частности, труд интеллектуальный) с необходимостью воплощается в законченный, ни на что прежде бывшее не похожий, продукт. То, что процесс думанья воплощается в мысль, отныне сделалось не бесспорным - но, напротив, весьма спорным фактом. Надо ли говорить о том, что работу свою компрадорская интеллигенция проделала ради изменения сознания того, кого тоталитарные мыслители прошлого считали носителем истории.
Даже самый беззаботный культуролог, оставаясь наедине с собой, полагал, что совершает свою разрушительно-созидательную работу не только ради умственных упражнений, не только ради зарплаты, которую ему выделяли из разнообразных распределителей Новой Империи, не только ради своей частной свободы, но и ради так называемого простого человека, которому будет лучше житься, если его мозг будет не затуманен враньем. Этот простой человек, производитель, обеспечивающий культуролога и его хозяев предметами первой и второй необходимости - он не то чтобы был объектом опеки, но (по традиции) интеллектуальный дискурс так или иначе обязан был брать в расчет и его.
Производитель, уже дважды освобожденный ходом предыдущей истории, если верить Марксу (а именно от непосредственной власти хозяина и затем от средств производства), оказался освобожденным и в третий раз и в этот последний раз его освободили самым радикальным образом: от его прошлого - от памяти, истории и культуры. Сказанное лишь звучит трагически, на деле все обстоит гораздо более буднично: у производителя не отбирали паспорт и не делали ему лоботомию, производителя освободили всего-навсего от возможности увидеть свой труд воплощенным, и - главное - от самой памяти о том, что труд есть нечто, что воплощается в продукт. Некогда рабочий конвейера уже настолько отдалился от конечного продукта труда, что эту связь почти утратил. Однако он все же знал, что с конвейера сходит автомобиль и гайку в автомобиле прикрутил он, рабочий. Теперь же потребовалось доказать, что целью труда является не автомобиль, а это качественно новый этап в сознании производителя. Одно дело производить машину (пусть часть ее), которая будет служить людям. Совсем другое дело - производить машину, смысл существования которой - участвовать в стремительном обороте ценностей, устареть и немедленно быть уничтоженной или обесцененной. Более того, представление о конечном продукте как о цели труда и творчества - оказалось ненужным и вредным. Труд есть процесс, не связанный с воплощением, вот что требовалось внедрить в сознание производителя, - и внедрили. Искусство не связано с производством картин, писательство не есть создание романов - это так же верно, как и то, что нефтяной бизнес не есть бурение скважин. То есть кто-то, конечно, эти скважины бурит, - но суть бизнеса, разумеется, не в этом. Подобно тому как совершенно безразлично, руками рабочих какой национальности бурятся нефтяные скважины, так как суть бизнеса не в этом, так же совершенно безразлично, кто производит искусство. От искусства требуется выполнять роль искусства, но искусством не быть. Самый продукт - не необходим: нынче создатель картины будет выглядеть так же смешно, как человек, пришедший на товарно-сырьевую биржу с ведром нефти в руках. Историческая и культурная память о том, что законченный продукт - это венец процесса труда, что процесс труда - суть отражение различных культурных особенностей, что продукт итальянский отличается от продукта японского и от продукта русского, - такая историческая память есть совершенно нежелательный элемент в построении однородной империи. Какая разница, кто собирал машину в транснациональном концерне - важно, как процесс реализации этих машин совпадает с процессом реализации нефтяных акций.
Процесс развоплощения труда (иначе можно определить его как процесс развоплощения образа - ибо что есть продукт, как не образ труда?) есть процесс, совершенно обратный христианской эстетике, той, что именно взывает к воплощению. Однако нельзя отрицать и того, что процесс развоплощения труда поставил точку в освобождении производителя.
Национальный продукт (например, искусство) устраняется в принципе, и нельзя отрицать того, что основания для этого существуют: образ неудобен в эксплуатации, организовать гигантский социум, состоящий из Давидов Копперфильдов, Жюльенов Соррелей и Андреев Болконских вряд ли возможно. И зачем брать такие крайности, если даже близкие соседи - Ван Гог и Сезанн не могли договориться и выработать общий язык. Куда как проще, когда прогрессивные интенции делают японского, английского и русского художников абсолютно согласными во всем и совершенно неразличимыми в их прекраснодушной тяге к прогрессу - узнать, кто из них откуда, не представляется возможным, да это и не требуется более. Общество должно было пожертвовать картиной и романом (т.е. наиболее внятными формами национального и исторического мышления, наиболее совершенными продуктами, воплощающими историю) во имя налаживания производства некоего метапродукта новой глобальной эстетики. Основной характеристикой этого метапродукта является то, что он не вполне воплощен и не демонстрирует своего внятного образа, - как и само общество, его породившее, как и финансовая система, его оплатившая, он не ограничен ничем и не имеет формы.
Этот метапродукт - и не товар, и не капитал. В продукте, воплощающем труд, более нет нужды. Капитал, некогда описанный Марксом как инструмент, двигающий историю, пришел в негодность на пороге нового рынка культур. Деньги присущи католическому капитализму, акции - протестантскому, пишет Маркс, но ни то ни другое не будет потребно Новой Империи, которая девальвировала ценности католицизма и протестантизма как узконациональные. Рынок культур - это такая властная система отношений, в которой наиболее мобильная и жизнеспособная субстанция напитывается соками от конкурентов и объявляет их несуществующими. Так современные историки объявили историю несуществующей, а современные искусствоведы объявили несуществующей картину. Особенность трансакций на рынке культур заключается в том, что маржа и прибыль не повышают стоимость труда, но снижают номинальное и феноменальное значение труда до непредставимо мелкой единицы. Здесь заключен самый главный парадокс современной цивилизации, цивилизации новой империи. С одной стороны, именно трудом, трудом сотен миллионов, в том числе трудом физическим Новая Империя создает свою культуру. В этом нет ничего особенного: плоть культуры должна создаваться трудом ежечасно, труд культуре имманентен. Однако в качестве субъекта рынка, причем такого рынка, где в оборот пущены символы, а не вещи, культура перестает нуждаться в труде, более того, культура Новой Империи оказывается труду враждебна. И антагонизм этот оказывается равно разрушителен как для труда, так и для культуры. В свете сказанного любопытна трансформация понятия товарного фетишизма. Как известно, труд, превращаясь в товар, приобретает характер символический, и товар, помимо того что воплощает процесс труда, делается самостоятельным символом, или - фетишем. Логично было бы предположить, что при утрате товара (или при девальвации его значения) понятие фетишизма переадресовано самой культуре, и отныне - в условиях рынка культур - следует говорить не о товарном фетишизме, но о культурном фетишизме. Однако и это серьезное препятствие, культура и без того наделена фетишами и символами. Причем наделена культура такими фетишами и такими символами, за которыми закреплено определенное историческое и даже нравственное утверждение. Это узкофункциональное значение символа является помехой для крупных трансакций. Следовательно, процесс, происходящий на рынке культур, должен заключаться в развоплощении символа - в лишении его исторической памяти - и придании ему той элементарной формы фетиша, которая легко будет участвовать в маневре.
Вероятно, этим и объясняется тот простой социальный феномен, что в новой империи рабочий класс, получив полное и окончательное освобождение (от хозяина, от средств производства, от товара и от товарного фетишизма), оказался отстранен и от своей культурно-исторической роли - и пролетариата (тем более такого пролетариата, который имел бы намерения к интернациональному объединению для неких судьбоносных целей) более не существует. Собственно говоря, пролетарии всех стран объединяться не собирались, они и не сумели. Объединились же, напротив, богачи всех стран, и интернационал богатых оказался единственным воплощением интернационала, придуманного утопистами девятнадцатого века. Когда же объединение это произошло и вступило в фазу процветания, оно вывело из обращения как труд и продукт, так и культурный символ как историческую субстанцию.
VII
Граждане Новой Империи чувствовали эти перемены - кто слабее, кто сильнее. К числу последних безусловно принадлежал Соломон Моисеевич Рихтер, остро переживавший социальные несправедливости. Узнавая от своего друга Татарникова о новых проделках миллиардеров, об их роскошных пирах и бессмысленных утехах, о буйном разврате избранных и обличенных властью, он мрачнел, поджимал губы.
- Значит, Балабос семь костюмов в сезон меняет? Так? - вопрошал Рихтер, наслушавшись рассказов Татарникова.
- Увы, Соломон, должен вас огорчить. Меняет, да.
- А что же он делает такое, этот мерзавец, чем зарабатывает себе на хлеб?
- А зачем ему зарабатывать, Соломон, - смеялся беззубым ртом Татарников. - Господин Балабос субстанционально имманентен деньгам, или - выражаясь проще - деньги у него и так есть. Зачем работать?
- Но кто-то, значит, работает на него? - допытывался Рихтер. - Он угнетает людей, да?
- Вот вы ругаете его, Соломон, а все его хвалят. Он рабочие места организует для молодежи. Он интеллигенции помогает. Выставки прогрессивных художников устраивает.
И точно: устраивал выставки Балабос, собирал все светлые умы под полную свою руку. И вот еще что надумал бизнесмен Балабос, человек неистощимой фантазии, мужчина во всех отношениях крупный: он призвал отечественных деятелей культуры на улицы города - потрудиться на благо столицы. И раньше (были такие подлые времена, спросите у родителей - они помнят, они расскажут!) власти призывали интеллигенцию выйти на улицы и трудиться - но совсем иначе призывали, в другой, как сказала бы Роза Кранц, коннотации. Лозунги были самые унизительные: мол, все на коммунистический субботник, вырастим-де, город-сад, пророем каналы! И чем все обернулось, спрашивается? Балабос же выдал каждому интеллигенту по лопате - но не для того, чтобы рыть русло Беломорканала, как подумал бы иной испуганный книгочей, совсем не для этого. Это в прежние времена сатрапы, губители отечественной культуры, гнали профессоров на принудительные работы, заставляли их кайлом и лопатой долбить мерзлый грунт. Их, носителей духа, власти принуждали копать землю, и не было худшего унижения, чем бессмысленный физический труд. Не то теперь! Прежде интеллигенты идти трудиться не хотели - а нынче ученые, артисты и художники сами резво выбежали на улицы: только им свистнули, а они уж и готовы были - в дверях стояли, ждали команды. Они даже и за честь почли, еще и нервничали: что-то долго их не кличут, они еще гадали - кого позовут копать, а кого нет. И копали они не канал отнюдь, но ямки для посадки плодовых деревьев, персиков: задумал Балабос, остроумнейший человек, посадить персиковый лес в Москве. Сам хозяин, объемный мужчина, с четырьмя подбородками и шестью складками на затылке, благодушно встречал деятелей культуры, трепал по щеке, лично выдавал им орудия труда и кормил спелыми персиками. И веселились художники и поэты от сознания того, что сам - понимаете, сам! - Балабос запросто здоровается с ними за руку. Вот ведь демократия! В былые времена гнусный партаппаратчик их попросту не заметил бы, за людей их не считали, вот как обстояло дело, а нынешний хозяин - он добрый.
Балабос держал персик за черенок, и спелый плод покачивался перед носом у деятеля культуры. Пожилой, с седыми прядями, деятель культуры, лучился радостью и искренним весельем и тянулся к полной руке Балабоса. Вот ведь как забавно вы придумали, ваше превосходительство, - говорил самый облик деятеля культуры, - исключительно остроумно у вас получилось! Окармливаете вы российскую культуру и - ха-ха-ха! - сами ее между делом и создаете! Находите, так сказать, время в своем плотном рабочем графике и создаете для нас сады культуры. И не сады даже - леса! Чехов описал, как бездушный предприниматель вырубает вишневый сад, чтобы на его месте построить завод, а вы - напротив того - вон целый персиковый лес посадите в недалеком будущем! У вас, г-н Балабос, так все удачно совмещается: и заводы вы строите, и нефть добываете, и вишневые леса сажаете! Это оттого так все получилось, что теперешний капитализм, он с человеческим лицом, и играет на этом полном лице приятная улыбка. Вы, вашество, с глобальными вашими планами, и завод успеете отгрохать, и плодовые деревья посадить. И культуру создадите - и бизнес! Антону Палычу и не снились такие масштабы! Планы у вас, ваше степенство, исполинские! Прямо под стать вашим габаритам планы, шестьдесят шестого размера! Погоди, отвечал жирный Балабос, что нам персиковый лес, мы еще и ананасовый бор забубеним! Сейчас мы развернемся! Говорите, персики не растут в России? У нас палка - и та урожай даст! Прикyпим еще пару-тройку заводиков переработки, отберем лицензию на добычу нефти у опального Шприца, скупим его скважины по дешевке, нагоним туда мужичков из сибирских деревень, посадим рабочих в Молдавии шить брюки по лекалам Булгари - нехай работают уроды за пять баксов в день, потом захапаем центральные магазины, освоим рынки в провинциях, и пойдет дело! И персики в рост пойдут, и ананасы! И культура у нас заколосится! Ты кушай, кушай! И энергично тряс Балабос персиком перед носом у культурного деятеля. Словно доверчивый галчонок, открывал рот культурный деятель, ловя дары цивилизации, заглатывая персик. Ах, сладко! А Балабос персик давал не вдруг, но покачивал им на некотором удалении от ротового отверстия культурного деятеля: постарайся, мол, братец, потяни шейку! И тянул, тянул шейку культурный деятель, и рот раззявливал пошире, и глазами показывал: вот как мне весело, вот уж мы играем, так играем! И рассказывал потом деятель культуры в кругу завистливых знакомых: знаете Балабоса? О-о-о-о! Какой человек! Широкий, щедрый, крупный! О-о-о-о! Так культуру любит! Одно слово - меценат! А знакомые слушали и томились душой: очень им самим хотелось накоротке быть с великим Балабосом, поближе посмотреть на его четыре подбородка. И спрашивали они с волнением и трепетом великим: а правда, что он такой щедрый, что ни попроси - даст? Правда, значительно отвечал обласканный деятель культуры, вот такой уж добрый он человек, открытый и щедрый. Тут на моих глазах Аркадий Владленович Ситный - ну, знаете нашего министра культуры - говорит ему: не хватает мне на проектик культурный сто тысяч. А тот из кармана достает пачку - пожалуйста, говорит, Аркаша! На здоровьечко! Мне, говорит, на культуру ничего не жалко! Вот пусть, говорит, художник Снустиков-Гарбо перформанс в Эрмитаже устроит, или, может, еще что прогрессивное надумаете. Валяйте! Угощайтесь, художники! Вот еще персика не желаете? На, голубчик, попробуй. Сладенький персик!
И только очень циничные люди могли не одобрить того, что бизнесмены выступали спонсорами, меценатами и промоутерами отечественной культуры. Как без них? Ведь и в иных землях, тех, с коих брала пример освобожденная от ига большевизма русская земля, бизнесмены и предприниматели давно стали опорой культуры. Мыслимое разве дело, чтобы без помощи Ричарда Рейли открылась выставка в Британском музее? Стоит ли удивляться тому, что полнощекий министр культуры, Аркадий Владленович Ситный, рекомендовал своих добрых друзей Дупеля и Балабоса как заядлых меценатов и культурных радетелей?
И сами они, меценаты и радетели, сделались непременными участниками культурной жизни - на их вкус равнялись рядовые граждане, их мнение ценили. Скажем, культурный раздел газеты «Бизнесмен», органа безусловно влиятельного, отдавал в обязательном порядке колонку текста моде и ресторанам - а сыщется разве по части моды и ресторанов лучший эксперт, чем предприниматель Балабос? В коротком интервью, данном газете, Балабос показал, что не только умеет тратить деньги на культуру, но и понимает, на что тратит.
- Вы пользуетесь услугами стилиста? - вопрошал интервьюер.
- Мне нравится самому ходить по магазинам, - отвечал Балабос, - чаще такая возможность выдается во время командировок. За границей обычно покупаю аксессуары: часы Patek-Philippe, Gerard-Perregaux и Breguet - в Швейцарии и Франции, запонки - в лондонском Harrods. Проблемы же гардероба предпочитаю решать все-таки в России. То, что цены у нас несколько выше, чем в Европе, меня не огорчает. Зато теперь в России есть все что угодно - мы дышим одним воздухом с цивилизованным миром. В московских бутиках меня хорошо знают как постоянного клиента и всегда стараются обрадовать чем-нибудь из новых коллекций.
- Вижу, костюм у вас от Бриони, - проявлял осведомленность репортер.
- На Brioni я обратил внимание недавно, до этого отдавал предпочтение Ermengildo Zegna, но в этом сезоне у них изменились лекала. Так что привязанность к Ermengildo Zegna я сохранил лишь в части галстуков и рубашек. Рубашки же мне нравятся ручной работы линии Napoli couture.
- А обувь? - волновался репортер, морща лоб, хмуря брови, - как с обувью? Вероятно, английская? - появились в Москве отличные информированные репортеры, все-то они знают, все понимают, - покупаете, вероятно, в Лондоне на Севил Роу, как и большинство интеллигентных москвичей?
- Ничего подобного. Зачем? Наше с вами отечество, - трепал Балабос репортера по щеке своей рукой в перстнях, - теперь нисколько не уступает просвещенной Европе. Обувь я тоже покупаю в Москве, в мультибрендовом магазине на Петровке. Там хороший выбор моих любимых марок Rosso Р., Baldinini, Alberto Guardiani, Cesare Расotti. Английская обувь, которую многие хвалят, мне кажется жестковатой, я предпочитаю итальянскую, на шнурках.
- Что движет вами, когда вы отдаете предпочтение тому или иному стилю? - строчил без устали корреспондент в своем блокноте, понимал значимость материала: расхватают завтра выпуск, как есть раскупят без остатка.
- Пополнить гардероб новым костюмом может сподвигнуть просто смена погоды. В целом получается пять-шесть костюмов в сезон стоимостью от $3000 до $7000 в зависимости от кроя, ткани и модели. Такая скорость кажется мне нормальной- костюмы у меня просто летят.
И репортер кивал головой, понимал. Конечно, как костюмам не летать? Вещи снашиваются от такой стремительной жизни, как ваша. Дела-то ваши, г- н Балабос, они ведь еще быстрее костюмов летят - рассекают, можно сказать, пространство ваши судьбоносные свершения. Сколько костюмов, говорите? Пять костюмов в сезон? То есть примерно двадцать за год? Ну, разве это цифра! Вы, да с вашим темпераментом, - и сто могли бы в год сносить. Человек, насадивший в Северной столице персиковый лес, полное право имеет.
VIII
Именно это интервью и зачитал Рихтеру Татарников, и старик отреагировал бурно: стукнул палкой об пол, едва не расплескал свой чай и всей мимикой выказал недовольство.
- Позор, - сказал Соломон Моисеевич Рихтер, - мне стыдно за интеллигенцию.
- Ну что вы, зачем стыдиться.
- Я пишу книгу, - Соломон Моисеевич выдержал значительную паузу, оглядел комнату, протянул руку за конфетой, и конфета мгновенно образовалась в его руке: Лиза немедленно вложила конфету ему в ладонь, - да, пишу книгу, - Соломон Моисеевич зашуршал бумажкой, разворачивая конфету. Развернул, а бумажке позволил упасть на пол. - Эта книга положит конец бесправию.
- Неужели, Соломон? - поинтересовался Татарников. - И давно вы пишете?
- Всю жизнь. Кхе-кхм. Я пишу эту книгу всю жизнь. Посвящу ее тем, кто в нужде. - Соломон Моисеевич значительно почмокал конфетой. Сформулирую посвящение следующим образом: всем труждающимся и обремененным.
- Кому? - Татарников чуть водкой не поперхнулся.
- Труждающимся и обремененным посвящаю, - торжественно произнес Рихтер.
- Кого же в виду вы имеете, Соломон?
- Жертв эксплуатации.
- И как же будет называться сей труд?
- «Его величество Рабочий Класс».
- Как? - еще более изумился Татарников, даже стакан свой отставил.
- «Его величество Рабочий Класс», - повторил Соломон Моисеевич.
- Послушайте, Соломон, вы хоть одного рабочего в жизни видели?
- Да, видел, - с достоинством сказал Соломон, - и не раз. Если хотите знать, я ездил с группой искусствоведов на стекольный завод «Гусь-Хрустальный». Мы знакомились с производством.
- Но достаточно ли вам этого опыта, Соломон?
- Помимо изучения завода, я также беседовал с рабочими разных профессий.
- Что вы говорите. Когда же это?
- Когда они заходили в нашу квартиру.
- Неужели к вам в квартиру приходят рабочие, Соломон? Вы что же, тайные сходки пролетариев устраиваете? И каких же специальностей рабочие к вам заглядывают? И зачем?
- Разных специальностей. Затрудняюсь назвать эти специальности, я не знаток. Что-то связанное с водоснабжением, полагаю. Приходят они к Татьяне Ивановне. Я с этими людьми лично беседовал. Да, содержательно беседовал.
- Беседовал он, - сказала из кухни Татьяна Ивановна, - как же! Как сантехник приходит, Соломон запирается в спальне; чуть слесарь на порог - Соломон прячется по углам, не может он видеть простых людей.
- Я не могу видеть простых людей? - изумился Соломон Моисеевич. Какое нелепое предположение, хм, я всегда был на стороне именно простого человека. И моя книга, - добавил Соломон Моисеевич, - обращена именно к нему.
- О чем же ваша книга повествует, Соломон? - полюбопытствовал Сергей Ильич.
- О четвертом парадигмальном проекте истории, - торжественно сказал Рихтер, и Татарникова Сергея Ильича аж перекосило: не выносил историк прожектерства.
- Может быть не надо этого простому человеку? - только и проронил Татарников. - Глядишь, и обойдемся мы как-нибудь без глобальных парадигмальных проектов. Что уж нас, сирых, тревожить?
Потрясения Сергея Ильича, однако, на этом не кончились. В тот же день встретился он с отцом Николаем Павлиновым, и тот поведал ему, что намерен сесть за объемный труд, подводящий итоги и расставляющий акценты, и прочее, и прочее. Есть такой план, Сереженька, сказал протоиерей, надо, надо подвести итоги. В осуществимость такого проекта Татарников не поверил, памятуя о занятости отца Николая и о непростом его графике, однако поинтересовался, как же будет именоваться задуманный труд. Отец Николай охотно ответил:
- Так ведь название само напрашивается, Сереженька. Неужели ты еще не догадался? «Град Божий-2», разве непонятно?
- Сиквел, стало быть, Августина? - сказал язвительный историк и тут же получил ответ:
- Не столько сиквел, Сереженька, сколько дополнение и уточнение. Всякое явление нуждается в своей паре.
- Как хороший камамбер и портвейн, - не удержался Сергей Ильич.
- При чем здесь камамбер? К портвейну полагается стилтон.
IX
Вечером того же дня Сергей Ильич Татарников отправился в свой любимый киоск в подземном переходе и приобрел литровую бутыль - она одна и могла снять то волнение и непокой, которые он все чаще испытывал, общаясь со своими друзьями. Раздражение Сергея Ильича понять было легко: все беды и неурядицы историк связывал именно с утопиями и проектами, которые корежили естественный (как представлялось ему) ход истории. Что им неймется, думал историк, наливая стакан, вот ведь характеры! Нет бы тихо сидеть дома, книжки читать. Однако вне зависимости от того, насколько успешен оказался бы вселенский проект Соломона Рихтера или, напротив, совершенно неубедителен - вне зависимости от этого, а также и от желания Сергея Ильича, глобальный проект переустройства мира существовал; более того, он был уже принят к исполнению; даже того более: работа уже вовсю велась, и нешуточная.
Желающие могли заметить, как изменилась жизнь страны, - точнее говоря, не заметить этого было трудно. Люди основательные и положительные говорили так: видите, жизнь стабилизировалась. Переходный период миновал. Видите, вот и бюджет выправился, и производственные показатели обнадеживают, и валюта укрепилась. А посмотрите на строительство! На строительство посмотрите! - Подумаешь, строительство, - отвечали скептики, - строят виллы для богатых, трущобы для бедных - разве что переменилось? - На социальное строительство обратите внимание! Помните, вы все сетовали, мол, бандитов много? А нынче? Где те бандиты? Вот Тофик Левкоев - он, что же, бандит? Нет, далеко не бандит: уважаемый бизнесмен. Обстановка в стране переменилась. Вертикаль власти утвердилась. Парламент? И с парламентом все в порядке: крепко держит руль Герман Федорович Басманов - он и правым фракциям дает высказаться, и левым, а корабль государственности с курса не сворачивает, идет точно по намеченному кильватеру, без опасных отклонений. А взгляните-ка на администрирование. Вот где одни победы и достижения! Чувствуется рука опытного человека - Ивана Михайловича Лугового. Как он умеет примирить интересы и интриги промышленных кланов, соединить усилия предпринимателей на благо новой государственности! Раньше Тофик норовил урвать себе кусок пожирнее, а Шприц - отхватить порцию побольше; не то теперь! Все бизнесмены действуют заодно - и, заметьте, в полном согласии с западными партнерами. На президента поглядите, в конце-то концов! Вы поглядите попристальнее! Помните, какие правители у нас были прежде - бирюки, алкоголики, партийцы, невежи, кровососы! А нынешний? Мобильный, современный, адекватный! И в гольф играет, и на иностранных языках говорит! Он и с английским премьером накоротке, и с американским президентом за своего. А уж с итальянским главой - Берлускони, так просто брат родной! Они друг у друга на дачах летом отдыхают, барбекю жарят и песни хором поют, вот как дело в мире устроилось! Весь мир нынче - одна семья! Разброд миновал, опасность анархии устранили, хаос - ликвидирован. Теперь во всем человечестве один, общий гуманистический порядок - не видите, что ли?! Так говорили люди наблюдательные, а если кто из них отличался еще и образованностью, то мог присовокупить, что мечта великого флорентийца о мировом правительстве сбылась. Пусть не Рим, но некий обобщенный центр управляет человечеством, однако делает он это в целях всеобщего благоденствия и нравственного мужания. Пессимисты отвечали: ага! Вот, значит, как! Центр общего управления! Опять закручивают гайки! Ох-ох-ох! Возвращаются сталинские времена! Пошел слух, что закрывают «Европейский вестник»! Стабилизация в нашей стране - она, знаете ли, чревата! Вот-вот начнут опять рот затыкать и руки вязать. Вот уже Виктору Чирикову не дали материал опубликовать, - и пессимисты по традиции закатывали испуганные глаза и заламывали нервные руки. Люди основательные указывали на то, что процесс демократизации необратим и сюрпризов не предвидится. Понимаете, - говорили они, - теперь все в мире так связано, что невозможно насадить тоталитарный режим в одной стране, если весь мир против. А как же судьба Чирикова? - не унимались пессимисты. - Он, рассказывают, такие стихи тут написал. - Неужели? - морщились люди положительные, неужели прямо стихи? Прошло время стихов. - Да, написал стихи, представьте. И вот уже реакция - извольте: травля, как в прежние времена.
С Чириковым, главным редактором «Европейского вестника», и впрямь творилось неладное. Внешне Виктор Чириков (Витюнчик, как именовали его близкие знакомые) оставался таким же, как и прежде, то есть круглолицым шатеном, жовиальным человеком, знатоком различных сортов пива и любителем дружеского застолья; он, по обыкновению, продолжал развлекать редакцию отчетами о своих любовных приключениях и алкоголических эксцессах, однако, оставаясь наедине с собой, он менялся. Непонятная тоска теснила его грудь, тревога, природу которой он и сам бы не смог сформулировать, подступала к его сердцу. Чего страшился он? Непонятно. Да что же это со мной, в который раз спрашивал он себя, ведь не сумасшедший же я в самом деле, не паникер, не истерик. Ну, допустим, донесли куда следует, рассказали про мои стишки. Ну и что? Подумаешь, криминал! Курам на смех. Теперь чего только не пишут: вон, один призывает собирать бригады национал-большевиков и кидать лимонки в буржуев- нефтяников, и ничего. Теперь все вразброд - один культурный деятель за чеченцев, другой против: пожалуйста, все можно! Да мало ли кто про что пишет? Теперь время такое - каждый норовит ляпнуть нечто несуразное, чтоб его заметили. Однако внутренний голос подсказывал ему, что его случай - особый. Нет, не ляпнуть абы что, но сформулировать продуманное отношение к стране, к режиму, к самому устройству вещей - вот на что он покусился. Взять хотя бы первую строчку его злосчастного опуса: «строй новый построен, да старого вроде». Казалось бы, чепуха, ан нет! За этим стоит вся российская история от Гостомысла, с бессмысленными реформами, с фальшивыми либерализациями. За этой строкой - опьянение петровскими затеями и николаевское похмелье, прожекты большевиков и колымские лагеря, горбачевские посулы и путинские погоны. Весь горький опыт отечества говорит одно: сломай лагерный барак, раскатай его по бревнышку, разбери по кирпичу и начни строить на его месте храм Божий но выйдет то же самое: опять получится тот же самый лагерный барак. Потому что материалов, опыта строительства и чертежей - хватает только на барак, ни на что иное. Как не пыжься, ни хрена у тебя не выйдет: чтобы строить соборы, надобно иметь материал для соборов и обучиться их строить. А у нас - тьфу, одна сплошная инсталляция! Там гвоздь вбили, а стена гнилая, тут стул поставили а зачем ему тут стоять, коли стол совсем в другом месте? Эх, дизайнеры-оформители! И Чириков выбранился. Посмотрите на так называемую перестройку - вся эта комедия заняла десять лет, те самые привычные российские десять лет, что ушли на хрущевскую оттепель, на НЭП, на Петровские реформы. Исторический цикл завершен - Россия вернулась к себе самой. Вот написал я одну эту строчку - «строй новый построен, да старого вроде» - и все сделалось ясно. А таких вещей не прощают в принципе. Добро бы напился и орал: долой! Никому этакий крикун не страшен. А вот подвергнуть анализу основу основ - такого не простят. И чем отчетливее он выговаривал себе этот диагноз, тем виднее становилась ему его собственная судьба. И впрямь что-то стало меняться вокруг него: вот уже и глаза сослуживцы прячут, вот уже и бывший заместитель его, Дима Кротов, новоиспеченный политический бог, тот, что раньше работал с ним бок о бок, так и заходить в редакцию перестал. Говорит, работы много, за полночь засиживаюсь в Думе. Врет. И на гостей время у него есть, и на каких гостей! Хаживает Кротов, по слухам, в дом Лугового; о чем они, интересно, там говорят? Ему, Чирикову, кости перемывают? Обкладывают, обкладывают со всех сторон, как волка. Куда бежать? Они сами выталкивали его в творчество. Атмосфера вокруг сгущалась, и порой не оставалось ничего иного, как закрыться одному в кабинете, наедине с мыслями, с поэзией, написать строчку или две - ведь творчество - единственное, что не подведет и не предаст. Раз они так со мной, сказал он себе однажды, то я и буду неумолим. Я пройду весь этот крестный путь до самой Голгофы. Я выговорюсь до конца, до буквы. Ах, значит, вы испугались правды? Подождите, я скажу вам такую правду, что весь ваш поганый строй рассыплется трухой! Однажды, сидя за гранками в кабинете редакции, он принялся было сочинять очередную версификацию классики (излюбленный жанр московских гостиных) и сам не заметил, как сложил собственный оригинальный стих. Стихи потрясли его своим пророческим, трагическим звучанием:
Шагали в ряд пятнадцать пар.
Хрустели сапоги.
Мороз. У рта крутился пар,
И не видать ни зги.
След в след печатая в снегу,
Я думал: как на грех -
Идти я дальше не могу,
Шаг в сторону - побег.
Странно было Виктору Чирикову, жителю благополучной Москвы, обитателю квартиры, снабженной центральным отоплением, написать такую северную балладу. Он сроду не отъезжал от столицы севернее Волоколамска, мороз переносил крайне плохо, боролся с холодом горячительными напитками - с чего бы в мозгу его родилась такая поэма? Да, действительно, как-то по телевизору он видел фильм о полярных исследователях, обратил внимание на пар, выходящий у них изо рта при сильном морозе, но практически это и все, что знал он о тех недобрых краях. Но лагерь? Но зона? Вертухай, клифт, конвой, пайка - слова эти звучали для него волнующей музыкой. С чего бы вдруг его потянуло на лагерные вирши? Он и сам не знал. Вероятно, сказал себе Чириков, именно история лагерей и есть адекватное воплощение российской истории. Именно лагерная лексика и есть наиболее точный язык для передачи российской природы. В сущности, все мы - подконвойные. В редакции он опус читать не стал, но Диме Кротову, когда тот наконец заглянул по старой дружбе «я на минуту, Витюнчик!» - сказал Дима, и небывалая фамильярность потрясла Чирикова), Диме Кротову за закрытыми дверями кабинета - прочел.
- Ты это про Россию? - поинтересовался Кротов.
- Так, вообще про мир, - неопределенно ответил Чириков, - везде, понимаешь ли, несправедливость.
- Про Россию, конечно. Мороз, сапоги. Небось, не про Лос-Анжелес. Где ты еще такие лагеря найдешь, только у нас.
- И что? - спросил Чириков Кротова. - Ты глаз-то, Димочка, не отводи, скажи, что думаешь?
- Романтика шестидесятых, - сказал Кротов, - все это устарело.
- Как же это может устареть? - всплеснул руками автор, - неужто лагеря перевелись по Расее-матушке? Ну-ка расскажи мне, ты в сферы вхож, все знаешь.