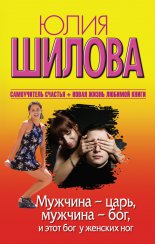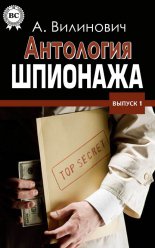СССР™ Идиатуллин Шамиль

Я знамени врага отстаивал бы честь!
Алексей ТолстойТак уж вышло, что Сергей и Дима оказались взаперти одновременно, по чистой случайности. В дальнейшем случайности были не такими чистыми, но удивительно плотными.
Первые несколько дней Дима не мог поверить, что все это не шутка либо недоразумение. Он пришел в себя в тускло – «полуестественно» – освещенном незнакомом зале. Зале не в смысле «гостиной в обычной квартире», а в смысле «большом помещении для спортивных занятий или зрелищных мероприятий». Не сильно большом – союзный стандарт, 9x8. Зал был отделан начерно – вернее, набело: стеновые и потолочные панели натянули, но не выровняли, деревянный пол покрасили в два слоя, но не успели залакировать. Дима лежал на задвинутой в угол кровати – стандартной, какие штамповались на миасской фабрике Союза и служили лежбищем решительно для всех союзников – кроме, может быть, начальства.
Которое решило достичь понимания с работниками, выступающими за свои права, довольно странным образом. Дима сел, неторопливо повел руками из стороны в сторону, потом громко свистнул. Говорить с бравинскими ему было не о чем, а датчикам звука-движения хватит и этого.
Либо не хватило, либо бравинские решили подзатянуть шутку, но никто с объяснениями или угрозами не объявился. Ладно. Тогда подъем и осмотр.
В ближнем углу стоял кухонный блок со встроенными холодильником, печкой, чайником и чем-то еще, в противоположный угол умудрились впихнуть санблок – тоже стандартный номер два, унитаз-раковина-душ-с-поддоном. Последний угол был свободен – ну или можно считать, что его пространство было застолблено дверью – не межкомнатной, а входной. Зал явно находился в полуподвале, выйти из которого можно было лишь в холл, если это был проект 0-4, или в коридорчик с переходом в два зала поменьше – для проекта 0-7. Впрочем, Димке не светил вообще никакой выход – дверь оказалась запертой и не откликалась даже слабым колыханием на пинки или попытки высадить ручку. Такие двери с противовандальным электрозамком отпирались только «союзником», которого у Димки не было, либо вынимались вместе с аркой стены, вырезанной по периметру. Но и для работы по дом-панелям у Димки не было никаких подручных средств, а сразу изображать дятла с помощью вывернутого смесителя или столешницы он постеснялся. Не хотелось выглядеть паникером и истериком в глазах товарищей.
В том, что Бравин озаботился съемкой узилища и готов использовать неприглядные или просто смешные эпизоды против Димкиных интересов, Маклаков не сомневался. Чем меньше он подарит выигрышного материала врагу, тем скорее начальнички поймут бессмысленность заточения столь скучного пленного. А ребята, которые наверняка уже ставят весь Союз на уши в связи с пропажей профлидера, бравинцев еще и поторопят.
С этой мыслью Дима подошел к холодильнику, полностью удовлетворился его внутренностями – в основном выездные обеды, и с мясом, и с рыбой, плюс немного фруктов, – помыл яблоко, оставил его отогреваться на столе, вернулся к кровати и лег, закинув руки за голову. Ему было чего ждать.
***
Первые несколько дней Сергей не мог поверить, что все так и останется в рамках невеселых шуток и вразумлений. То есть стартовые сутки он провел в убежденности, что прихвачен по товарищеской наводке. Валю Дорофеева он разглядел довольно четко, и тот Сергея видел, вроде даже нацелился сближаться и здравкаться, но это уже не факт: Сергей предпочел продеться в неплотно бредущую компанию молодежи и поскорее затеряться в толпе гуляк, добросовестно окуривающих Кировский сквер. Взяли его полтора часа спустя у подъезда дома на Сухэ-Батора, где Кузнецов снимал угол, и отвезли из довольно чистой, хоть и пованивающей мусоркой сквозь апельсиновый ароматизатор однушки в довольно чистую, хоть и пованивающую сортиром сквозь хлорку одиночку.
Задержание по наводке союзных в нынешних обстоятельствах выглядело довольно странно, но половинки кузнецовского мозга за последний месяц ощутимо сместились друг относительно друга, так что поначалу он и не удивился ничему, а честно ждал этапирования и показательной кары пред лицом бывших товарищей.
Допрос, проведенный на следующее утро жирноватым дознавателем, фамилию которого Кузнецов не запомнил, заставил уверенность пошатнуться. Жирноватый был снисходительно-вежливым и невнятным: советовал очень хорошо подумать и все рассказать, но сперва очень хорошо подумать. Нормальных вопросов Сергей не дождался, встречных тем более решил не задавать, как и выяснять, чего ради он задержан и что ему предъявляют. На отработку бравинско-камаловского заказа все не слишком походило. Но плевать Сергею было, честно говоря. Да и отвык он с такими дураками общаться.
Накачка – допросом ее назвать невозможно – уложилась в полтора часа, в течение которых Сергей молчал или кашлял: жирноватый курил. То есть монстр дедукции довольно быстро сообразил, в чем дело, загасил пятый окурок и даже проветрил кабинет, но танцы шершавчиков по гортани было уже не остановить. Жирноватый попрощался с Сергеем таким многообещающим напоминанием про хорошенько все-таки подумайте, что было до рези в глазах понятно: думать придется в пресс-хате. Однако ночь прошла все в той же одиночке.
На следующий день Кузнецова потрошил уже следователь Кучило, белобрысый парень тоже плотнее необходимого – видимо, следственное управление могло похвастаться хорошей столовой. В отличие от дознавателя, следователь самоотверженно не курил – хотя воняло от него знатно – и был предельно конкретен. Он сообщил, что гражданин Кузнецов подозревается по статье 105, часть 2, Уголовного кодекса в убийстве граждан Климова и Нагатина, и жестко объяснил нелепость отпирательств: «Сергей Владимирович, вы же умный человек, а идете, простите уж, дурачком, паровозиком. А вагонов нету: вас все сдали, и кроме вас – никого. Бравин, Камалов и этот... Баранов – они ведь соловьем поют, хором – и все против вас. А вы тут Зою Космодемьянскую изображаете. Думаете, отмолчаться удастся? Уверяю вас – не удастся».
Но вроде удалось. Кучило простился без угроз и намеков, оттого Кузнецов всерьез приготовился к последнему и решительному, с заточкой в глаз, но привели его снова в одиночку.
Третий допрос оказался самым неприятным. Кучило все-таки начал зачитывать показания Камалова и Бравина, кусками – и куски эти сильно походили на подлинные, по крайней мере специфическое бравинское «отсюда следует» там прошмыгнуло. Сергей заставил себя не дрогнуть и дождался вознаграждения: через пару страниц Кучило повторил – и сделал кратенькую паузу, ловя реакцию подследственного. Ага, подумал Кузнецов и повеселел было, но тут Кучило сказал про Дашу. Сказал, что вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Свиридовой практически решен и оперативники за ней уже отправились. Вы, наверное, согласны со всем, раз продолжаете молчать. В конце недели мы вам устроим очную ставку – и посмотрим, не пожалеете ли вы, что молчали. Свиридова-то молчать не будет, не сомневайтесь, мы умеем девушек как следует разговаривать.
Кузнецов сдержался, почувствовал, что его начинает колотить, а нос и глаза заливает жарким свинцом. Корень из ста пятидесяти – нет, это просто, двенадцать что-то с четвертью, давай лучше про то, что Камалов загадывал. Задание номер один – вспомнить вопрос, задание номер два – вспомнить ответ. Что там еще этот сучонок про доказательную базу свиристит – все, не слушаем. Вспомнил. Что-то про дифференциальные операторы. Точно, зависимость волнового уравнения, как уж его, отдельное название, монашеское какое-то, от лапласиана. Уф. Даламбертиан.
Кучило запнулся, заметив, что Кузнецов, почти дошедший до кондиции, обмяк и разжал кулаки. А через полминуты плавно выдохнул, что-то быстренько нарисовал пальцем на ладони и улыбнулся себе под нос. Черт. Сорвался. Кошмарить дальше смысла не было.
Кучило, стараясь не выпадать из интонации, попрощался с подследственным, посоветовал ему готовиться к очной ставке, дождался, пока Кузнецова уведут, и швырнул папку с протоколами допросов и прочими муляжами в дальний угол, чтобы ударилась и разлетелась.
А Кузнецов, пока шел до камеры – пусть даже общей и набитой урками и маньяками, – улыбался уже открыто. Потому что помнил насмерть, казалось, позабытые решения дифференциальных уравнений в частных производных, а что не помнил, мог вывести аналитическим способом. Например, понял он, ожидая лицом в стену, пока откроется решетка первого этажа, что если оперативники отправились за Дашей только сейчас, значит, допрашивать Камалова с Бравиным было некому. Сами они в поле досягаемости следствия оказались бы лишь в том случае, если бы хотели накрыть меня милицейскими средствами. В таком случае я, по крайней мере на первых порах, должен проходить по делу главным обвиняемым. Раз мы этого не наблюдаем, раз я толком не обвинен и как следует не арестован, значит, все зачитанные следаком показания Камалова и остальных – фальшак. Раз мы наблюдаем решительный подкоп под наших, значит, налицо очередное обострение – соответственно, вряд ли оперативники доедут до Союза в конце этой – да какой угодно – недели. Значит, все, что у них есть против меня и Союза, – это ничем заветным не подкрепленные заявы бандюковских родственников. А будет у них против меня и Союза только то, что я сам дам. Ну и будем молчать дальше.
Молчать пришлось в инициативном режиме – больше Кузнецова на допрос не вызывали. О нем будто совсем забыли, кормили, и то спасибо, хотя подаваемая масса заслуживала не благодарностей, а внимания специалистов по паранормальным явлениям. Кузнецов выедал условно съедобные фрагменты без жалоб и вопросов, с какой стати и как долго ему сидеть без обвинения и ареста. Он увлеченно вспоминал университетскую программу, то и дело хватался за «союзник», вспоминал, что его нет, и выводил пальцем на плохо окрашенной стене цепочки невидимых миру формул. Голова ныла с отвычки, дырки в памяти изводили хуже жилки, застрявшей промеж зубов, тогда он падал на кулаки и отжимался до состояния мокрой тряпки – и в этом был какой-то смысл, как и в уравнениях из позапозапрошлой жизни. В воспоминаниях о более свежих жизнях смысла не было, в гаданиях о будущем тем более.
***
Дима будущее знал четко: от его выхода из темницы до сноса антинародного режима, запирающего людей в подвалы, пройдет не больше суток. Он рассуждал не менее логично, хоть и без опоры на аппарат высшей математики.
Дима и его единомышленники честно работали, выполняли все распоряжения начальства и вообще все пункты договора с Союзом – значит, могли настаивать на том, чтобы и Союз полностью и вовремя выполнял свои обязательства. Заточение Димы в подвал произошло подло и скрытно – значит, было абсолютно незаконным, значит, законным образом против маклаковцев бороться не удавалось, значит, сам Дима действовал абсолютно правильно и законно. Бравин заместитель исполнительного директора Союза – значит, руководство Союза лично, нагло и подло нарушает законодательство, уже не только трудовое, но и уголовное, и не рассказывайте мне про самодеятельность отдельно взятого начальника. За такие вещи как минимум один олигарх поплатился потерей бизнеса и карьеры – подробностей и фамилий Дима не помнил, но в том, что неприятности у того буржуя начались из-за похищения сотрудника, был уверен. Значит, теперь и Союз можно точно так же накрыть медным тазом, ну или закрыть. Жалко, но, во-первых, виноват в этом не Дима, а гад Бравин. Во-вторых, если Союз пускает к власти таких гадов, да еще и обманывает рабочих, которых лживо называет главными людьми, – нужен ли он вообще? Значит, он не нужен.
Дима уперся в вывод тоже на третий день. То есть вывод все время заслонял полгоризонта, но Дима пытался обойти его или перелезть поверху: Союз плох, но прочее хуже, всегда чем-то приходится жертвовать, иногда надо немного потерпеть, я таких веселых и счастливых людей не видел никогда, они спасают страну от пьянства, сырьевой иглы и, как правильно говорил гаденыш Бравин, кавказско-азиатско-китайского напора. Обходные маневры вроде удавались, но все равно приводили к тому же застящему горизонт и счастье факту: Союз врет своим и ломает тех, кого считает чужим. Такой Союз нам не нужен. Дима вставал, шел к кухонному блоку, съедал яблоко или половину обеда – при лежаче-сидячей жизни, если ее можно так назвать, больше не лезло, – возвращался на кровать и искал новые маршруты. Но снова втыкался в ту же неизбежность. Союз должен быть разрушен. До основания.
***
Основание Союза Сергей вспоминал с теплой печалью, но особенно тосковал по последнему году – когда решил вернуться, рыком распугал зверье и выволок Камалова из сугроба, когда окончательно отказался от намерения мстить, когда успокоился, когда ощутил себя дома, в своем счастливом кругу, и когда в награду получил Дашу. Даша была совсем не похожа на Маринку, при том, что обе были рослыми и фигуристыми. Маринка постоянно болтала очаровательные глупости, юлой крутилась вокруг, заглядывала в глаза и чмокала в носик... а теперь в щечку... а теперь в шейку, фу, паскуда. А Дашка, всё, всё, всё, хватит!
Кто мне мешал все рассказать – не сразу, так год назад, полгода, месяц назад, пока у совета глаза еще от подозрительности помидорками не выпучились. Не всем рассказать, так только совету, только Камалову с Дашкой, только Дашке.
А ведь она меня не простит, вдруг с ошарашивающей ясностью понял Сергей и даже засмеялся, чтобы не заплакать. Плакать совсем не годилось. И надзиратели увидят – тут же ведь на допрос поволокут, вскрывать, пока раковинка сочится. Да и вообще – нельзя.
Ладно, сам виноват. И слезы лью, и о-ха-ю, запел Сергей, чтобы не плакать и не охать, – про себя, конечно, чего тюремщиков баловать и следователей обижать. Скажут: в камере поёшь, и у нас запоешь как миленький. И как тогда объяснять, что мне есть что спеть перед Всевышним, – а вы, ребята, хоть пирамидкой постройтесь, причем все раком и с ножкой вверх, – и тогда ни слова от меня не услышите. Я с животными не разговариваю.
Математика прошла и ушла как передовые части Красной армии, только пыль да туман остались и отдельные цифры вразброс, и по этой пыли, хрустя цифрами, беззвучным мычанием катились Кривая да Нелегкая, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья, четыре четверти пути и другие песенки, которых Сергей всегда помнил немерено, а теперь вообще захлебнулся в них, отвлекаясь только на беззвучные же разговоры с ребятами, с которыми лежал в стеклянной баночке, дрались мы, – это к лучшему: узнал, кто ядовит, как Камалов, которому я еще морду-то набью, каратилко вшивый, не колышет его, понимаешь, жаль, что за таким мудаком последнее слово осталось, да какое, – неделю потом морду на плечо держал, – с хмурым юнкером Бравиным и с любимой дурой Дашкой, самой умной и прекрасной дурой на Земле и даже в Союзе. Я все сейчас объясню, говорил он, не размыкая губ, досадливо кривился от киношной никчемности фразы, падал, отжимался, вставал, просветлев челом, потому что придумал, и снова начинал: я все сейчас объясню. Объяснять было все равно что волос с мокрых рук стряхивать, муторно и бессмысленно, но все равно: я сейчас все объясню.
***
Дима не собирался никому ничего объяснять. Все и так было понятно. Надо было добивать. Надо было говорить лютую правду, против которой не выстоит ни один каземат.
Вот тут вы молодцы, говорил он, застыв перед приросшей дверью, вот тут вы, сука, честные, – назвались совком, полезайте в пузо. Для вас с самого начала важнее было не содержание, а форма, не дело, а слово, главное, чтобы Союз, чтобы совок во всей людоедской сути, чтобы начальству жопы лизали истово, а если не лижешь, то враг, даже если остальное истово делаешь. Самое обидное, что жопа не ваша и даже не начальника, а так, ничья, жопа мира – поклялись быть верной ей и верите. А это глупо, в жопу-то верить. Нет у вас ничего, только утыренные из народной кучи деньги, случайные начальники да случайные изделия номер раз-два-три, проверено электроникой. Вы эвээмкой решили мир спасти? Аккумулятором страну спасти захотели? Электромобильчиком – народ? Народу, ребят, – вы, может, удивитесь, – электромобильчик не нужен, и эвээмка ему не нужна. И Союз ваш ему не нужен. Ему нужны правда и справедливость. И если вы врете народу, народ вас сметет. Так всегда было, и так всегда будет, хоть сажайте, а хоть вешайте. Дверь откройте, бараны. Откройте, я сказал!
На пятый день Дима заподозрил, что может остаться здесь надолго и, быть может, даже до смерти. Дверь не поддавалась, стена не пробивалась ни ногами, ни выдранным смесителем. От идеи запалить кровать и посмотреть, что получится, Дима отказался. Во-первых, долго было возиться с поджигающим элементом, а главное – картинка могла получиться несимпатичной и до боли нелепой, ну или до нелепости болезненной. Даже если тюремщики наблюдали за тем, что происходит в этой как бы камере,– в чем Дима сомневался все больше.
Он перестал мыться – смеситель на место не вставал, ну и ладно, – стал больше есть и спать, а прочее время проводил либо скорчившись на кровати лицом в стену, либо выкрикивая все более точные и горькие слова перед дверью. Счет дням Дима потерял. Но, судя по щетине и ногтям, прошло больше недели, когда первый же вопль: «Гады!», ударившись в дверь, привел в действие механизм замка.
Дверь мягко щелкнула, приоткрылась и застыла.
Дима сперва застыл на месте, не понимая. Сообразил и кинулся удерживать щель ногой, пока не захлопнулась.
Не захлопнулась и даже не собиралась.
Дима оглянулся на взъерошенную кровать с недоеденным обедом, потоптался и вышел за дверь.
Там был темный коридорчик с еще двумя дверями и выходом на лестницу – все-таки 0-7. В коридорчике не было никого, по лестнице вроде кто-то удалялся. Дима бросился следом, сперва неуклюже, отвык бегать-то, но быстро освоился, гулко выскочил в залитый светом холл – у дальней стены хлопнула дверь, сразу за ней вторая – и, щурясь, побежал на звук.
Двери хлопнули и за спиной Димы, стужа обжала, глаза пробило солнце, белое и выжимающее слезы. Дима всхлипнул, поспешно вытер глаза, огляделся и увидел спину, удаляющуюся от недостроенного ДКС-2, – вот, оказывается, что это, – в сторону бассейна и проспекта Мира.
– Бравин! – грозно крикнул он, но сразу понял, что это не Бравин.
Всмотрелся и побежал следом, окликая на ходу:
– Валер! Валера! Паршев, ну погоди же!
Паршев на «Ну, погоди» не откликнулся, шел себе на крейсерской. Димка, догнав его, положил руку на плечо. Паршев дернул плечом, сбрасывая руку, но все-таки остановился, повернулся и, сунув руки в карманы, принялся разглядывать Диму с непонятным выражением. Неприятным выражением.
– Тебе Бравин ключ дал? – спросил Дима. – Вот сука, он меня усыпил и здесь неделю, прикинь, в тюрьме держал, чтобы я их гадский Союз не разнес по кочкам.
Паршев рассматривал жидкую Димкину бороду.
– Ну все, копец им, Валер, – сказал Дима, тихо одуревая от свежести и ясности вокруг и внутри, и бог уж с подмышками и саднящим от грязи скальпом. – Я сейчас все скажу, к ребятам пойдем – вообще все. Пусть молятся, уроды. Копец их Союзу.
Паршев резко вскинул руку перед самым носом Димки, который не дернулся – не заметил начала движения, если честно, – потер шрам на лбу и сказал:
– Козел ты, Маклаков. Надо было тебе тогда бошку сломать.
Развернулся и в том же темпе пошел дальше.
Дима растерянно посмотрел ему вслед и отправился искать того, кто объяснит ему, что стряслось. Но все знакомые ребята, которых на улицах было как в праздник, почему-то реагировали на Димку не лучше Валерки. Лишь через полчаса Маклаков напал на работягу с первого участка, переведенного с энской площадки полтора месяца назад и потому незнакомого. И последним в Союзе узнал, что его заветная мечта сбылась и его дело победило.
Союза больше нет.
***
А Сергей не знал этого еще дольше. Он пел, отжимался и вел неслышные миру и камере беседы. И миновало немало песен, отжиманий и бесед, прежде чем его вытащили из камеры, привели в кабинет к совсем незнакомому прокурору, который протянул ему полузабытую телефонную трубку, – и из нее донеслось несколько совсем неожиданных фраз.
4
Мой адрес – не дом, и не улица,
Мой адрес Советский Союз.
Владимир Харитонов
Рычев долго отказывался ехать со мной, наконец согласился, оговорившись, что надо обойтись без тональности вечера воспоминаний. Я и сам не намеревался кричать: «А помните, как мы вас здесь с жильем разыграли!» или: «А вот тут у нас грейдер утонул, четыре троса порвали, пока его вытащили!»
И вроде поначалу удавалось обходиться без похоронности. Все равно хватило Рычева ненадолго.
На первой площадке он был молодцом. В опечатанные цеха соваться не стал – да и чего туда соваться, половину оборудования уже выкорчевали и оттащили на железнодорожный терминал, оставшуюся часть, в основном тяжелые станки и спецоснастку, законсервировали наглухо и чуть ли не жидким пластиком залили до момента, когда будет готова принимающая площадка в Омске. Мы прошли по опоясывающей корпус галерее, Рычев сунулся было к балке с краном и комплексом точечной сварки, оглянулся на меня и передумал. Я даже испугаться не успел.
Рассыпая эхо по задавленному тишиной корпусу, благополучно спустились к линии приемки. Я думал, Рычев пройдет ее до финиша и непременно выразит сожаление в связи с демонтажом участка ОТК. Но нет, он, сунув руки в карманы, огляделся по сторонам и спросил:
– Галиакбар, на момент остановки что с выполнением плана было?
– Под триста процентов, – сказал я. – Двадцать семь платформ, полсотни движков. Почти вся перспектива следующего года.
– И это при том, что последние два месяца денег вообще не поступало?
– И это при том, – повторил я.
Рычев цыкнул зубом и сказал:
– Пошли, наверное, на вторую.
На второй было чуть повеселее и всяко людней, так что мне не пришлось снова сооружать корявую схему «союзник»–рация–«союзник», чтобы войти, не подняв при этом тревогу всесоюзной громкости. Характерно, что сперва я подумал именно «всесоюзной», потом поправился: «Теперь надо говорить "федеральной"». Но это была такая смехотворная глупость, что я тут же сердито вернулся к подлинному варианту.
Тем более что ребята на второй площадке были не из эвакуационной команды, бившей копытами в Белой Юрте, а постоянные работники – с Викторовым во главе. И даже орхидеи цвели, как будто все в порядке и не разложены вокруг них упаковочные корзины и мешки.
Викторов радостно поздоровался – со мною двумя руками, запомнил все-таки, а с Мак Санычем аккуратно и мяконько.
Все вообще смотрели на Рычева с сочувствием, как на осиротевшего соседа, отводили глаза и чуть не по голове подходили гладить. Орать на них было не с руки, приходилось мириться – но неудивительно, что Рычев так быстро свернул программу последнего обхода.
Вторая площадка, в отличие от первой, клепала продукт до последнего, так что оба участка сдачи были заставлены «кипчаками» разной степени готовности, будто картинка из учебника технической эволюции. Вокруг хороводились ребята при платформах: грузили и потихонечку выталкивали в сторону ветки железной дороги.
Рычев подошел к совсем раздетому началу шеренги, погладил сверкающий каркас.
– Куда, в Томск?
– Нет, – ответил Викторов и тоже провел пальцами по остову, – в Томск предпоследняя готовность идет, вон тот десяток. А эти четыре в спеццентр при НИИАТ отправляют, откуда Валенчук в свое время ушел.
– А он не возвращается разве? – быстро спросил я.
– Думает пока, – подавив вздох, сказал Викторов. – Ну а пока он думает, они, значит, изучать намерены. Чтобы самим быть готовыми и умелыми, если он не надумает.
– Терминатор, блин, – сказал нервный жилистый парень со шрамом, Паршев, кажется.
– В смысле? – не понял Викторов.
– Ну, в кино там Терминатора восстановили по руке, которая только и осталась. Потом целую расу роботов сделали. Потом они восстали и людей перебили.
– Герасимов это называется, – назидательно сказал Рычев. – Когда по руке или лобной кости ушедшую расу восстанавливают.
– А потом «кипчаки» восстанут и перебьют всех врагов, – сказал Паршев, глядя в пространство.
Я хмыкнул, похлопал по ажурному сплетению балок и сказал:
– Ладно, грузите. Мак Саныч, теперь в НТЦ или на третий?
– Все, Алик, дальше сам.
Он за руку попрощался со всеми, до кого дотянулся, отсалютовал дальним – те ответили кивками – и решительно пошел к дальним воротам, у которых мы оставили машину.
– Думал по городу на вагончике прокатиться, на берег выйти, но нет. Не могу я.
– А я, значит, могу? – спросил я.
Рычев остановился и издали посмотрел, как каркас въезжает на поводящую боками платформу.
– А я, значит, могу, – с некоторым удивлением сказал я. – Ладно, митинг на четыре назначен. Малый совет до того проведем?
– А смысл? – спросил Рычев.
– Блин.
– Ну ладно, ладно. Часа нам хватит.
Я хотел привести какую-нибудь пословицу, но все они были больно уж тягостными, потому повел плечом. Синдром прикушенного языка: больно, глупо, шипение вместо слов и зализывать нечем.
В НТЦ я не пошел, чего уж, прямиком направился на третью площадку – и еле вырвался. Свертывание производства там завершилось еще на прошлой неделе, так что демонтаж оборудования, по идее, должен был вступить в завершающую пору. Но идеи, несимпатичные Шагалову, в его присутствии, как известно, не срабатывают. Шагалову не нравилась очередность погрузки линий в контейнеры, не нравилась методика герметизации этих контейнеров, не нравилась очередность демонтажа вентиляционных систем, короче говоря, не нравилась сама идея передислокации завода за Урал. Едва я вошел в камеру очистки, Леша Куранов, дежуривший на пульте, нашептал мне с экрана, что Шагалов с утра пытался набить морду трем монтажникам и своему заму, а число сотрудников, которых он оборал от души, точному определению не поддавалось. В любом случае я едва не увеличил оба списка на единичку. Потому что напоролся на Шагалова, как только вышел из камеры, весь хрустящий и блестящий, как целлофан с леденца.
Телесных повреждений и моральных травм мне избежать удалось, но кое-что новое о руководстве Союза, России и о себе, любимом, я узнал – и теперь мне с этим знанием жить.
Не то чтобы я Шагалова сильно успокоил или в чем-то убедил. Относительно здоровым ушел, и то спасибо. Зато на малый совет явился в бодром и почти веселом расположении духа, хоть и опоздал слегка. Впрочем, разговор к тому времени еще не начался: ребята, косясь на Рычева, вполголоса давали распоследние команды сотрудникам, пытавшимся без потерь свернуть лоскутное одеяло Союза для переброски в чуждые пределы. Шепотом рявкали: «Всё!», облегченно выпрямлялись на стульях – и тут же снова скрючивались со словами: «Ну что еще?!»
Рычев смотрел в окно. Вид был не слишком богатым: Вах перекрывался лесопарком, а лесопарк – многоуровневой развесистой крышей спорткомплекса. Зато никто там не суетился и не впадал в разборки либо иные демонтажные грехи. Дворцу спорта суждено было остаться в Союзе – энергетическая автономия многофункционального досугового центра, насколько я знал, госкорпорацию не заинтересовала: разбирать долго, везти тяжело, да и перебьются работяги как-нибудь без бассейнов и спортзалов.
Пять лет назад на берегу Ваха памятником первому Союзу стояло одинокое кирпичное здание нынешней администрации. Второй Союз оставит двойной памятник – кирпичное здание, неузнаваемо уделанное в интересах энергоавтономии, и спорткомплекс. Памятник будет блестящим, рукотворным и окруженным зарастающими народными тропами.
Судьба.
Рычев посмотрел на часы и сказал:
– Пора. Добрый день всем, кого не видел.
И мучительно задумался – видимо, над оправданностью слова «добрый» в приветствии.
Совет ждал.
Рычев все-таки продолжил:
– Мы собрались здесь, чтобы... Галиакбар, а чего мы собрались?
Я уверенно и быстро, чтобы никто не успел процитировать Гоголя, подсказал:
– Подвести итоги, обсудить, что говорить на митинге, снять накопившиеся вопросы и, наверное, попрощаться нормально.
– А. Ну это мы с охотой, – сказал Рычев. – Начинай.
Я даже не удивился.
– Хорошо. Насколько я понимаю, с нашей стороны подготовка к вывозу оборудования практически завершена. Напоминаю, что по плану первый участок вывозится до субботы, потом в течение недели второй и третий. Следующим этапом пойдут жилкорпуса, потом люди. В течение сорока дней должны все завершить. По направлениям во всех подразделениях распределились, списки составлены, в базу заброшены? Хорошо. Эвакуацию начнем сразу после митинга. До того была договоренность эвакуаторов и ликвидаторов сюда не пускать. Вроде товарищи ее выполнили.
Рычев неожиданно попросил:
– И пожалуйста, при мне не говорите этого слова – «эвакуаторы». И «эвакуация» тоже.
Бравин, сидевший у стеночки, почему-то усмехнулся.
Я сказал, стараясь специально не смотреть на Рычева:
– Хорошо. И ко всем просьба: постарайтесь попрощаться без надрыва. Наша задача – объяснить народу, что это не конец всему, не поражение, общее или личное, а обыкновенный переезд Союза по форс-мажорным обстоятельствам.
– Может, кто-нибудь все-таки объяснит нам эти обстоятельства? – прогудел Малов.
Я оглянулся на Рычева.
– Мак Саныч, могу я, но у вас, наверное, полнее выйдет.
Рычев кивнул и неторопливо заговорил:
– Исходные обстоятельства все знают: Союз как таковой Кремлю очень нужен, но некоторые его неотъемлемые характеристики крепко надоели. Нас решили покошмарить, потом взялись всерьез – ну и началось то, что мы все одобрили месяц назад. Теперь форс-мажор: выяснилось, что мы стоим на грани провала. В прямом смысле. Шахта проектировалась и развивалась давно, в разные стороны, без головы, ну и просто не повезло: горизонты с выбранной породой уперлись в ледовые линзы, те начали таять, промышленная активность на поверхности усилила интенсивность таяния, вода пошла вниз и в стороны, поплыл мерзляк. В общем, с севера и северо-востока Союза возникла такая гигантская запятая проседающей породы, дугой тридцать семь километров – это только бесспорные изменения, уже подтвержденные геопробами, сейсмологами и спутниковой съемкой. На третьем и пятом километре северной трассы уже невооруженным глазом все видно – деревья попадали. Синий овраг водой залился и в стороны пошел, ну и трещины в паре мест бездонные. Жуть. Говорят, дальше будет больше: промплощадка точно ухнет вся, северная часть Союза – почти наверняка. Может подтопить берег Ваха, тогда река смоет все остальное.
Зал гудяще вздохнул. Рычев продолжил, глядя в окно:
– Глубина провала ожидается до километра, местами до пяти-семи – ниже крайних горизонтов выработки. Березниковский провал в Пермском крае на картинке все видели? У нас ожидается в разы глубже и на порядок крупнее.
– А станция? – подумав, спросил Егоршев.
Хуснутдинова, я заметил, в зале не было.
– Станция стоит на базальтовом пятачке, клыке таком, но все равно рядом с тектоникой, или как это правильно, – короче, рядом с такими провалами никто ее оставлять не будет. Росатомовские шустрики уже там, все вырубят, смотают и отвезут – еще до первой площадки.
– Понятно, – снова подумав, сказал Егоршев. – То есть мы испугались и быстренько сдались?
Рычев уставился на него, подбирая слова. Я решил опередить:
– Леш, не надо так. Всем фигово, зачем обострять-то? Никто не испугался и не сдавался. Ты испугался? Нет, правильно? И я не испугался. Чего нам бояться и чего терять? Больше раза не убьют, дальше Сибири не пошлют. Вот только мы с тобой, как и все присутствующие, на особом положении находимся. Мы, с одной стороны, вписаны в Союз по самые ноздри, он для нас дело жизни, чести и будущего. Я вон пальцы потерял, ты кровью половину производства залил, все такое. А с другой-то – у нас есть тылы. Есть благоустроенная жизнь на континенте, квартира есть – Слава, давай потом, позволь договорить, – и в конце концов, трудовая книжка и опыт есть, с которым нас любая корпорация с руками оторвет. Так ведь? А у четырех тысяч человек, которые потихонечку сейчас на площади собираются, ничего этого нет. Только Союз есть, в который они приехали по нашей команде и после наших уговоров – и из которого сами не выберутся никогда. Вы что, думаете, нашим дорогим собеседникам западло будет ребят здесь оставить? Типа, сами приехали, сами пусть выбираются? Так их уже один раз оставили, даже кинули, во всех смыслах – помним, да, откуда людей набирали? И еще кинут, легко. Думаете, они понимают, что такое работающий на совесть квалифицированный работник?
– Да уж понимают, наверное, – встрял все-таки Баранов.
– Некоторые понимают, даже многие понимают, но наказать сильнее хотят. И всегда хотели наказать, поставить на место или просто отделить себя от пролетарского быдла. Иначе мы, наверное, никого под наши лозунги не собрали бы, и очередей таких к нам не было бы. Или, думаете, кому-нибудь так сильно наш жилсектор нужен? Это мы, Мак Саныч конкретно, нашим победителям схему «работник плюс дом» навязали. Иначе ребят замечательным образом по баракам распаковали бы – и привет, пожалуйте в цех по гудку.
– То есть мы так весело разбегаемся в интересах широких народных масс? – спросила Даша. – Ай какие мы молодцы.
– Ага, – согласился я. – Можно, конечно, как какие-нибудь техасские сектанты да хоть и наши старообрядцы или там молокане, запереться в скитах с ружьями наперевес и биться за торжество истинной веры в веках. Только у тех ребят в основном семейные предприятия, им последователи не нужны. А мы вроде к большему стремились. Так, может, пора малость отступить, – чтобы был шанс вернуться?
– А сколько народу по стране на площади вышло? – спросил Егоршев.
– В районе тридцати тысяч, так? – сказал я и посмотрел на Бравина.
Он подтвердил:
– Двадцать девять с копейками.
– Ну вот. Это, мягко говоря, не армия, которая позволит воевать.
– А если бы получилась армия, прямо воевать бы начали? – звонко спросила Даша.
– Ну, Даш, ну перестань, – сказал я.
Рычев наконец созрел.
– Алик, военная риторика от меня в основном исходила, и сдал все я – так что мне и объясняться. Я на митинге хотел, но давайте здесь прогоним – раз Алик уже начал тему, а Дарья Вадимовна развивать принялась.
Он вздохнул, взъерошил редкие волосы и принялся рассказывать – спокойно и невесело:
– Все знают про джихад как про войну с неверными, но термин «священная война», если я не путаю, наоборот, крестоносцы ввели, а джихад, большой джихад означает самосовершенствование и мирное донесение истины до ближних. Если ошибаюсь, Галиакбар Амирович поправит.
Галиакбар Амирович успел удержать протяжный фырк и для краткости предпочел кивнуть.
– Ну вот с войной то же самое. Есть смысл воевать за торжество истины в душах, а не за убиение тел. Как задумывался Советский Союз – не наш, настоящий? Как общество социальной справедливости. Получилась Верхняя Вольта с ракетами. Потом решили – нет, мы не Вольта. Ухватились за шанс сделать евро-азиатскую Нигерию с танками. Не упустили, получилась прелестная Нигерия, бананы дешевле яблок, все заморское, в том числе рабочие и дворники, даже сырье иностранцы качают, а мы пьем, окурки под ноги швыряем, гордимся своими и режем чужих, которых все больше. И вот выпал шанс уже нам с вами, чудесный шанс создать в Нигерии маленькую такую Ваймарскую республику. Со своими рабочими, своими технологиями выше мирового уровня, с чистыми улицами и без фашистов. А потом наплодить таких республик, где чисто, где можно собой обоснованно гордиться и никого не резать. У нас этот шанс отобрали. Хотим, значит, быть Нигерией. Знать, судьба такая. Будем ждать новых чудес.
Рычев замолчал, чего-то ожидая. Все смотрели на него, одни с тоской, другие неловко. Рычев незаметно вздохнул и продолжил:
– Чудеса будут, если останутся те, кто помнит о том, что они возможны, чудеса, и о том, в какой стороне их следует искать. Там, где много работают. Там, где все время что-то придумывают. Там, где ценят друзей, где уважают себя как часть общества, где живут любовью, где, в конце концов, нет окурков и алкашей. У нас есть кому это помнить – четыре тысячи человек не шутка, да еще десять тысяч запредельщиков, полсотни тысяч сторонников и вроде бы совсем много всерьез сочувствующих. Сейчас они, правда, больше озабочены своими зарплатами, продовольственным снабжением и вообще благополучием – это я про самых продвинутых и преданных. И готовы драться за все за это, а не за жизнь совсем хорошую. Драться с нами, а не с внешним врагом. А я, знаете ли, готов драться за сторонников, а не с ними. И за себя драться, пока остальные говорят: «А как же наш годовой бонус?» – не готов я к этому. Неинтересно и вообще. То есть здорово, что мы выбили из Кремля выплату всех накоплений народу. Здорово, что жилье при хозяевах осталось, – одним проклятым вопросом меньше, порчи меньше. Здорово, что народ, который кричал: «Не уедем», теперь радостно денежки считает и с фломастерами бегает, чтобы их домовые модули чужим не достались. Здорово, что без драки обошлось, тем более если драка – как джихад в общепринятом, а не правильном понимании. Где кровь надо лить, в смысле.
– Все государства построены на крови, – сказал Баранов в треть голоса, но Рычев услышал.
– Да, все. И башня из слоновой кости кажется красивой, пока не видны горы слоновьих трупов с выдранными бивнями. Но нам это надо? Если да, если это – то я пас.
Он опять помолчал, и его опять никто не подгонял. Просто смотрели.
Тон Рычева чуть изменился:
– Мы не хотели ничего плохого. Мы хотели вернуть людям молодость, счастье, мечту. Мы не сделали ничего плохого. Мы подарили Родине огромный ресурс, производственный, финансовый и моральный. И не наша вина, что даже в связи с этим многие готовы убивать.
Снова пауза – и снова иной тон, к счастью не такой отчаянный:
– Никто не виноват – знать, судьба такая у Союза: хоть его в раю и из мармелада построй, все равно рассыпушка выходит. Слишком многое на слове завязано. А может, просто правы были наши хантские друзья – плохое место невозможно спасать. Здесь, получается, плохое место. Но надежда осталась, это главное. Не у всех, но у многих. А места – они разные бывают. Кто-то ведь говорил, не помню кто, – у Союза дискретное состояние.
Я помнил кто, но подсказывать не стал. И так довольно тускло было.
А стало совсем, правда, ненадолго: свет щелкнул и сбавил яркость – включился так называемый естественный режим.
– Станцию отключили, – вполголоса объяснил Малов.
– Ух ты, – сказал Баранов. – Не выдержали атомщики. Торопятся. А ничего, что без нас? Хоть бы посмотреть пойти надо.
– Не надо, – сказал Рычев.
– Риф там, проследит, – сказал я. – Ладно, проехали. Ребят, Мак Саныч, большая личная просьба – про джихад на митинге ничего не говорите. Нам только с этой стороны наездов не хватало.
Рычев узко улыбнулся:
– Сам хочешь про это сказать? Дарю.
– Не, я пас. И про то, как все шкурные интересы выше общественных поставили, – тоже, пожалуйста, не надо. Вы правы, конечно, со своей и, наверное, с моей точки зрения тоже. Но по большому счету такие слова не очень справедливы и очень несвоевременны. Не надо обижать людей – они ведь всего лишь люди. Потом сами поймут. То есть поймут – хорошо. Не поймут – чего ж ради дергаться вообще. Только ноосферу пачкать.
– А о чем прикажешь говорить? – осведомился Рычев.
– Прикажешь... Чего вы совсем уж. Ну ладно. Да о том, что вы нам, в принципе, сказали, только без негативной и критической части: ребята, так, мол, и так, перед нами стояла дерзкая задача – показать пример. Мы ее решили. Теперь перед нами стоит еще более дерзкая задача: доказать, что этот пример действует для всей страны. Мы очень верим в вас и надеемся, что вы всем покажете. Ура-ура. Встретимся в новом Союзе, совет да любовь. Что-нибудь в таком духе.
– Алик, прекрасная речь. Давай ты ее и произнесешь.
– Не, Мак Саныч. Вы первую речь толкали, за вами и крайняя. А про мою я как раз хотел у вас совета спросить – чуть попозже, хорошо? Ну ладно. Чего еще забыли?
Егоршев, подумав, спросил:
– А с запредельщиками что будет?
– За них как раз не беспокойся, – сказал Рычев. – Промплощадки и сбытовые сети никуда не денутся, вывеску поменяют – и больше для них вообще ничего не изменится.
– А партийная составляющая?
Рычев усмехнулся:
– Тут все интересней. Предмет для переговоров есть, они продолжаются. Само собой, сильный конкурент никому не нужен, убивать жалко и боязно. Короче, как всегда, попытаются в партию власти влить. Клеопатры, ей-богу.
Рычев, решив, что все сказал, легонько затыкал пальцами по столу, поймал недоуменные взгляды и милосердно пояснил:
– Ну, Клеопатра, египетская царица. Она, если помните, разными способами пыталась омолодиться, в том числе переливала себе кровь от юных невольниц. Не помогло.
– Джордж Ромеро представляет Брэма Стокера, – непонятно сказал Баранов, а Егоршев, подумав, усугубил:
– Тогда уж, скорее, Богданов-Малиновский.
Он огляделся в поисках поддержки и сообразил, что объясниться жизненно необходимо.
– Был такой пламенный революционер и создатель института крови. Пытался подарить человечеству бессмертие, переливая трупам живую кровь – и вроде бы наоборот. Умер, когда ставил опыт на себе.
Егоршев помолчал и добавил – в порядке добивания:
– Он еще писатель-фантаст был, написал роман «Красная звезда». Про светлое будущее.
Пауза затянулась – каждый думал, хочется верить, о своем.
Егоршев подытожил, усмехнувшись:
– То есть кремлевские кураторы пытаются со своей партией сделать то же самое, что Малиновский: оживить труп свежей кровью.
– А не то, что мы все пытались то же самое сделать? – поинтересовалась Даша.
На нее посмотрели осуждающе, а Рычев мягко сказал:
– Дарья Вадимовна, в некоторых домах не принято говорить о веревке.
Нависшую паузу громко порвал Баранов:
– Как обидно все-таки. Так все просрать из-за какой-то дырки.
Рычев, тихо свирепея, заметил:
– Эта дырка позволила нам из тупика без крови выскочить, вывести из-под удара толпу народа и минимум одного человека спасти.
– Кого это?
Я быстро посмотрел на Рычева, но он, к счастью, завелся не настолько, чтобы раньше времени светить карты:
– Меня, например. Мне уголовка светила, а теперь я веселый и неприкасаемый. Ура. Все, ребят, пошли, народ ждет.
Я дождался, пока все выйдут из зала, отсигналил Баранову, чтобы не ждал, и подошел к Рычеву. Он сказал, неторопливо надевая куртку:
– Не волнуйся, Алик, на митинге обойдемся без острой критики. Только вперед, и только все вместе. Пусть хотя бы первое время думают, что ни в чем не виноваты, – и катятся по новым местам с чистой совестью.
– Мелкие обыватели и мещане, – подсказал я.