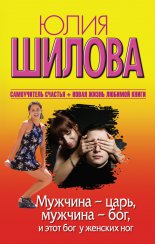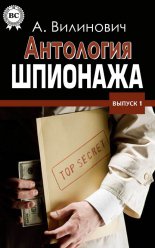СССР™ Идиатуллин Шамиль

– Шаришь. Детишек вот только жалко – трудно им в обычных школах придется. Ладно, зато они с малых лет узнали, как можно жить.
– И теперь с этим знанием будут жить так, как нельзя.
– Зато у них будет выбор, которого у нас не было.
– Выбор есть у всех и всегда, – вежливо сказал я.
– Жалко, что мы с тобой этого не замечаем. На самом деле, Алик, ты прав. Ничего совсем страшного не произошло. Ну, перетащили фабрику с разными железками на тысячу верст в сторону – вместе с людьми. Ну, покинули складку местности, в которой пять лет копошились. Россия – огромная страна, что ей несколько тыщ га. Это совсем не повод корячиться, жертвовать всем, семью чужим людям отдавать, жизнь себе урезать кусочками... Вот ты чувствуешь, что Союз у тебя жизнь откусывал?
Я пошевелил пальцами на ноге, народный изранник, и сказал:
– Ну, если бы сказал, что не чувствую, соврал бы. Только ведь, Мак Саныч, а что у нас жизнь не отнимает? Решительно все. И что мы, слабее от этого?
– Ницшеанствуешь все. Ладно, в твоем возрасте и это нормально, и потери как науку воспринимать тоже нормально. А мне учиться поздновато.
– Учиться никогда не поздно,– назидательно сказал я.
– Давай без глума, – попросил Рычев. – И все-таки я, наверное, слишком злой или слишком старый. Я им никогда сдачу не прощу. Ты думаешь, если бы все были готовы биться, я бы сдался? Я бы сдох. Ради них, веришь? – не ради себя. Но ведь без файды. Им зарплата нужна, отдельная квартира и литр водки каждый день.
Я сказал:
– Нормальное желание.
– Была ведь мечта сделать это ненормальным.
– Мак Саныч, такого рода эксперименты даже в Шумере и Египте провалом кончались, а там гораздо большим временем экспериментаторы располагали.
– Сравнил тоже.
– За последние сорок тысяч лет человек не очень сильно изменился. Особенно в части базовых желаний.
– Ну слушай, ерунда это. Он за последние полста лет изменился – иначе чего бы мы все это затевали? Ты плечами не пожимай, просто подумай: неужели твои ребята – ну, школьники, я имею в виду – к таким же желаниям придут?
Я послушно подумал и поднял руки вверх:
– Победили.
– Хоть здесь, – удовлетворенно сказал Рычев. – Ладно, рассказывай, как ты на митинге выступать будешь и что тебя в этом смущает.
Я присел на столешницу и объяснил:
– Меня, Мак Саныч, смущает, что я не буду выступать на митинге, потому что не пойду на него вообще.
Рычев поднял брови.
– Новость. Почему?
– Я не уезжаю.
– В смысле?
– В прямом. Я остаюсь в Союзе, потому что считаю это правильным лично для себя и для моей семьи. При этом я не считаю правильным трубить об этом. Чего народ с панталыку... Пускай едут.
– Так, – сказал Рычев и сел. – А зачем остаешься?
– Ну, во-первых, это красиво, – напомнил я.
Мы посмеялись.
– Не, в самом деле, здесь красиво, воздух правильный, ребенку лучше. Спортзал есть, опять же. Автономного режима у обоих зданий года на три хватит, а провал, я так понимаю, досюда, – я топнул здоровой ногой, – до весны точно не дойдет. Времени хватит, чтобы придумать чего-нибудь интересное. Может, прекрасный новый мир не только на слезинке замученного ребенка нельзя построить, но и на костях замоченных упырков. Может, прекрасный новый мир, без которого невозможно дышать, не равен потребительскому раю. Может, прекрасный новый мир строится только на смехе счастливого и умного ребенка – и мы на полпути к этой умной радости. Может, не все проклятые места прокляты навсегда. Может, совет да любовь не забываются и возвращают к себе. Поищем, короче.
– Поищем?
– Ну, Славка остается, Егоршев, Паршев, еще несколько... Семнадцать человек уж точно наберем.
– Даша, – спросил Рычев понимающе.
– Хочется верить, что нет, но тут все зависит от пары факторов. Посмотрим, короче. Ну вот, в общем, что сказать хотел.
Рычев помолчал, глядя в стол, потом сказал:
– Да, это красиво. Только я ведь мудак получаюсь, раз не остаюсь с вами.
– Да фигня. На вашем месте я бы вообще в какую-нибудь Исландию свалил и лет пять сползанием ледников любовался. Или вице-премьером каким-нибудь стал бы. Приглашали ведь, признайтесь?
Рычев неопределенно мотнул рукой и жестом попросил продолжать. Я человек послушный.
– Помните, вы как-то спрашивали, не жалею ли я, что попал в Союз? Я тогда сказал, что не жалею – и, по-моему, не объяснил. А теперь пора, наверное, объяснить. Есть такое пошлое выражение: что-то там – девушка, работа, пивбар – это, типа, лучшее, что у меня было. Так вот Союз – это не лучшая вещь, которая у меня была в жизни. Это просто жизнь. Правильная жизнь. Мак Саныч, я очень благодарен вам за то, что она у меня есть. И сделаю все, чтобы, с одной стороны, она была у меня и впредь. А с другой – чтобы право на такую жизнь получили как можно больше наших людей. То есть в прямом смысле – тех людей, которых мы с вами без труда готовы назвать нашими.
– Завидую твоему оптимизму, – сказал Рычев.
Я пожал плечами:
– Понятно, что сейчас вам не до того. Но ничего ведь не кончилось, вы сами понимаете. Это не поражение, а отступление. Вернее, как это лет сто назад говорили – выравнивание линии фронта. Выровняем, оглянемся – и обнаружим, что мы вернулись и все нам рады. Вот над этим способом нам и надо поработать. А вас мы все равно будем ждать. И будем счастливы дождаться. Говорю ж, я в вашу честь сына Азаматуллой назвал.
Рычев на шутку не повелся, а ведь обычно почти хохотал над нею. Медленно, чуть ли не покряхтывая, встал, отодвинул стул и, неуверенно улыбнувшись, сказал:
– Нет, ребят. Уж давайте как-нибудь без меня.
– Мы будем счастливы дождаться вас, – повторил я.
Рычев кивнул, пожал мне руку, резко развернулся и пошел к выходу, к людскому морю, волновавшемуся в ожидании того, кто подтвердит, что все хорошо и под контролем.
А я, чуть подождав, пошел к отползшему от этого моря островку, который предпочел выйти из-под контроля, чтобы все было хорошо.
До вечера и начала экспедиционной оккупации надо было забить оба подвала резервными батареями, которые еще предстояло вытащить и привезти со склада третьей площадки.
Зиму обещали лютую и долгую.
5
Ступай отсель! Разорван наш союз!
Алексей Толстой
– И куда вы теперь?
– И увезут меня туда, где суждено остаться, где от разлуки застывает кровь.
– Я должен узнать цитату?
– Хм. Ну, удиви старика.
– Вертинский. Нет? Ну, Окуджава. Хотя на самом деле на Козьму Пруткова похоже.
– Достаточно. И этого человека я кормил ирисками.
– Не кормили вы меня ирисками, Максим Александрович, это леденец был, у меня горло болело. Ладно, я не об этом. Вы всерьез не соглашаетесь на наше предложение?
– Миша, я согласился, кажется, вообще на все предложения, которые вы мне сделали. Хоть каплю гордости мне оставьте. На развод.
– Да ладно, на все вы согласились. А мы в таком случае вообще... Честно говоря, так нас давно не нагибали.
– Боже мой, Миш, ну в чем вы нагнулись? Вы хотели целиковые технологии – вы их получили, от рабочего чертежа до схемы логистики. Вы хотели всех авторов в функциональном состоянии – получили. Хотели весь производственный цикл вместе с рабочими и складскими остатками – получили. Хотели, чтобы Союза не было, ни в каком виде, – пожалуйста, голый пустырь.
– С двумя зданиями посередке.
– Как приняли, так и сдаем.
– Принимали одно вроде, и без наворотов вокруг и на крыше.
– Считай, что это компенсация за шахту. Или ты хочешь, чтобы мы время еще и на демонтаж того, что не вывезешь, тратили? Я понимаю, это в отечественных традициях: до обеда яму роем, после обеда закапываем. Но может, без лютого маразма обойдемся?
– А почему здание не пустое?
– Ну, во-первых, мы и принимали не пустое – там вообще-то трехсменная бригада шахтеров была. Остается-то сильно меньше. Во-вторых, мы вроде договаривались.
– Договаривались просто о людях – мы думали, хантов местных подселите. А у вас топы остаются, на местных жителей не сильно тянут.
– Ну почему же. Если приглядеться...
– Максим Александрович, я помню, что вы замечательно остроумный человек. А вы, наверное, помните, что у меня чувства юмора нет.
– Оно хорошее, только хромает.
– Н-ну да. Вот вечно вы меня сбиваете. Чуркан, допустим, что там делает?
– Он не чуркан... Впрочем, ладно. Живет с семьей, насколько я понял, у него идея-фикс ребенка в чистом воздухе вырастить. Вот и устроил зимние каникулы для узкого круга.
– М-да. Дауншифт затягивает. У нас ведь на него совсем другие виды были.
– Миш, ну погодите уже. Пусть отдохнет человек. Силком вы его в сортир сходить не заставите, даже если ему приспичит. Вы уж поверьте.
– Да мы уж убедились, что у вас все вязкие, как это самое.
– Значит, он так ничего и не сказал?
– Да какая уже разница?
– Значит, совсем ничего. Я все-таки прав был.
– Вы о чем сейчас?
– Да о своем, стариковском. Когда он выходит?
– Вы как будто торопитесь, Максим Александрович. Не надо торопиться.
– Миша. Мы со своей стороны сделали все, что обещали. От вас того же ждем.
– Так мы и выполняем.
– Я на всякий случай повторю попунктно: выплата сбережений и задолженностей всем сотрудникам Союза: тем, кто уходит, – за вычетом затрат по переезду, тем, кто остается на ваших производствах, – в полном объеме. Это раз.
– Это не раз, это три десятка лямов, за которые еще со всех нас спросят.
– Никто не спросит – вы десятку экспортом за месяц закроете. Полный уголовный и административный иммунитет всем нашим сотрудникам по состоянию на сегодняшний день, и пусть каждый сам выбирает чего хочет и куда пойдет – это два.
– И за это с нас спросят.
– Не о чем спрашивать. И ведь это всё, остальное подпункты.
– Которые не так существенны.
– Миш, ты говорил, у тебя чувства юмора нет. Вот пусть его и не будет – допустим, до конца этой беседы. Ты не ответил, когда он выходит.
– Вот дался он вам.
– Мы своих не бросаем.
– Ой ли. И вообще, чего это он своим стал? Я недавно совсем про другое отношение слышал. С драками, погонями и объявлениями вне закона.
– Когда он выходит?
– На этой неделе он выходит. Дело закрываем за отсутствием, прокурорам фотки дырки покажем, чтобы убедились, что ловить совсем нечего, и пускай гуляет.
– Но прежде...
– Но прежде устроим сеанс связи вашим красавцам. Ей-богу, я абсолютно не понимаю, чего ради вы меня экзаменуете и чего ради мы должны для вас что-то делать, да еще и отчитываться. Моя бы воля...
– Росла бы из меня березка?
– О господи. Нет. Но рукавицы шить вы бы научились. Это ж подумать только – разбазарить несколько процентов ВВП, бюджет целого субъекта федерации, я бы сказал, поставить под угрозу государственную стабильность, затеять парламентский переворот, развратить целый отряд не последних чиновников и без счета рядовых граждан, наконец, оставить в центре страны дырку размером с Садовое кольцо – пришли, нагадили, ушли, красота – и свалить на почетную пенсию.
– Завидно, да? Миша, а что ты будешь делать, если я сейчас резко передумаю уходить на пенсию, приму приглашение, с которого началась наша беседа, встречусь, покаюсь и соглашусь вступить в новую должность? Или даже не соглашусь, только покаюсь и перескажу эти твои слова? Что ты будешь делать, родной?
– Вы меня не пугайте, я, когда испуганный, очень неприятный делаюсь.
– Знакомые слова. Вот чтобы все мы оставались спокойными и приятными, Миша, пожалуйста, исполните ваши обещания. И пацанов моих, пожалуйста, не трогайте.
– А что будет, если тронем?
– Во-первых, все узнают, что вы не держите слово.
– Ах, мы этого не переживем.
– Ну да. А во-вторых, я еще что-нибудь придумаю.
– Это тоже угроза как бы?
– Нет, обещание. Торжественное. Не трогайте, короче. Это, в конце концов, и в ваших интересах. Вы нас пять лет не трогали – ну, почти, будем считать, – и получили три новеньких отрасли экономики, из которых за несколько лет половина ВВП вырастет, не говоря уж о престиже страны и ее роли на мировых несырьевых рынках, в которые вы так рветесь. Кабы не трогали дальше, может, мы бы сейчас с тобой в антигравитационном корабле общались бы.
– Непосредственно в шестой палате.
– Это уж каждый сам выбирает. Не смогли вы удержаться – но теперь чего жалеть. Но вдруг сейчас удержитесь. И вдруг через пяток лет результат получите. Антигравитацию. Лекарства от рака, СПИДа и насморка. Выгодную и невредную утилизацию мусора. Жилкомхоз человеческий. Залатанную дырку посреди страны. Я ничего не обещаю и даже ничего не знаю. Но вдруг.
– Эх, Максим Саныч. Знаете анекдот: такой большой, а в сказки верит?
– Мы рождены. И сказка стала былью.
– Пылью.
– Это уже не у нас. У нас, скорее, быльем поросло.
– Я иногда вас совсем не понимаю. Ладно, боссу, значит, что передать?
– Скажи, я сам позвоню.
– Когда?
– Когда пойму, что нужен.
– Вы и сейчас нужны, считается.
– Не считается. По-настоящему когда потребуюсь – позвоню.
– Он номер сменил.
– А у меня и вовсе номера нет. Пусть совсеть нормально включит.
– Ха.
– Пусть, говорю, совсеть включит поскорее. Я его найду.
– И это, надеюсь, не угроза?
– Даже не обещание. Уверенность. Все, встретимся в Союзе. Совет да любовь.
– Вот вы уп...
Извините, ваш собеседник вышел из совсети. Мы сообщим о его возвращении. Встретимся в Союзе.
Совет да любовь.
ЭПИЛОГ
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело.
Всё те же мы: нам целый мир чужбина...
Александр Пушкин
«Аннушка», захлебываясь смертным ревом, сделала два лишних круга, и Сергей уже стыло подумал: здрасьте, прилетели, надо было все-таки по земле, как привык,– но обошлось. Пилот, грузный кавказец средних лет, проорал посадку – и, спасибо доброму человеку, выполнил ее. Сергей попытался даже поаплодировать, но сразу чуть не улетел башкой в потолок – «Аннушка» неслась по полосе беспечным козлом, так что следовало держать руки при скамье. Да и не услышал бы все равно никто, включая соседей – двух сонных рыбаков в ватных кирасах защитного цвета да суровой бабки с клетчатыми сумками, которые лишних маневров как будто и не заметили.
Соседи слиняли сразу, даже бабка, которую, видимо, у трапа встретил либо взвод внуков, либо самосвальчик. Пока Сергей выковырял лыжи из-под скамьи, пока проделся с ними в узкую дверь под недобрым взглядом спешившего куда-то кавказца, – в общем, к зданию аэропортика пришлось идти в компании сильного ветра с редким снегом – и всё.
Зал ожидания был обшарпан, полупуст и раздражен – причем, похоже, именно Сергеем. Во всяком случае, скучившаяся у выхода с поля группка оглядела последнего пассажира почти возмущенно. Будто это он виноват в опоздании рейса. Опоздание, кстати, ерундовое, так что нечего тут, подумал Сергей, глянув на тусклые старомодные часы в дальней стене, и решительно двинулся сквозь сердитиков. Вышел в центр зала Дедом Морозом, отстукиваясь лыжами, будто посохом, отмахнулся от таксистов, которые и здесь, оказывается, не изведутся никак, поменял сумку с лыжами местами и осмотрелся. Расписание маршруток должно было висеть рядом с будкой, творчески названной «столом информации». Но никакого расписания не было – был белый стенд, самозабвенно замазанный масляной краской поверх кнопочных щербин.
– Слушаю вас, – сказала женщина за не по-здешнему вымытым стеклом.
Сергей улыбнулся – сама вызвалась, надо же, – спросил про маршрутки и получил неожиданно толковый и обстоятельный ответ. То есть сперва застольная тетя уточнила, куда именно ему надо, Сергей, поколебавшись, сказал, и вот тут-то, казалось бы, должны были начаться расспросы и задирания бровей. Но женщина просто объяснила, что северные маршрутки ходят каждые полчаса, но вот именно до Белой Юрты только раз в три часа, и вам как раз повезло – еще двадцать минут осталось.
– А поезда всё? – решил уточнить Сергей, хотя знал и сам.
– Да давно уже, – все так же спокойно подтвердила женщина.
– Спасибо, – сказал Сергей, подхватил сумку и лыжи, но все-таки спросил напоследок – почему-то решил, что обязательно спросить надо. – А «союзники» вообще работают?
Женщина бросила взгляд куда-то перед собой, в сектор, закрытый от просителей подоконной доской, вытащила оттуда на свет божий «союзник», привычно скользнула по нему пальцами и подытожила:
– Нет пока. Ждем.
– Долго ждать?
– На следующей неделе обещали. Только Союза нет, верить, нет, не знаем.
Сергей поблагодарил и повернулся к выходу.
Женщина окликнула:
– Мужчина. Вы как считаете – верить, нет?
– Не знаю, – растерянно улыбнувшись, сказал Сергей и пошел себе, но через шаг остановился, развернулся, шагнул к окошку и вполголоса, как военную тайну, сказал: – Верить надо. Всегда.
Женщина молча изучала его лицо.
Сергей неловко кивнул и застучал лыжами к мутно подсвеченному выходу – солнце лезло в пыльный сумрак тамбура сквозь скверно подогнанную дверь. Но на границе яркого пятна остановился, прищурившись, и снова развернулся к центру зала. Не потому, что хотел все-таки разобрать, показалось ему, или информаторша действительно сказала: «Совет да любовь».
Просто в центре зала стоял и задумчиво смотрел на Сергея Маклаков.
Они хмуро изучали друг друга несколько секунд, потом одновременно тронулись: Маклаков подхватил тощую сумку и направился на посадку, а Сергей с усилием вытолкнул дверь и шагнул в мороз и солнце.
Сергей специально сделал крюк, чтобы пройти вдоль стены, огораживающей насыпь. Поезд будто ждал – тут же выскочил из-за дальнего леса и улетел, оглушительно раскидавшись короткими полыхающими бликами. Закрытый товарняк, вагоны класса СЭ, успел заметить Сергей. Хороший был бы вариант, но ведь пассажирские на этой линии отменены напрочь, а в товарняк поди проберись. В любом случае больше ездить на высокоскоростном товарняке Сергей не собирался – одного раза хватило, слуга покорный, влез помятый, вылез раздавленный, даже в изоляторе неделю лежать разогнувшись не мог.
Не надо об этом.
К тому же возвращаться надо было по правилам.
Кто знает, может, хоть вернуться по-человечески выйдет.
К остановке Сергей подошел одновременно с потертой «газелью» и слегка испугался: под навесом толкалась микротолпа, способная забить салон с горкой. Ждать еще три часа совсем не улыбалось. К счастью, влезли все, как бутылка 0,33 в пол-литровую банку, и пара мест свободных еще осталась. Это не помешало, конечно, рассевшимся теткам зверовато зыркать на то, как Сергей с помощью краснолицего водителя примастыривает лыжи под боковые сиденья, а потом недовольно сторониться, пропуская его к свободному сиденью у задней двери.
Ехать пришлось долго. Сперва Сергей обдумывал похабность варианта, при котором той же маршруткой решили бы ехать соседи из самолета: с одной стороны, бабка с таким багажом просто не влезла бы, с другой – рыбаки могли присесть на пристроенные в проходе рюкзаки, с третьей – равнодушно бросить несчастного попутчика на остановке им было бы сложнее, чем вот этим.
Затем мысли переключились на соседей: интересно, они не терзают мобильные в силу возраста или, как в Иркутске, из-за того, что успели привыкнуть к «союзникам» и предпочитают дождаться их полновесного возвращения?
Отсюда размышления плавно перетекли в варианты встречи и того, что будет дальше. Вариантов было слишком много, и большинство выглядело слишком неудобно – именно неудобно, а не страшно, потому что бояться Сергей так и не научился. Когда круг размышлений стал совсем замкнутым, Сергея окликнул водитель:
– До конечной едем?
– Да-да, – сказал Сергей, встрепенувшись и обнаружив, что остался единственным пассажиром: последняя дама, лязгнув дверью, неторопливо обходила сугроб, подпиравший остановочный павильон с табличкой «Ноябрьский». Крепко думаем, однако. – Долго еще?
– Едем пока, – сказал шофер.
«Газель» с недовольным скрежетом покатилась дальше.
Сергей смотрел в окно. За окном был снег, снег, деревья и снова снег, от которых он успел отвыкнуть. Свежего, союзного воздуха, без которого Сергей особенно загибался все это время, не было: «газель» воняла как «газель» и снаружи оставляла вполне «газелевский» след, что на земле, что в воздухе. Но ноты той свежести, чистоты и пронзительности, которые, оказывается, несли Сергея последние годы и которые все-таки не из одной только газовой смеси лепились, пусть самой чистой и удачной газовой смеси, – эти ноты уже выносили в рабочий режим части головы и души, работающие только в состоянии тихого счастья или острого блаженства.
Предвкусив нарастало.
Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в делах.
– А чего тебе на конечной надо? – крикнул водитель. – Там же тупик, дороги нет и ближайшая заимка через двадцать кэмэ.
– Через двадцать два, – громко поправил Сергей.
– Туда, что ли? – удивился шофер. – На таких лыжах не пройдешь, хантские нужны, там все перепахали как раз от таких лыжников, чтобы в ту сторону не лазили.
– Посмотрим.
– Союз закрыт, туристов не пускают. Там вообще отморозки остались, охрана на психе, чуть что – стреляют. Эвакуаторы, бляха. Не пристрелят, так выгонят – куда денешься-то? Сегодня рейсов больше нет. Замерзнешь, и привет.
– Воронье нам не выклюет глаз из глазниц.
– Чего? – не понял водитель.
– Потому что не водится здесь воронья, – объяснил Сергей.
– А, – сказал водитель и решил больше на психов времени не тратить.
Сергей смотрел вперед и бормотал про снег без грязи, как долгую жизнь без вранья, про вечный полярный день как награду за ночи молчания и последние строки, «наградою для одиночества должен встретиться кто-нибудь», и снова шепотом заводил «все года, и века, и эпохи подряд».
– Конечная, – громко сказал водитель, аккуратно тормозя: дорога здесь была совсем не чищенной. – Выходишь?
– Да, спасибо, командир.
Вытащить лыжи Сергей сумел без посторонней помощи, вылез, помахал рукой тут же развернувшемуся на неровном пятачке водителю и полез, задирая колени, к серебристому павильону, к стене которого был прислонен фанерный щит с надписью «Конечная», неровно выведенной коричневой краской.
Павильон был незаперт и совершенно, шаровым образом опустошен. Не было даже подставок под цветочные горшки, которые Сергей лично ставил здесь два года назад.
Осматриваться Сергей не стал: время поджимало. Обтрясся, переобулся, встал на лыжи, подошел к названию остановки, повалил и оттащил фанеру в сторону. Надпись расколотили и замазали, но «Белая Юрта. СССР – 50 км» вполне читалось.
Поселок разгромили или вывезли подчистую: уж двухсоставной корпус столовой и спортзала должен был обозреваться с трассы – но исчез. Да Сергей по сторонам и не смотрел. Он смотрел на часы. Попрыгал на месте, несколько раз вдохнул-выдохнул сладкий до слипания ноздрей мороз и, хэкнув, пошел на север.
Он не спросил, кто еще есть, кроме Камаловых. Вроде бы точно уехал Бравин – и Кузнецов почему-то сильно не жалел. Вроде бы точно остался Баранов – и Кузнецов его понял. Про Дашку Алик ничего не сказал, поэтому было на что надеяться.
Он не спросил, где будет жить, если поселок стерт с лица земли и карт, а все энергопоставки прекращены, да и некому, кроме солнышка нашего ясного, больше поставлять. Алик на заснеженную поляну не позвал бы.
Он не спросил, есть ли там вообще что делать и чего ради. Алик – зря – не – позвал бы.
Алик сказал, что соберет народ к десяти. Стало быть, покинуть заимку надо было самое позднее в девять. Стало быть, оставалось всего четыре часа на то, чтобы добраться до заимки по бог весть откуда взявшемуся бурелому – впрочем, как раз в связи с его происхождением особых вопросов не было,– передохнуть и развязать поднадоевший обоим узелок.
В общем, времени должно было хватить. Тем более что дорога домой всегда короче.
Дом мог потом переместиться, но в данный момент он был там, где Сергея ждали. Ждали Алик, Элька, Славка и, может быть, Дашка.
Ждал Союз.
Государство – это он, а Союз – это мы. Он прекрасен и вечен, пока мы вместе и пока мы верим.
И горе человеку, когда он один.
А что, как и где – решим.