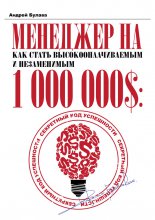7 историй для девочек Чарская Лидия

Часть пятая
I. Гороскоп
Рассказав Генриху Анжуйскому все, что произошло, и, выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Рене.
Впервые после посещения лавки на мосту Святого Михаила Екатерина встретилась со своим астрологом; накануне она послала Рене записку, и теперь он лично принес ответ.
– Ну как? Вы его видели? – спросила королева-мать.
– Да.
– В каком он положении?
– Пожалуй, лучше, а не хуже.
– Он может говорить?
– Нет, шпага перерезала ему гортань.
– Но я же вам сказала – пусть в таком случае напишет.
– Я пробовал; он старался изо всех сил, но его рука успела начертить только две неразборчивые буквы, а затем он потерял сознание. У него вскрыта шейная вена, и от потери крови он совершенно обессилел.
– Вы видели эти буквы?
– Вот они.
Рене вынул из кармана бумагу и подал Екатерине; она торопливо развернула.
– Две буквы – М и О, – сказала она. – Неужели это действительно Ла Моль, а вся комедия, разыгранная Маргаритой, только для отвода глаз?
– Мадам, – сказал Рене, – если я смею высказать свое мнение в таком вопросе, в котором даже ваше величество затрудняется иметь свое, я бы сказал, что месье де Ла Моль слишком влюблен, чтобы серьезно заниматься политикой.
– Вы думаете?
– Да, и в особенности – чтобы преданно служить королю Наваррскому: Ла Моль слишком влюблен в королеву, а настоящая любовь ревнива.
– А вы думаете, что он влюбился в нее по уши?
– Уверен.
– Он прибегал к вашей помощи?
– Да.
– Он просил у вас какого-нибудь любовного напитка?
– Нет, мы занимались восковой фигуркой.
– Пронзенной в сердце?
– Да.
– И эта фигурка сохранилась?
– Да.
– У вас?
– У меня.
– Было бы любопытно, если бы все эти каббалистические заклинания имели то действие, какое им приписывают!
– Ваше величество можете лучше меня судить по результату.
– Разве королева Наваррская любит Ла Моля?
– До такой степени, что не щадит себя. Вчера она спасла его от смерти, не боясь потерять и свою честь, и жизнь. Вот видите, мадам, а вы все сомневаетесь.
– В чем?
– В науке.
– Потому что ваша наука обманула меня, – сказала Екатерина, пристально глядя на Рене.
Но флорентиец выдержал ее взгляд с поразительным спокойствием.
– В каком случае? – спросил он.
– О, вы отлично знаете, о чем я говорю! Впрочем, тут дело, может быть, и не в науке, а в самом ученом.
– Мадам, я не понимаю, о чем вы говорите, – ответил флорентиец.
– А не выдыхаются ли ваши духи, Рене?
– Нет, мадам, когда их получают из моих рук; но если они проходят через другие руки, то возможно…
Екатерина усмехнулась и покачала головой.
– Ваш опиат, Рене, подействовал чудесно: у мадам де Сов еще никогда не было таких красных, таких цветущих губ!
– Мой опиат здесь ни при чем; мадам де Сов, пользуясь правом всех хорошеньких женщин иметь капризы, больше не заговаривала со мной об опиате, а я после наставления вашего величества считал неудобным посылать его от себя лично. Все коробочки стоят у меня дома – те самые, что были и при вас; кроме одной, которая исчезла, но я не знаю, ни кто ее взял, ни с какой целью.
– Хорошо, Рене, когда-нибудь мы еще вернемся к этому, – ответила Екатерина, – а пока поговорим о другом.
– Слушаю, мадам.
– Что нужно знать, чтобы определить продолжительность жизни данного человека?
– Прежде всего день его рождения, его теперешний возраст и под каким знаком зодиака он родился.
– И что еще?
– Нужны его волосы и кровь.
– Значит, если я вам принесу его волосы и кровь, скажу, под каким знаком он родился, его возраст и день рождения, вы узнаете, когда он умрет?
– Да, с точностью до нескольких дней.
– Хорошо! Волосы у меня есть, кровь я достану.
– Этот человек родился днем или ночью?
– Вечером, в пять часов двадцать три минуты.
– Будьте у меня завтра в пять часов: время опыта должно точно совпасть со временем рождения.
– Хорошо, – ответила Екатерина, – мы будем в это время.
Рене откланялся и вышел, как будто не обратив внимания на слова «мы будем», которые указывали, что Екатерина, против своего обыкновения, собиралась явиться не одна. На рассвете следующего дня Екатерина прошла к Карлу.
В полночь она справлялась о состоянии здоровья короля, и ей ответили, что при нем находится мэтр Амбруаз Паре и собирается пустить кровь, если нервное возбуждение не прекратится.
Карл, еще бледный от потери крови и вздрагивая во сне, спал на плече верной кормилицы, которая уже три часа сидела, прислонясь к его кровати, и боялась шевельнуться, чтобы не потревожить своего питомца.
Время от времени на губах больного показывалась пена, и кормилица вытирала ее вышитым платочком из тонкого батиста. У изголовья лежал другой носовой платок, весь в пятнах крови.
Екатерине пришла было в голову мысль завладеть этим платком, но она подумала, что кровь, растворенная слюной, возможно, будет действовать слабее; тогда она спросила у кормилицы, не пускал ли доктор ее сыну кровь, как он предполагал сделать. Кормилица ответила, что кровь уже пускали, что крови вышло очень много и что поэтому Карл два раза терял сознание.
Королева-мать, имевшая, как все принцессы того времени, некоторые познания в медицине, попросила показать ей кровь; сделать это было очень просто, так как Амбруаз Паре велел сохранить кровь для наблюдений.
Кювета с кровью стояла в соседней комнате. Екатерина прошла туда и налила красной жидкости в маленький флакончик, принесенный для этой цели. Затем вернулась, пряча в карманах свои пальцы, кончики которых, испачканные кровью, могли бы выдать ее поступок, оскорблявший святость материнских чувств.
В то же мгновение, когда она появилась на пороге, Карл открыл глаза и был неприятно поражен, увидев свою мать. Припоминая, как это бывает после сна, все свои мысли, проникнутые чувством злой обиды, он сказал:
– А! Это вы, мадам? Так объявите вашему любимому сыну, вашему Генриху Анжуйскому, что прием будет завтра.
– Милый Карл, прием будет тогда, когда вы пожелаете, – ответила Екатерина. – Успокойтесь и спите.
Карл, как бы послушавшись ее совета, действительно закрыл глаза; а Екатерина, дав этот совет, как обычно дают подобные советы только для утешения больного или ребенка, вышла из комнаты. Но едва Карл услышал, что дверь за ней закрылась, он сел на постели и голосом, еще глухим от мучительного приступа болезни, вдруг крикнул:
– Канцлера! Печати! Двор! Все – сюда!
Кормилица, нежно применяя силу, вновь положила голову короля к себе на плечо и попыталась укачать его, точно он был еще ребенком.
– Нет, нет, кормилица, я больше не засну. Позови моих придворных, я хочу поработать сегодня утром.
Когда Карл говорил таким тоном, надо было слушаться. И даже сама кормилица, несмотря на то что ее царствующий питомец сохранил за ней все былые привилегии, не решалась противиться его приказам. Явились все, кого потребовал король, и прием послов был назначен не на завтра, что оказалось невозможным, а через пять дней.
Между тем в назначенный час, то есть в пять часов вечера, королева-мать и герцог Анжуйский отправились к Рене, который, как известно, был предупрежден об этом посещении и успел все приготовить для таинственного действа.
В келье для жертвоприношений стояла жаровня, на ней лежал раскалившийся докрасна стальной клинок, на поверхности которого причудливыми арабесками должны были обрисоваться грядущие события в жизни того, о ком вопрошали оракула. На жертвеннике была раскрыта Книга судеб. Ночь была ясная, и Рене легко мог наблюдать ход и положение светил.
Первым вошел герцог Анжуйский, – он был в накладных волосах, в маске и в широком ночном плаще, скрывавшем его фигуру. Вслед за ним явилась королева-мать. Не знай она заранее, что это ее сын, она его сама бы не узнала. Екатерина сняла маску; герцог Анжуйский остался в маске.
– Ты ночью делал наблюдения? – спросила Екатерина.
– Да, мадам, – ответил Рене, – и звезды уже дали мне ответ о прошлом. Тот, о ком вы вопрошаете, отличается, как и все лица, родившиеся под созвездием Рака, пылким сердцем и беспримерной гордостью. Он могуществен; он прожил почти четверть века; небо даровало ему славу и богатство. Так, мадам?
– Может быть, – ответила Екатерина.
– С вами волосы и кровь?
– Вот они.
И Екатерина передала некроманту русый локон и флакончик с кровью.
Рене взял флакончик, встряхнул его, чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью, и капнул на раскаленный докрасна клинок большую каплю крови, которая тотчас закипела и стала испаряться фантастическими очертаниями.
– О мадам, – воскликнул Рене, – я вижу, как он корчится от жестоких болей. Слышите, как стонет он, точно зовет на помощь? Видите, как все вокруг него становится кровавым? Видите, как вокруг смертного его одра готовятся великие бои? Вот копья, вот мечи…
– И долго будет так? – спросила Екатерина, несказанно волнуясь и останавливая рукой Генриха Анжуйского, который с жадным любопытством наклонился над жаровней.
Рене подошел к жертвеннику и произнес каббалистическое заклинание с таким убеждением, с таким жаром, что на висках у него вздулись жилы, а сам он затрясся от нервной дрожи и задергался в пророческих конвульсиях, вроде тех, какие сотрясали древних пифий, восседавших на треножниках, и не оставляли их до смертного одра.
Наконец он встал и объявил, что все готово, взял одной рукой флакончик, еще на три четверти полный, а другой – локон; затем, приказав Екатерине раскрыть наугад книгу и остановить свой взгляд на первом попавшемся месте, он вылил всю оставшуюся кровь на стальной клинок, а локон бросил в жаровню, произнося каббалистическую формулу, состоявшую из еврейских слов, значения которых он сам не понимал.
Тотчас герцог Анжуйский и Екатерина увидели, как вдоль клинка протянулась какая-то белая фигура, закутанная в саван; над ней склонилась другая, как будто женская фигура. В то же время локон ярко вспыхнул красным острым языком.
– Один год! – воскликнул Рене. – Не больше чем через год этот человек умрет, и его будет оплакивать только одна женщина! Впрочем, там, на другом конце клинка, видна еще одна женщина, и на руках у нее, кажется, ребенок.
Екатерина посмотрела на сына и, казалось, спрашивала его, кто же эти две женщины. Но едва Рене успел произнести эти слова, как стальной клинок побелел, и все рассеялось.
Тогда Екатерина раскрыла книгу наугад и чужим голосом, который она была не в силах изменить, несмотря на все свое самообладание, прочла следующее двустишие:
- Погибнет тот, пред кем трепещет свет,
- Коль позабудет мудрости совет.
Некоторое время царила полная тишина.
– А каковы знамения в этом месяце для лица, тебе известного? – спросила Екатерина через несколько секунд.
– Как всегда, самые благоприятные, мадам. Если только не удастся преодолеть рок, вызвав единоборство одного божества с другим, то будущее обеспечено за этим человеком. Хотя…
– Хотя – что?
– Одна из звезд, входящая в его созвездие, пока я наблюдал ее, была закрыта темным облачком.
– Ага, темным облачком!.. Значит, есть некоторая надежда.
– Мадам, о ком вы говорите? – спросил герцог Анжуйский.
Екатерина отвела сына подальше от света жаровни и шепотом начала ему что-то говорить.
В это время Рене стал на колени и, капнув себе на руку последнюю каплю крови, рассматривал ее при свете горевшей жаровни.
– Странное противоречие, – говорил он, – но оно доказывает, как ненадежны заключения простой науки, которой занимаются рядовые люди! Не для меня, а для всякого другого – врача, ученого, даже для Амбруаза Паре – вот эта кровь чиста, здорова, кислотна, полна животных соков и обещает долгие годы жизни тому телу, из которого она взята; а тем не менее вся ее сила иссякнет быстро – не пройдет и года, как эта жизнь угаснет!
Екатерина и Генрих Анжуйский обернулись и прислушались. Глаза герцога блестели сквозь глазные прорези маски.
– Да, – продолжал Рене, – простым ученым доступно только настоящее, а нам открыто прошедшее и будущее.
– Итак, вы продолжаете утверждать, что он умрет не позже чем через год?
– Так же верно, как то, что и мы трое, еще живущие, когда-нибудь упокоимся в гробу.
– Однако вы говорили, что кровь чиста, здорова, что она пророчит долгую жизнь?
– Да, если бы все шло естественным путем. Но ведь всегда возможен несчастный случай…
– О да! Вы слышите, – сказала Екатерина Генриху Анжуйскому, – возможен несчастный случай…
– Увы! Тем больше оснований мне остаться, – ответил герцог.
– Об этом нечего и думать: это невозможно.
Герцог Анжуйский обернулся к Рене и сказал, изменив свой голос:
– Благодарю! Возьми этот кошелек.
– Идемте, граф, – сказала Екатерина, нарочно дав этот титул своему сыну, чтобы сбить Рене с толку.
И оба посетителя вышли из лавки парфюмера.
– Матушка, посудите, – говорил Генрих Анжуйский, – возможен несчастный случай! А если он произойдет в мое отсутствие? Ведь я же буду от вас в четырехстах милях…
– Четыреста миль, мой сын, можно проехать в одну неделю.
– Да, но пустят ли меня сюда другие? Неужели нельзя мне подождать?!
– Как знать? – ответила Екатерина. – Быть может, несчастный случай, упомянутый Рене, и есть тот самый, который со вчерашнего дня уложил короля в постель? Слушайте, мой милый сын, возвращайтесь отдельно от меня, а я пройду в калитку монастыря Августинок – моя свита ждет меня в монастыре. Ступайте, Генрих, ступайте! И если увидите своего брата, не раздражайте его ни в коем случае.
II. Признания
Первое, о чем узнал Генрих Анжуйский, было решение устроить торжественный въезд польского посольства через четыре дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями и роскошными украшениями, заказанными для него королем.
Меж тем как герцог со слезами злости на глазах примеривал все это великолепие, Генрих Наваррский очень весело разглядывал прекрасное ожерелье из изумрудов, шпагу с золотым эфесом и драгоценный перстень, присланные ему Карлом еще с утра. Герцог Алансонский получил какое-то письмо и заперся у себя в комнате, чтобы прочесть его спокойно, без помехи. А в это время Коконнас расспрашивал о своем друге всех встречных в Лувре.
Коконнас, по понятным причинам, был не очень удивлен отсутствием Ла Моля в течение всей ночи, но утром он уже начал чувствовать некоторое беспокойство и в конце концов решил отправиться на поиски своего друга: сначала он обследовал гостиницу «Путеводная звезда», из «Путеводной звезды» прошел в переулок Клош-Персе, из переулка Клош-Персе перешел в переулок Тизон, из переулка Тизон – к мосту Святого Михаила и наконец от моста Святого Михаила вернулся в Лувр.
Расспросы, с которыми Коконнас обращался к разным лицам, отличались, как это легко себе представить, зная его эксцентрический характер, особенной манерой, – или такой своеобразной, или такой настойчивой, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснения, имевшие конец, обычный в ту эпоху, то есть дуэль. Коконнас провел все три встречи с тем добросовестным усердием, какое он вкладывал обычно в дела такого рода: убил первого и ранил двух других, каждый раз говоря:
– Бедняга Ла Моль, он так хорошо знал по-латыни!
Так что третий, барон де Буасе, упав на землю, сказал ему:
– Ну, ради бога, Коконнас, придумай что-нибудь другое, скажи хоть, что он знал по-гречески!
В конце концов слухи о засаде в коридоре дошли до Коконнаса, и он был сам не свой от горя: ему уже казалось, что все эти короли и принцы убили его друга или бросили в какую-нибудь камеру для смертников. Он узнал, что в этом деле принимал участие и герцог Алансонский. Пренебрегая почтительностью к августейшей особе, Коконнас отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина.
Сначала герцог Алансонский возымел большое желание выкинуть за дверь наглеца, осмелившегося требовать отчета в его действиях, но Коконнас говорил таким резким тоном, глаза его сверкали таким огнем, да и три дуэли за одни сутки создали пьемонтцу такую славу, что герцог раздумал и, не поддавшись первому побуждению, с очаровательной улыбкой ответил своему придворному:
– Милейший мой Коконнас, совершенно верно, что и король, пришедший в ярость от удара серебряным кувшином, и герцог Анжуйский, облитый апельсинным компотом, и герцог Гиз, заполучивший себе в лицо кабаний окорок, сговорились убить месье де Ла Моля; но один благоприятель вашего друга отвел удар. Заговор не удался, даю вам слово принца!
– Уф! – произнес Коконнас, выпуская воздух из легких, как из кузнечного меха. – Уф, дьявольщина! Что хорошо, то хорошо, ваша светлость, и мне бы очень хотелось познакомиться с этим благожелателем, чтобы выразить ему мою признательность.
Герцог Алансонский ничего на это не ответил, а только улыбнулся еще приятнее, чем раньше, предоставляя Коконнасу думать, что благожелатель не кто иной, как сам герцог.
– Ваша светлость, – продолжал Коконнас, – раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории, то завершите ваше благодеяние, рассказав и ее конец. Вы говорите, что хотели его убить, но не убили, – что же с ним сделали? Слушайте, ваше высочество, я человек мужественный, я перенесу дурную весть, говорите! Его, наверно, бросили в какой-нибудь каменный мешок, да? Тем лучше, он будет осмотрительнее, а то он никогда меня не слушался. А кроме того, мы вытащим его оттуда. Камни – помеха не для всех.
Герцог Алансонский покачал головой.
– Самое скверное во всем этом, храбрый мой Коконнас, то, что после ночного предприятия твой друг исчез; и неизвестно, куда он делся.
– Дьявольщина! – воскликнул пьемонтец, снова побледнев. – Если он делся даже в ад, так я и там его найду!
– Послушай, я дам тебе один дружеский совет, – сказал герцог Алансонский, тоже очень желавший, но совсем по другим побуждениям, знать, где находится Ла Моль.
– Давайте, ваше высочество, давайте!
– Сходи к королеве Маргарите, она наверно знает, что сталось с тем, кого ты так оплакиваешь.
– Признаться, ваше высочество, я уже об этом думал, только не решался: мадам Маргарита внушает мне почтение такое, что я не в силах выразить, а кроме того, я еще боялся застать ее в слезах. Но раз ваше высочество заверяете, что Ла Моль не умер и что ее величество королева знает, где он находится, я наберусь храбрости и схожу к ней.
– Иди, мой друг, иди. А когда узнаешь, сообщи мне; я так же беспокоюсь, как и ты. Только, Коконнас, помни об одном.
– О чем?
– Не говори, что пришел к ней от меня: если ты сделаешь эту ошибку, то, возможно, не узнаешь ничего.
– Ваше высочество, с той минуты, как вы советуете держать это в тайне, я буду нем, как рыба или как королева-мать!
– Хороший принц, замечательный принц, великодушный принц, – бормотал Коконнас по дороге к королеве Наваррской.
Маргарита ждала Коконнаса, так как слух об его отчаянии дошел и до нее, а узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонтцу несколько грубое обращение с ее подругой, герцогиней Невэрской, с которой он не разговаривал уже дня три по случаю большой размолвки между ними. Как только доложили о приходе Коконнаса, королева распорядилась его впустить.
Коконнас вошел и не мог побороть смущения, находившего на него всякий раз перед королевой – не в силу ее высокого положения, а в силу ее умственного превосходства, но Маргарита приняла его с улыбкой и сразу успокоила.
– Ах, мадам! – сказал Коконнас. – Верните мне моего друга или хотя бы скажите, что с ним сталось, – я не могу без него жить. Представьте себе Евриала без Нисоса, Дамона без Финтия или Ореста без Пилада! Сжальтесь над моим несчастьем во имя одного из этих героев, сердца которых не превзойдут моего сердца нежностью своей любви.
Маргарита улыбнулась и, взяв с него слово сохранить тайну, рассказала о бегстве в окно. Что же касалось места пребывания Ла Моля, то, несмотря на настоятельные просьбы Коконнаса, она так и не сказала ничего. Коконнас был удовлетворен только наполовину; поэтому он прибег к дипломатическим подходам самого тонкого порядка. Из них Маргарита ясно поняла, что герцог Алансонский желал не меньше своего придворного узнать о дальнейшей судьбе Ла Моля.
– Если уж вы хотите непременно знать что-нибудь определенное о вашем друге, – посоветовала Маргарита, – спросите у короля Наваррского, только он имеет право об этом говорить; я же могу сказать вам лишь одно: друг ваш жив, верьте моему слову.
– Я верю еще более очевидному, мадам, – ответил Коконнас, – ваши прекрасные глаза не заплаканы.
Затем, полагая, что больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью – ясностью мысли и выражением его высокого мнения о достоинствах Ла Моля, – Коконнас вышел и стал обдумывать способ примирения с герцогиней Невэрской, не ради нее лично, а с целью узнать то, чего не могла знать Маргарита.
Большая скорбь – состояние ненормальное, поэтому человек стремится стряхнуть с себя этот гнет возможно скорее. Первоначально мысль о разлуке с Маргаритой сокрушала сердце Ла Моля, и он согласился бежать не столько ради сохранения своей жизни, сколько для того, чтобы спасти доброе имя королевы. И вот уже на следующий день к вечеру Ла Моль вернулся в Париж, чтобы полюбоваться своею королевой, когда она выйдет на балкон. В свою очередь, Маргарита, точно какой-то тайный голос ей сообщил о возвращении молодого человека, провела весь вечер у окна; и оба вновь увидели друг друга с тем несказанным чувством счастья, какое обычно сопутствует запретным радостям. Склонный к романтической грусти, Ла Моль находил даже известную прелесть в постигшей их невзгоде. Но любовник, увлеченный настоящим чувством, бывает счастлив лишь в то время, когда любуется или обладает предметом своей любви, но страдает, когда с ним разлучен; поэтому Ла Моль, горя желанием опять соединиться с Маргаритой, спешно занялся подготовкой того события, которое должно было вернуть ему любимую женщину, – подготовкой бегства короля Наваррского.
Маргарита тоже отдавалась счастью быть любимой с такой чистой, бескорыстной преданностью.
Часто она сердилась на себя за то, что сама считала слабостью, презирая своим мужским умом скудость обывательской любви; она была чужда тем мелким радостям, в которых чувствительные души видят самое сладостное, самое желанное, самое утонченное счастье, а в то же время считала счастливым тот день, если часам к девяти вечера, одевшись в белый пеньюар и выйдя на балкон, вдруг замечала там, во мраке набережной, фигуру всадника, который прикладывал свою руку то к сердцу, то к губам, а она только многозначительно покашливала, пробуждая в милом воспоминание о любимом голосе. Иногда ее маленькая ручка размахивалась и бросала комок бумаги, заключавший в себе какую-нибудь драгоценную вещицу, – драгоценную не стоимостью, а тем, что принадлежала тому, кто ее бросил. Вещица звонко падала на мостовую к ногам Ла Моля, и он как коршун бросался на добычу, прижимал ее к сердцу и пускался в обратный путь; а Маргарита не уходила с заветного балкона, пока не затихал во мраке ночи топот лошади, которая скакала сюда во весь опор, а удалялась так, как будто была сделана из того же материала, что и прославленный троянский конь.
Вот почему королева Наваррская не тревожилась за участь Ла Моля, но, опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий «по-испански», которые и продолжались каждый вечер, вплоть до приема польских послов, отложенного на несколько дней по настояниям Амбруаза Паре.
Накануне приема, около девяти часов вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон; но едва она показалась, как Ла Моль, не дожидаясь, пока она бросит ему записку, и, видимо, очень торопясь, сам бросил ей письмо, которое и упало, как всегда, к ногам его возлюбленной. Маргарита сразу поняла, что послание заключает в себе что-то необычное, и вернулась к себе в комнату, чтобы прочесть. На оборотной стороне первой страницы было написано: «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду».
А на обороте второй страницы, которую можно было отделить от первой: «Мадам, сделайте так, чтобы я мог поцеловать вас не воздушным, а настоящим поцелуем. Жду».
Маргарита едва успела пробежать глазами вторую часть письма, как услышала голос Генриха Наваррского, который с обычной осторожностью постучал в общую входную дверь и спрашивал Жийону, можно ли войти.
Королева разорвала письмо на две половинки, одну спрятала за корсаж, другую сунула в карман, подбежала к окну и, затворив его, быстро прошла к двери.
– Входите, сир, – сказала Маргарита.
Как ни тихо, быстро и ловко она захлопнула окно, легкий шум все-таки дошел до слуха Генриха, у которого все чувства, крайне напряженные в придворной обстановке, заставлявшей его быть постоянно начеку, приобрели в конце концов почти ту же остроту, какая развивается у дикарей. Но король Наваррский не принадлежал к числу деспотов, которые не позволяют своим женам дышать свежим воздухом и любоваться звездами.
– Мадам, – сказал он, – пока придворные примеряют торжественные одеяния, мне вздумалось обменяться с вами мыслями о моих делах, надеясь, что вы продолжаете считать их вашими, не так ли?
– Конечно! – ответила Маргарита. – Ведь наши общие интересы остаются теми же?
– Да, мадам, поэтому-то мне и хотелось вас спросить, как вы смотрите на то обстоятельство, что герцог Алансонский за последние дни нарочно избегает меня, а третьего дня даже уехал из Лувра в Сен-Жермен. Объясняется ли это намерением бежать отсюда одному – благо за ним не следят, или же намерением остаться здесь? Ваше мнение, мадам? Признаюсь, оно будет иметь большой вес для утверждения моего собственного мнения.
– Ваше величество имеете полное основание беспокоиться молчанием моего брата. Я думала об этом сегодня целый день, и мое мнение такое: изменились обстоятельства, а в связи с этим и он переменился.
– Иными словами, увидав, что король Карл заболел, а Генрих Анжуйский стал польским королем, он почел за благо оставаться в Париже и приглядывать за французской короной?
– Совершенно верно.
– Отлично, пусть остается здесь. Это все, что мне нужно. Но это меняет весь наш план, так как теперь для моего бегства мне требуется гарантий втрое больше, чем если бы я бежал вместе с вашим братом, который обеспечивал мне безопасность своим присутствием и своим именем. А что меня поражает, так это молчание де Муи. Пребывать в бездействии совсем не в его привычках. Нет ли о нем каких-нибудь известий у вас, мадам?
– У меня, сир? – удивленно спросила Маргарита. – Откуда же?
– Э, моя крошка! Это могло быть очень просто: чтобы сделать мне удовольствие, вы соблаговолили спасти жизнь Ла Молю… Этот мальчик должен был уехать в Мант… А когда люди уезжают, то могут и вернуться…
– А-а! Вот где ключ к загадке, которую я тщетно пыталась разгадать! – ответила Маргарита. – Я оставила у себя окно открытым, а когда вернулась в комнату, то нашла на ковре какую-то записку.
– Ну вот видите! – сказал Генрих Наваррский.
– Но сначала я в ней ничего не поняла и не придала ей никакого значения, – продолжала Маргарита. – Может быть, я не сообразила и она от де Муи?
– Возможно, – ответил Генрих, – я даже решаюсь утверждать, что это очень вероятно. Нельзя ли мне посмотреть вашу записку?
– Конечно, сир, – сказала Маргарита, подавая ему ту половинку, которую сунула в карман.
Король Наваррский взглянул на записку и спросил:
– А разве это почерк не Ла Моля?
– Не знаю, – ответила Маргарита, – мне показалось, что почерк только подделан под его.
– Все равно прочтем, – сказал Генрих и прочел: «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду». – Ага! Вот как! – продолжал Генрих. – Видите, он ждет!
– Конечно, вижу, – сказала Маргарита. – Но чего же вы хотите?
– Эх, святая пятница! Хочу, чтобы он пришел сюда.
– Пришел сюда?! – воскликнула Маргарита, удивленно глядя на мужа красивыми глазами. – Как можете вы говорить такие вещи, сир? Человек, которого король хотел убить, человек приговоренный, обреченный… А вы говорите, чтобы он пришел сюда? Мыслимо ли это? Двери не для тех, кому пришлось бежать…
– В окно… хотите вы сказать?
– Вы совершенно верно закончили мою мысль.
– Ну что ж! Если путь в окно ему знаком, пускай воспользуется им, раз он не может входить в двери. Ведь это очень просто.
– Вы так думаете? – спросила Маргарита, краснея от мысли свидеться с Ла Молем.
– Уверен.
– Но как же сюда влезть? – спросила Маргарита.
– Неужели вы не сохранили веревочную лестницу, которую я вам прислал? Ай-ай! Не узнаю вашей обычной дальновидности.
– Конечно, сохранила, сир.
– Тогда все превосходно! – ответил Генрих.
– Жду приказаний вашего величества, – сказала Маргарита.
– Они очень просты, – ответил Генрих. – Привяжите лестницу к балкону и спустите вниз. Если это де Муи, как хочется мне думать… то он надежный друг, и коли найдет нужным лезть, так влезет.
И, не теряя спокойствия, Генрих Наваррский взял свечу, чтобы посветить Маргарите, пока она будет искать лестницу; но искать пришлось недолго – она оказалась спрятанной в знаменитом кабинете.
– Она самая, – сказал Генрих. – Теперь, мадам, я попрошу вас, если только не слишком злоупотребляю вашей любезностью: привяжите эту лестницу к балкону.
– Почему я, а не вы, сир?
– Потому что лучшие заговорщики – это те, которые наиболее осторожны. Появление мужчины может напугать нашего друга. Понятно?
Маргарита улыбнулась и привязала лестницу.
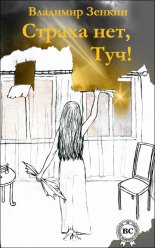

![Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]](/book/mini/29244.jpg)